XXIII
Счастье в пути
Однажды я сел на свою лошадку Отраду и поехал вдоль радующих взор склонов Юрских гор.
Было это в самые жестокие дни революции, и направлялся я в Доль, к комиссару Проту, надеясь получить у него охранное свидетельство, которое уберегло бы меня от тюрьмы, а затем, возможно, и от эшафота.
Добравшись часам к одиннадцати утра до гостиницы в городке или деревне Мон-су-Водре, я сначала велел позаботиться о моей лошади, после чего, пройдя на кухню, был поражен зрелищем, взирать на которое ни один путешественник не смог бы без удовольствия.
Возле жаркого огня крутился вертел с нанизанными на него великолепными перепелками, настоящими королями перепелок, и маленькими пастушками – зеленоногими коростелями, которые всегда так жирны. Эта столь изысканная дичь изливала последние капли жира на огромный гренок, вид которого выдавал руку охотника; а совсем рядом лежал уже зажаренный один из тех молодых круглобоких зайчиков, что неизвестны парижанам, но чей аромат наполнил бы благоуханием целую церковь.
«Прекрасно! – подумал я, оживившись от увиденного. – Провидение не совсем обо мне забыло. Сорвем-ка этот цветок мимоходом, умереть я еще успею».
Тогда, обратившись к хозяину, который все это время насвистывал, заложив руки за спину и прогуливая по кухне свою гигантскую фигуру, я спросил:
– Милейший, что хорошего вы подадите мне на обед?
– Только хорошее, сударь: хорошее разварное мясо, хороший картофельный суп, хорошую баранью лопатку с хорошей фасолью.
Дрожь разочарования пробежала по моему телу, когда я услыхал столь неожиданный ответ, ведь известно, что я никогда не ем разварного мяса, ибо оно лишено сока; картофель и фасоль ведут к ожирению, а что до бараньей лопатки, то я не чувствовал достаточно стали в своих зубах, чтобы вгрызаться в нее. Это меню было словно нарочно оставлено, чтобы привести меня в отчаяние, и все мои невзгоды снова обрушились на меня.
Хозяин насмешливо на меня поглядывал, словно догадавшись о причине моего разочарования…
– И для кого же вы предназначили всю эту прекрасную дичь? – спросил я его с совершенно раздосадованным видом.
– Увы, сударь! – ответил он сочувственным тоном. – Я не могу ею распоряжаться, все это принадлежит господам судейским, которые здесь вот уже десять дней, ради какого-то освидетельствования, в котором очень заинтересована одна очень богатая дама; вчера они закончили дело, вот и пируют, чтобы отметить счастливое событие; мы здесь называем это «малость покуролесить».
– Сударь, – сказал я, подождав несколько мгновений, – не откажите в любезности: передайте этим господам, что человек из приличного общества просит их милостивого разрешения отобедать вместе с ними и что он возьмет на себя свою долю расходов и будет им за это крайне обязан.
Выслушав меня, он ушел и более не возвращался.
Но вскоре я увидел, как в кухню проник некий толстячок – свежий, щекастенький, приземистый и жизнерадостный, он порыскал по кухне, передвинул несколько предметов обстановки, поднял крышку какой-то кастрюли и исчез.
«Прекрасно, – подумал я, – вот и братец-смотритель подоспел, – видать, пришел ко мне присмотреться!» У меня появилась надежда, ибо я уже знал из опыта, что моя наружность людям не противна.
От этого сердце у меня билось не меньше, чем у кандидата в конце подсчета голосов на выборах, но тут снова появился хозяин и объявил мне, что господа польщены моим предложением и ждут только меня, чтобы усесться за стол.
Я поспешил к ним, пританцовывая, и меня встретил самый лестный прием, а через несколько минут я уже совсем освоился.
Что это был за славный обед!!! Не буду пускаться в подробности, но должен достойно упомянуть прекрасное фрикасе из цыпленка, какое можно найти только в провинции, и столь богато начиненное трюфелями, что их вполне хватило бы, чтобы снова омолодить одряхлевшего Титона.
Состав жаркого уже известен; на вкус оно было ничуть не хуже, чем с виду, и поспело в самый раз, а единственная трудность, с которой я столкнулся, заключалась в том, чтобы еще больше превознести его вкус.
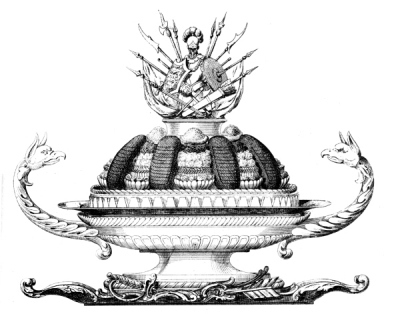
Десерт состоял из крема с ванилью, отборного сыра и превосходных фруктов.
Мы оросили все это сначала легким вином гранатового цвета, потом вином эрмитаж, еще позже вином соломенного оттенка, тоже мягким [вместо (сладким) здесь имеется в виду нетерпким; но уж никак не сладким, иначе у нас получится тоже сладким, а значит, и остальные вина были сладкими, что для французов невозможно в принципе] и щедрым [вместо (крепким) здесь имеется в виду не крепость, а богатство букета]; и все это было увенчано очень хорошим кофе, приготовленным тем самым жизнерадостным смотрителем, он же не позволил нам пропустить ни одного верденского ликера из своего дорожного поставца, отомкнув его ключом, который постоянно носил при себе.
Обед был не только хорош, но еще и очень весел.
Поговорив с подобающей осмотрительностью о делах того времени, эти господа стали подшучивать друг над другом, и шутки эти отчасти раскрыли мне некоторые подробности их биографии; но они мало говорили о деле, которое их объединило, больше рассказывали всякие байки и пели; я тоже к ним присоединился благодаря нескольким никому не известным куплетам и даже присочинил еще один экспромтом, отчего мне, как водится, изрядно рукоплескали; вот этот куплет:
(На мотив «Кузнеца»)
Как славно, уйдя на рассвете,
На долгом-предолгом пути
Друзей-собутыльников встретить
И бодро к привалу идти!
А вскоре в хмельном окруженьи,
Веселою сбившись гурьбой,
Заняться презнатным уменьем —
Любимою нами гульбой!
Это ж сущее блаженство —
Добиваться совершенства!
Пару дней иль месяцок,
Горюшка не зная,
А там, глядишь, – и целый год,
Судьбу благословляя!
Если я привожу здесь этот куплет, то не потому, что считаю его превосходным, – я, благодарение небу, написал и другие, получше, так что переделал бы его, если бы захотел; но я предпочитаю оставить его в импровизированном виде, дабы читатель убедился, что тот, кого преследовал Революционный комитет, мог веселиться и дурачиться таким образом и что у него, без всяких сомнений, были голова и сердце француза.
Мы просидели за столом уже четыре часа и начали подумывать о том, как закончить этот вечер; и решили совершить длинную прогулку, чтобы помочь пищеварению, а вернувшись, сыграли бы партию в ломбер в ожидании вечерней трапезы из оставленных про запас форелей и еще вполне соблазнительных остатков обеда.
На все эти предложения я был вынужден отвечать отказом, поскольку солнце, клонившееся к горизонту, предупреждало меня об отъезде.
Господа настаивали, покуда позволяла учтивость, и отступились, когда я заверил их, что путешествую не совсем ради собственного удовольствия.
Как вы уже догадались, они и слышать не хотели о моем взносе за обед; так что, не задавая мне неуместных вопросов, просто пожелали увидеть, как я сяду на лошадь, и мы расстались, сказав друг другу самые сердечные слова прощания.
Если кто-то из тех, кто меня принял тогда, все еще живы и если эта книга попадет им в руки, я хочу, чтобы они знали: даже спустя тридцать с лишним лет я писал эту главу с чувством самой искренней благодарности.
Счастье никогда не приходит в одиночку – вот и моя поездка принесла мне успех, на который я почти не надеялся.
Сказать по правде, я нашел комиссара Прота сильно предубежденным против меня: он смотрел на меня таким мрачным взглядом, что я уж было подумал, не велит ли он меня арестовать; однако отделался лишь испугом, и после нескольких разъяснений с моей стороны мне показалось, что его черты даже немного смягчились.
Я не из тех, кого страх делает жестоким, и не думаю, что этот человек был злым; просто он вообще был не слишком способен к чему бы то ни было и не знал, что делать с грозной властью, которая ему досталась; это был ребенок, вооруженный палицей Геркулеса.
Г-ну Амондрю, чье имя я начертал здесь с изрядным удовольствием, было, наверное, довольно тяжело склонить этого Прота принять приглашение на ужин там, где, как было условлено, должен был оказаться и я; тем не менее он явился, хотя и встретил меня отнюдь не так, чтобы это могло меня удовлетворить.
Г-жа Прот, к которой я подошел, чтобы засвидетельствовать свое почтение, приняла меня разве что чуть менее дурно.
Но обстоятельства, в которых я ей представился, допускали, по крайней мере, некоторое любопытство.
С первых же фраз она спросила меня, люблю ли я музыку. О нежданное счастье! Казалось, для нее самой музыка была сущей отрадой, а поскольку я и сам весьма неплохой музыкант, то с этого мгновения наши сердца стали биться в унисон.
Мы проговорили до самого ужина, и оба, что называется, воодушевились. Она рассказала мне об имевшихся у нее сочинениях по композиции – я знал их все; она говорила о самых модных операх – я знал их наизусть; она называла самых известных авторов – с большинством из них я виделся. Она не умолкала, ибо уже давно не встречала никого, с кем могла бы поговорить о своем любимом предмете, и, хотя рассуждала о нем по-любительски, я узнал за это время, что она была учительницей пения.
После ужина она послала за своими нотными тетрадями; она пела, я пел, мы пели; никогда я не прилагал большего старания, никогда не получал большего удовольствия. Комиссар Прот уже несколько раз заговаривал о том, чтобы удалиться, но она не обращала внимания, и мы звучали как две трубы из дуэта в «Неверной магии».
Помните ль вы, как средь празднества
Вдруг объявили приказ об уходе?
Пора было заканчивать; но в тот момент, когда мы уже расставались, г-жа Прот сказала мне: «Гражданин, тот, кто относится к искусству так, как вы, – свою страну не предаст. Я знаю, вы о чем-то просили моего мужа – вы это получите, я вам обещаю».
После столь утешительной речи я поцеловал ей руку со всем жаром моего сердца; и действительно, уже назавтра утром я получил свое охранное свидетельство, надлежащим образом подписанное и с восхитительными печатями.
Так была достигнута цель моего путешествия.
Я вернулся к себе с высоко поднятой головой; и благодаря Гармонии, этой прелестной дочери Неба, мое вознесение к нему было отложено на изрядное количество лет.

