Глава 11. Джона
Тео мог бы стать художником по стеклу, если бы захотел. Он был талантлив и совершенно бесстрашен. Он любил огонь, но ненавидел хрупкость стекла. Тео нравилось постоянство. Он работал с густыми черными чернилами, пробивал кожу, заставлял ее кровоточить, чтобы чернила остались в ней навсегда. Отец считал, что он растрачивает свой невероятный талант художника, работая с татуировками, но эта работа была как раз для брата.
Мы трудились почти в тишине: несмотря на рев и шипение печи, в горячей мастерской было тихо, и мои мысли вернулись к нашему разговору, к Тео, который был со мной во время болезни, во время предательства Одри. Она не бросила меня, просто сказала Тео, а затем уехала из города, так что новость сообщил мне брат.
Я катал трубку в руке, наблюдая, как пламя обволакивает ее, заставляя раскаляться добела…
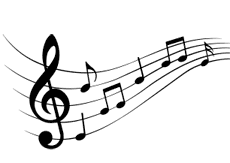
Я сидел на стуле в кабинете доктора Моррисона. Не в той белой смотровой, где он обычно меня принимал, с длинным белым столом и маленьким подносом с инструментами, латексными перчатками и шприцами в индивидуальных упаковках. Эта комната предназначалась для пациентов, которые получали лечение. Пациентов, которые все еще боролись.
Сегодня я был в личном кабинете доктора Конрада Моррисона – сердечно-сосудистого хирурга и специалиста по трансплантации сердца. Это было не поле боя, а место, где выпивали шампанское победы… или поднимали белые флаги капитуляции.
Тео сидел рядом, ссутулившись, грызя ноготь большого пальца и стуча ногой. Я чувствовал, как энергия младшего брата выплескивается наружу. Он взял желтый отблеск своего страха и разжег, пока тот не раскалился докрасна, готовый вспыхнуть.
Я ожидал, что меня охватит ужас. Но я ничего не чувствовал. Никакого страха. Даже его. Я ушел за границу страха. Будто онемев.
Мы прождали в кабинете пять минут. Я смотрел, как часы отсчитывают каждую минуту. Пять минут, которые казались годами, а у меня не было времени. Дверь открылась, и вошел мрачный доктор Моррисон с папкой под мышкой. Мое позаимствованное сердце ударилось о грудную клетку, разрушая оцепенение. Я сразу захотел вернуть его. Ничего не чувствовать было лучше, чем окунуться в пронизывающий до костей ужас.
Я вцепился в подлокотники кресла, чтобы не соскользнуть вниз.
Доктор Моррисон был похож на преподавателя обществознания в восьмом классе: лет пятидесяти, с редеющими волосами, высокий и долговязый. У него был острый взгляд. Глаза хирурга, в которых отражались богатство медицинских знаний и опыта.
Он слабо улыбнулся и протянул руку для рукопожатия.
– Джона. Рад тебя видеть. Простите, что задержал вас.
Я приподнялся на ватных ногах и пожал ему руку.
– Никаких проблем, – сказал я, разглядывая папку, зажатую у него под мышкой. В ней были анализы тканей, диагностика, анализ крови, лабораторные исследования, информация о срочной операции, длинный список иммунодепрессантов и, наконец, результаты биопсии. Их было семнадцать. Восемнадцатая была накануне. Ее результаты будут решающими.
– Тео, – кивнул доктор Моррисон. Он не протянул руку, и Тео не поднялся со своего места, только кивнул в ответ. Его нога начала отстукивать ритм быстрее. Доктор Моррисон повернулся ко мне: – Результаты вашей последней биопсии – не такие, на которые мы надеялись…
Он заговорил, и я услышал слова, вереницу медицинских терминов, с которыми я так часто встречался за последний год, так что мне не требовался перевод для дилетантов. Такие слова, как атеросклероз, стеноз, васкулопатия сердечного аллотрансплантата и ишемия миокарда. Сплетение латыни с английским, соединенное наукой и авторитетом и собранное наконец воедино, чтобы вынести диагноз.
– Мне очень жаль, Джона, – голос доктора Моррисона был тяжелым и низким, – жаль, что у меня нет новостей получше.
Я молча кивнул. Мне придется рассказать маме.
Эта мысль глубоко проникла в меня, как кипящий яд, выжигая последнее оцепенение. Меня чуть не вырвало прямо на колени. Каким-то образом мне удалось заговорить.
– Как долго?
Доктор Моррисон сцепил пальцы:
– Учитывая быстрое развитие болезни, шесть месяцев – весьма щедрая оценка.
Я кивнул, мысленно прикидывая в уме.
Шесть месяцев.
Моя художественная инсталляция должна быть закончена для выставки в галерее в октябре, через пять месяцев.
Времени у меня в обрез.
Тео вскочил со стула, возвращая меня в настоящее. Он вышагивал, как пантера, не сводя темных глаз с доктора Моррисона. Боль в его голосе поражала:
– Шесть месяцев? Что случится за эти шесть месяцев? Ничего. К черту ваши шесть месяцев. Он возвращается в список, верно? Список доноров? Если это сердце не работает, тогда вы даете ему другое.
Доктор Моррисон поджал губы.
– Есть некоторые этические последствия…
– К черту последствия, – сказал Тео, – если он есть в списке, значит, есть. Появляется новое сердце, и он его получает. Верно? – он повернулся ко мне с горящими глазами. – Правильно?
Я не мог взять еще одно сердце, отобрав у кого-то из ожидающих возможность прожить с ним долгую и счастливую жизнь. У меня был редкий тип тканей. Самый редкий. Найти донора, который был бы близок к такому же, было почти невозможно. Тринадцать месяцев назад, стремясь спасти мою жизнь, они дали мне лучшее сердце, какое только могли, самое близкое, и моя иммунная система разрушила его. И она сделает то же самое с другим.
– Да, Джона снова в списке, – он повернулся ко мне: – Но твой редкий тип ткани снова будет фактором, и хроническое отторжение проявится снова, а то, как ваши почки справляются с иммунодепрессантами… Я не могу обещать, что совет директоров одобрит повторную имплантацию…
Я чувствовала гнев Тео, он был словно горячий ветер в спину.
– Что значит – не одобрит? Они просто… они позволят ему… – Он был на грани, я слышал и больше не мог этого выносить. Я должен был защитить младшего брата, как и всегда. Беречь его. Я поднялся на ноги, теперь мои ноги были сильными.
– Спасибо, доктор Моррисон, – я протянул руку, – мы будем на связи.
Доктор Моррисон тоже встал, но не пожал мне руку. Вместо этого он по-отечески потрепал меня по щеке, – я буду молиться за тебя, Джона.
– Молитва, – выплюнул Тео на стоянке, – какого хрена, а? Что хорошего в молитвах? Он же ученый. Ему нужно затащить свою задницу в лабораторию или еще куда-нибудь и придумать, как остановить этот чертов отказ сердца.
И тут меня осенило. Все это. Словно молния ударила в макушку и рванула вниз, едва не разрубив пополам.
Я схватил Тео за руку, и он резко остановился.
– В чем дело? Джона? Скажи, в чем дело?
Я притянул его ближе, кровь прихлынула к мозгу, и слова вырвались из легких порывом воздуха. Голова распухла. Я чувствовал, как время бежит мимо, секунда за секундой, а я еще не мог закончить. Я еще не закончил.
– Помоги мне, Тео.
– В чем дело?
– Ты должен мне помочь.
– Ты… тебе нужен доктор?.. – он обвел взглядом ряды припаркованных машин, готовый позвать на помощь.
– Ни один врач. Больше нет. Тео, послушай меня. Мне нужна твоя помощь.
– Расскажи мне, – попросил он, – что тебе нужно? Что угодно, Джона.
– Помоги мне закончить, – сказал я, сверля его взглядом, – я должен закончить ее, Тео. Инсталляцию. Несмотря ни на что. Мне нужно оставить после себя что-то.
– Не говори так, – сказал он, – ты никуда не исчезнешь…
Я должен был заставить его понять. Я обнял брата, крепко прижал к себе. Он был твердым и настоящим, в то время как я уже рассеивался в воздухе, частица за частицей.
– Не дай мне исчезнуть, Тео. Пожалуйста. Помоги мне… – глаза Тео вспыхнули от моих слов, и он болезненно сжал мне руки.
– Я помогу тебе, – сказал он сквозь стиснутые зубы, – я помогу тебе. Все, что ты хочешь или в чем нуждаешься… я здесь. И ты тоже. Ты не исчезнешь, Джона. Черт возьми, не так.
Я кивнул и сделал несколько глотков воздуха.
– О’кей. Хорошо, спасибо. Прости, я запаниковал, но теперь все в порядке. Извини. Пойдем. Теперь мы можем идти.
Я пошел дальше, и ему ничего не оставалось, как последовать за мной. Я чувствовал, он наблюдает, как ястреб. Его твердость еще больше успокаивала. Не его гнев был щитом между ним и миром, а то, что лежало под ним. Его преданность тем, кого он любил. Непоколебимый и нерушимый. Постоянный.
Кровь отхлынула от головы, и мое одолженное сердце успокоилось. И все же с каждым ударом оно отсчитывало время. У меня было конечное число импульсов, которые можно было сосчитать и измерить.
Шесть месяцев.
– Я справлюсь, – подумал я, когда мы забрались в пикап Тео. Если я составлю расписание и буду придерживаться его. Если бы я работал столько, сколько мог, без остановок, я бы сделал это. Я бы оставил что-то после себя. Я бы не просто дышал, а использовал свой воздух, чтобы наполнить и сформировать расплавленное стекло, сохранить мое дыхание в нем, и когда оно затвердеет, часть меня останется запертой внутри навсегда.
«Навсегда, – подумал я, чувствуя, как свинцовая тяжесть исчезает, как уменьшается темная тень, тянущаяся за мной, даже в ярком солнечном свете пустыни. – Немного надежды, которая поможет дойти до конца. Цель. Пора приниматься за работу».
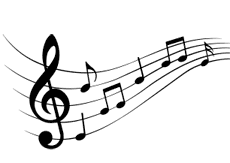
Осколки стекла на моей трубке стекали обратно в печь, вырывая меня из воспоминаний. Как и стекло, моя жизнь была расплавленной, податливой и полной возможностей. А теперь она застыла, загорелась и затвердела. Никакого повторного выстрела. Не начинать все сначала с кем-то новым, потому что не было времени, чтобы кто-то новый стал кем-то значительным. У меня была инсталляция. Что-то такое, что пройдет проверку временем, что не зачахнет и не умрет. И будет существовать долго. Я поставил перед собой эту задачу два месяца назад, но ничего не изменилось. Пора было приниматься за работу.
– Давай перекусим и продолжим, – сказал я Тео. Его брови поползли вверх.
– Да? Я думал, ты собираешься…
– Я напишу Кейси и скажу ей, что мне нужно поработать. Она может заказать пиццу или что-нибудь еще, – сказал я, игнорируя отвратительное чувство, чувство вины, что я бросил ее. Тео потер подбородок, выглядя как человек, который прокладывал себе путь, чтобы получить личную выгоду, и теперь ему было плохо от этого.
– Если ты уверен…
– Я уверен, – сказал я, вытаскивая телефон, – я должен придерживаться графика.
И это было правдой.
Конец истории.
Назад: Глава 10. Джона
Дальше: Глава 12. Кейси

