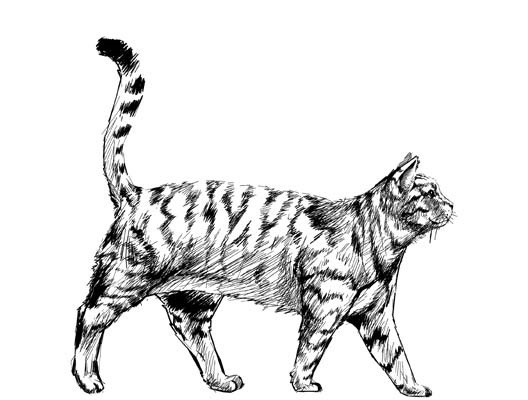Исповедь табашника

Солнышко село. Мир остывает, погружается в прохладу. Оживают сверчки, звенят, как сумасшедшие, после смертельного дневного зноя. Пробуждаются лягушки, горланят, зелёные, где-то вдалеке. Воют коты, пищат комары. Природная живность вещает миру о том, что палящий зной никого не сварил и не изжарил. Всякая дикая тварь исполняется ума и прячется от солнца до вечера, прямо как греки. И только мы – я, Алексей Семёныч и его тезка Палыч – целый день провели в трудах. Мы строгали и пилили, пилили и строгали. И вот теперь перед нашим храмом возникла добротная сосновая скамейка. Рядом с ней урна «для бычков». Мы втроём обсиживаем скамью, любуемся урной и не можем надышаться остывающим воздухом. Вот только комары…
Новая урна радует глаз. Так и хочется швырнуть в неё окурок, но мы с Семёнычем убеждённые некурильщики. И не важно, что поговаривают, будто нет греха в табаке – есть грех в пристрастии к нему, каждый для себя этот вопрос решил сам, с одинаковой пользой здоровью.
Со мной и пономарём всё ясно, но почему не курит наш сегодняшний соратник и гвоздодёр Алексей Павлович?
В нашем селе, и вдруг некурящий пенсионер! Семёныч словно угадал мои мысли и полюбопытствовал:
– Палыч, а ты давно не куришь?
– У-у, да почитай, со студенчества. Помню, это, в юности отправили нас от железнодорожного техникума за практикой в Казахстан. Практика, конечно, так, название одно красивое. Собирается нас, лоботрясов, бригада в шесть человек, берём с собой кувалды, ломы, вот такенные гаечные ключи и бредём себе по путям от станции до станции. Где костыль подобьём, где стык подтянем. Вот и вся тебе практика. Бывало, ходим целый день. Кругом степь. Днём солнце прямо как сегодня, гляди сваришься. К вечеру – чуть не мороз. Какая-то зараза в степи воет – не то шакал, не то волк. Жутковато. И, главное, километров на пятьдесят вокруг – ни души. Ходили мы по путям уже, почитай, вторую неделю, когда у нас у всех кончился табачок. Ох и тяжко стало! Курить охота – жуть. И ни купить, ни стрельнуть негде. Куда ни плюнь – степь да вонючие шпалы. Ну, мы-то молодые – покрепче. Терпим, значит, а вот бригадир наш… Он уже и чертополох пробовал заворачивать, и ещё какую-то гадость – всё не то. Весь скрючился, страдает. Идёт, бедный, стонет: «Курить… курить…» Скулит, страдалец, а где взять? Как-то слышим мы, рельсы загудели – вдалеке сзади нас поезд. Мы решили привал себе устроить. Сошли с путей, расселись на земле, достали паёк, закусываем. Бригадир тоже уселся, грызёт сухарь без аппетита, давится. Вдруг как вскочит. Ожил! Скинул с себя сапоги, размотал кумачовые портянки (где и разжился-то такими, уж не знаю!), примотал их к лому и – наперерез поезду. Машет ломом. «Стой, – орет, – тормози!» Состав большой, несётся, гудит. Этот знай себе бежит навстречу, флагом своим машет – откуда сила взялась. «Стой» да «стой!». Засвистели тормоза, видать, машинист перепугался. Мало ли что, может, пути разобрали, может, ещё что. Метров триста поезд тормозил, а бригадир наш перед паровозом с ломом всё задом пятился. Наконец поезд встал. Машинист, пожилой, весь напуганный, спрыгнул, подходит к нашему бригадиру (а тот, может, чуть постарше нас, красивый парень, статный, бреется уже). «Что, – говорит, – стряслось, сынок?» А «сынок» ему: «Извини, отец, закурить нету?» Машинист будто не понял, глазами хлоп-хлоп. А наш ему: «Табачком, говорю, не богаты?» – «Табачком?» – «Табачком». – «Значит, табачком! – Машинист заскрипел зубами. – Табачком, говоришь… Ах ты сопля! Я тебе щас дам “табачком”! Табашник поганый!» – Паровозный закатал рукава и – на «табашника». Тот – пятиться: «Ты чего? Чего… это… ты…» – пятился, пятился да как дунет наутёк вдоль поезда. Машинист – за ним…

…Потом поезд свистнул и застучал по своим делам. В зарешеченных окнах урки со смеху лопаются. Немного погодя и курильщик наш воротился – морда набекрень… Вот, почитай, с тех пор я и не курю. Надо сказать, доволен. Сам себе хозяин. Вот помню ещё, при Горбачёве, когда с куревом туго было, они – табашники – мать родную на затяжку сменяли бы, предложи. А я вот независимый, как монгол, хожу себе, посвистываю. Да… Это говорят только, что, дескать, бросить трудно, уши горят. Горят, это верно, но бросить, однако, можно. Думаю, если б он тогда мне морду не свернул… гм… то есть бригадиру нашему…
Рассказчик осёкся, смутился. Мы с Семёнычем переглянулись и расхохотались. Долго не могли успокоиться, даже скулы свело от хохота. И смущённый Палыч глядел на нас, глядел да и заулыбался…
Запад розово светится. Над селом тянет лёгким дымком. Ладони с непривычки горят от заноз. Хорошо! Только комары… Одолели…
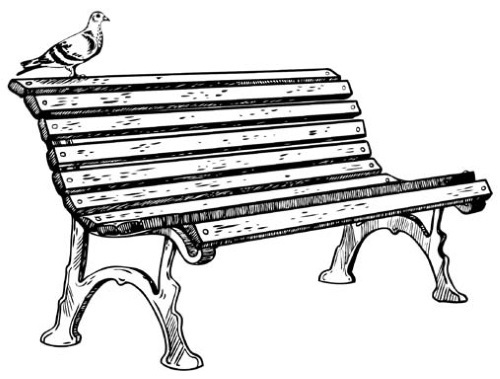
Светлый кот

Я а этот раз синоптики не обманули. После туманных дней показалось солнышко.
Мы служили литургию в древнем храме, который не закрывался ни в войну, ни в революцию. Служили я и тамошний настоятель – священник, может быть, в пятом поколении. Хор тихо и сладко пел, как, наверное, и двести лет назад. Лучик солнца просочился сквозь старинное стекло южного окна в алтаре и медленно пополз вниз по пережившим и холода и войны фрескам. Маленький красноватый зайчик застыл на лике Спасителя. Потом, во время «Трисвятого», сонно переполз на жертвенник. Затем зайчиков стало много. Они перестали румяниться и заиграли на парчовых покровцах, начищенных рипидах, на настоятельском облачении. А один огромный, светлый и как будто бы главный важно водворился на горнем месте, когда диакон принялся читать Евангелие. Такое великолепие обычно надолго впечатляет…

Диакон вручил настоятелю увесистое Евангелие и забасил сугубую ектению. Внезапно припомнилось, как лет двенадцать тому назад, в мою диаконскую бытность, в другом старинном храме и при другом настоятеле я так же однажды после Евангелия вышел на солею и почти остолбенел от восхищения. Тогда я впервые отметил, что церковное солнце – какое-то особенное. Оно светило в окна купола, и зайчики забавлялись, прыгали по золотым царским вратам с одной завитушки на другую, с виноградной грозди на резной листок. Интересно, тогда были другие «зайцы» или те же, что и сейчас?
Летят годы, меняются эпохи. Вот уже лошадей заместили автомобили, фузеи сменились пулемётами, на место купцов и лабазников пришли брокеры и менеджеры. Когда-нибудь всё это тоже уйдёт, канет в историческую пропасть, а Церковный Весёлый Свет останется. Эти же зайчики будут резвиться на макушках у других певчих, эти же лучи будут светить на тот же вечный евангельский текст, правда, читать его будет другой диакон, внимать – другие люди. Зато потом, когда всё-всё пройдёт, а Церковь останется, на Её торжество соберутся все. Все, кто от века сумел оценить неповторимый Церковный Свет, и эта радость уже не кончится.
К концу службы зимнее солнце висело уже высоко. Настоятель проповедовал, я, радостный, стоял рядом и глядел на полтора десятка прихожан, утонувших в огромном лучистом храме. В этом селе люди почти не утратили традиций: левую половину занимали женщины, а правую – пара старичков. Посреди церкви под главной люстрой сидел кот. Старый крепкий кот. Закончилась проповедь, миряне подошли «под крест». Настоятель, я и диакон удалились в алтарь и разоблачились, а кот всё продолжал сидеть. Он дремал под церковным солнцем и во сне покачивался из стороны в сторону. Когда последняя прихожанка вышла из церкви и в храме повисла тишина, мы услыхали мурлыканье, временами походящее на храп. Я с любопытством глядел на полосатого прихожанина в приоткрытую вратницу. Мой интерес заметил настоятель:
– Что, нравится? Это Барсик. Мы его не замечаем, привыкли.
– А откуда он взялся? – любопытствую.
– Да он тут всегда был. Ну, конечно, не он, а, там, предки его какие-нибудь. Но я вот лет, почитай, как тридцать тут служу и сколько помню, что ни служба, он всегда на это место приходит и молит… ну, то есть дремлет. Пускай сидит. Зато насчёт мышей полный порядок.
Настоятель отыскал свою скуфью, и мы отправились к нему в дом перекусить. Проходя мимо полосатого мышелова, батюшка поприветствовал его: «Барсик! Кыс-кыс!» Кот упал на спину, скрестил лапки и ответил: «Мя-а».