Глава 2
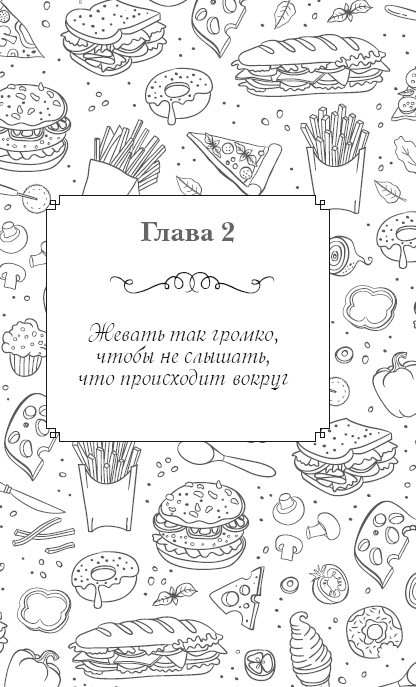
Папа стал больше пить. Я не считала это чем-то необычным до той самой среды, когда в три часа дня услышала звон разбитого стекла. Если бы это был просто удар очередной тяжелой стеклянной пепельницы о стену, я бы так не вздрогнула. Если бы я не услышала папиного крика, то решила бы, что он просто в очередной раз потерял терпение.
К восьми годам я уже привыкла, что по кухне постоянно, словно конфетти, летают окурки и пепел. Они ругались – обычно после того, как мама просила папу перестать пить или сделать что – нибудь полезное по дому, чтобы она могла хоть чуть-чуть передохнуть. Уходя на работу, она просила его прибраться, а вернувшись, находила еще больший беспорядок. Тарелки беспорядочной стопкой валялись в раковине, а грязное белье, словно издеваясь, лежало рядом с корзиной. Мама очень обижалась. А он обижался, когда мама начинала его отчитывать. Чаще всего она быстро переставала. «Ничего страшного. Все нормально», – в конце концов говорила она. Она собирала в кучку все причины, по которым больше не может терпеть даже до завтра, и плотно их упаковывала. Она складывала их, сворачивала, перекладывала, все плотнее запихивая в воображаемый чемодан. Лишь благодаря бесконечному терпению она находила в «чемодане» все больше места. Она таскала этот багаж с собой, стирая ладони до волдырей, и мне иной раз даже казалось, что я вижу, как она горбится под неподъемным весом. Бывали моменты, когда она угрожала ему, говорила, что не собирается больше ему потакать. Тогда она выпрямлялась, расправляла плечи и бросала воображаемый чемодан себе под ноги; я видела, как она напрягается, нервничает, потом набирается уверенности, но в последний момент все-таки не решается просто взять и уйти.
Сейчас, если честно, я не понимаю, почему, несмотря на то, насколько невыносимо тяжелым стал «чемодан», несмотря на то, как ужасно она выглядела всякий раз, когда приходилось засовывать в него очередное горе, она так ни разу и не ушла.
Когда мама все-таки решалась защищаться, распаковывая эмоциональный багаж и бросаясь в папу его содержимым, он приходил в ярость. Хоть он и понимал, что ее претензии вполне оправданны, но всегда уходил в глухую оборону. Он снова и снова бил по ее неуверенности. Ругань, крики, оскорбления – все это подрывало ее уверенность. Она ощущала себя маленькой. Да, она заправляла в доме и оплачивала счета, трудясь на четырех работах, но, тем не менее, я видела, как ее натиск слабел, и она опускала голову, словно думая: «А вдруг он прав?» Если она пыталась дать отпор, он рычал еще громче или швырял в стену какую-нибудь очередную ее любимую вещь.
Но даже не тогда я начинала дрожать всем своим пухлым тельцем. Не тогда моя душа уходила в пятки. Нет, только когда в комнату входил Энтони, когда я слышала, как он пытается разговаривать своим высоким мальчишеским голоском, как взрослый, у меня так начинал болеть живот, что я даже не понимала – мне просто хочется есть, или меня сейчас стошнит? Я видела, как Энтони влезал между мамой и папой, разделяя их своей худой фигуркой. Я видела, как он храбрится, пытаясь справиться с заиканием. Поначалу папа обращался с ним спокойно – ласково говорил, что все в порядке, и ему нужно уйти в свою комнату. Но, едва взглянув на маму, Энтони понимал, что никуда не пойдет. Он оставался и пытался разрядить ситуацию. Вскоре папа начинал оскорблять Энтони точно так же, как до этого маму. Он дразнил его, угрожал, словно тот был его ровесником, а не четырнадцатилетним сыном, и во мне начинал закипать гнев. У меня все горело внутри. Я так сильно стискивала зубы, что боялась, что они вот-вот сломаются.
Я до сих пор помню последний раз, когда Энтони вмешался в их перебранку. Они втроем стояли в кухне, а я смотрела из темной столовой. Когда папа начал кричать, я глубоко погрузила ногти в ладони. Он унизил Энтони, стал ему угрожать, потом обозвал педиком. Я посмотрела на раскрасневшееся лицо папы, потом – на дрожащую губу Энтони, после этого на маму, которая одной рукой обнимала Энтони, а другую протянула к мужу, не подпуская его ближе. Пошатываясь, на свинцовых ногах, я подошла к папе. Я слегка наклонилась, чтобы заглянуть ему прямо в глаза; папа сидел на кухонном стуле, который трещал под его ста шестьюдесятью килограммами, а я была выше и тяжелее любой другой девочки во втором классе. Мне казалось, что мои глаза горят. Я наклонилась к нему; наши лица оказались в нескольких дюймах друг от друга, едва не касаясь носами.
А потом я сказала, что ненавижу его, что он очень, очень плохой человек, и я не шучу. Мама взяла меня за плечи, но я наклонилась еще ближе, словно пытаясь раздавить его своей яростью. Я ругала его теми же словами, которыми он ругал Энтони и маму все восемь лет моей жизни, надеясь, что ему станет так же больно, как было им. Я даже не знала, что мои слова будут для него значить. Больше того, я даже не знала, каким хотела бы, чтобы он был, не знала, что вообще хочу от отца. Но потом я вспомнила сериалы «Полный дом» и «Маленький домик в прерии», отцов, которых я там видела, – Дэнни Таннера и Па Инголлса – защитников и кормильцев. И поняла, что мой отец – не тот и не другой.
Когда я закончила осыпать его всеми оскорблениями, которые смогла вспомнить, то заглянула папе в глаза, ожидая ответа. Я хотела, чтобы он сделал со мной то же, что и со всеми остальными. Я тяжело дышала ему в лицо, отходя от притока адреналина. Я была готова к чему угодно. Он закрыл глаза. Я снова стиснула зубы, словно напряжение мышц могло превратить мое лицо в твердый щит. Потом он открыл глаза; такого взгляда я предвидеть не могла. Мое сердце словно сдулось, как две недели тому назад, когда мальчишки в классе назвали меня жирной, а девчонки смотрели и смеялись.
В тот день мои одноклассники бегали на перемене по школьному двору, смеясь и перешептываясь. Я думала, что мальчишки просто шутили о нашей учительнице. Лишь после того, как ко мне подошла одна из девочек – ее дразнили за то, что она случайно пукнула на уроке физкультуры, – я поняла, что это как-то связано со мной. Она сказала – так же спокойно, как однажды напомнила, что я забыла вернуть ее розовый механический карандаш, – что мальчики хотят, чтобы я слезла с качелей, потому что они думают, что я такая жирная, что подо мной они сломаются. Несколько секунд я сидела неподвижно, ошеломленная. Мое лицо запылало, когда я поняла, что мне только что сказали; я оглядела площадку, отчаянно вспоминая какую-нибудь шутку, думая, что сказать, чтобы скрыть свою неловкость. А потом я увидела их: всех мальчишек и нескольких девчонок, стоявших под баскетбольным кольцом и смеявшихся надо мной. Смеявшихся из-за меня. Я опустила голову; на глазах выступили слезы, угрожая вырваться на свободу, на мои персиковые щеки. Я не могла не заметить, как черная резиновая сетка качелей врезается в мои бедра. Я сразу вспомнила, как мама перевязывает свиной окорок – белые веревочки точно также врезались в мясо. Я часто заморгала, надеясь смахнуть слезы ресницами. Поднять глаза я не решилась. Я боялась, что эта девочка все еще стоит рядом, наслаждаясь моим унижением. Или, хуже того, хочет сказать еще какую-нибудь гадость.
Все, что я сказала папе, достигло намеченной цели. Мои слова очень сильно его ранили. Когда он отвернулся и залпом опрокинул в себя банку пива, я возненавидела себя. Я ненавидела его за то, что он так меня разъярил. За то, что научил меня, что люди к тебе прислушиваются, только если на них наорешь, что словами можно не просто ранить, но и насыпать соли в открытую рану. Я ненавидела маму, пусть еще и сама этого не понимала, за то, что та позволила мне увидеть его ярость и выпустить на свободу мою собственную. Позволила мне поверить, пусть и на мгновение, что у меня есть власть, что мой ум может повзрослеть раньше, чем тело. Я злилась из-за того, что, пытаясь остановить бой, спровоцировала новую войну. Но больше всего меня бесило, что, пытаясь защитить нас всех от задиры, я сама превратилась в задиру.
Мама рассказывала, что до моего рождения он почти не пил. Через шесть лет после замужества и рождения моего брата мама принесла домой розовый сверток с растрепанными черными волосами, полными губами и малюсеньким носом. 25 января, в мой день рождения, он напился до беспамятства. Она тихо плакала, уткнувшись лицом в мою маленькую шейку. Той ночью она спала в комнате Энтони, а я лежала между ними. Утром мама открыла глаза и увидела, как Энтони приглаживает мои волосы и что-то шепчет в мое малюсенькое ушко. Она улыбнулась.
– Что ты говоришь сестренке? – спросила она.
– Что она может жить в моей комнате.
В ту среду, когда я услышала звук бьющегося стекла, я сидела в комнате Энтони, отчаянно пытаясь запихнуть Барби, одетую в свадебное платье, на переднее сидение ее «Шевроле Корвет». Мне почти час пришлось уговаривать Энтони, чтобы он все-таки разрешил мне провести свадьбу у него в комнате. Он сам сидел в другом конце комнаты и играл в «Сегу». Когда мне наконец удалось запихнуть всю ткань в машину, я положила Кена на капот и вытащила из упаковки карамельку с кремом. Я раскрыла обертку и отправила конфету в рот целиком, и тут послышался звон.
Я подпрыгнула, откусывая конфету; мои зубы застряли в вязкой карамели. Остальные конфеты рассыпались по полу.
– Мири! – крикнул папа.
Я услышала стук ее босых ног по дощатому полу. Энтони тут же вскочил.
– Андреа, пойдем, – выдохнул он, бросаясь к выходу.
Я неподвижно сидела на полу, прислушиваясь к происходящему снаружи. Я не могла ничего сделать – только жевать. Я разжевала весь липкий центр, и он растворился на языке. Если я достаточно сильно закрою глаза, я до сих пор могу вспомнить этот вкус. Помню, насколько обострены были мои чувства – каким богатым показался мне вкус карамели, каким потрясающе сладким оказался белый крем в середине. Именно в этот момент я впервые полюбила еду именно за то, что она помогла мне отключиться от мира.
– Андреа-а-а! Скорее! – крикнул Энтони.
Они уже добежали по подъездной дорожке до нашей белой «Тойоты» и поспешно усаживались в нее. Но я не могла – просто не могла – не собрать все карамельки. Я быстро, как могла, собрала рассыпанные конфеты и только после этого поднялась и выбежала из комнаты. Я засунула конфеты глубоко в карманы; целлофановые обертки захрустели, плотнее укладываясь в недрах моего джинсового комбинезона.
Добравшись до машины, я увидела сидевшего на переднем сидении папу; у него шла кровь. Энтони в ужасе уставился на пропитавшееся красным махровое полотенце. Мама едва дышала от страха. Крепко сжимая руль, она посмотрела на меня; я стояла, заглядывая в водительскую дверь.
Я забралась на заднее сидение рядом с Энтони. Тот сжал мой пухлый кулачок и притянул его к себе.
Папа был в ярости. В перерывах между руганью на маму и приступами боли он повернулся к нам с Энтони и сказал, что порезал руку о стеклянную дверь. Я кивнула, понимая, что вопросы лишь разозлят его еще больше. Когда мы доехали до больницы, когда-то желтое полотенце стало уже полностью красным и тяжелым от крови.
Мы сели в коридоре; две медсестры спешно увели папу за большие двойные двери. Мне было интересно, как они будут лечить его руку – может быть, наложат гипс, как моему однокласснику, который сломал руку, упав со шведской стенки? Я попыталась представить, что напишу на этом гипсе и каким цветом. Вскоре из-за дверей вышел врач и спросил, можно ли поговорить с мамой. Они отошли на несколько футов от места, где сидели мы с Энтони. Мама говорила тихо, но я все-таки услышала, как она рассказывает доктору, что папа пьет. Они ссорились, и он случайно пробил кулаком стеклянную дверь. Сглотнув, она продолжила: стекло рассекло ему предплечье по всей длине, судя по тому, как хлынула кровь, она подумала, что он задел вену, и…
Я вытащила из кармана еще одну карамельку с кремом и развернула ее. Целлофановая обертка так громко хрустела, что я не услышала дальнейших слов. Я внезапно почувствовала сильнейший голод – такой, что конфета словно сама прыгнула в рот. Голову заполнил звук жевания. Он до странности успокаивал.
Я сжевала все карамельки, одну задругой, оставив от них только кучку оберток на соседнем кресле.
Тот день в больнице все изменил. Следующие несколько месяцев мама вообще не говорила с папой о том, что он пьет. Я больше не слышала, как она умоляет его «перестать хоть на одну ночь», когда они сидели на кухне вдвоем. Она не останавливала его, когда он, обнаружив, что в холодильнике из напитков только молоко и «Кока-Кола», брал ключи и уходил. Сейчас она говорит мне, что просто не хотела больше ссориться. Она хотела проверить, сможет ли просто не обращать на это все внимания – ради того, чтобы мы с Энтони жили в полной семье.
Так что папа пил.
Теми редкими вечерами, когда мама не уходила на ночную смену, она готовила ужин, и мы все ели вместе. Она делала замечательные блюда; особенно я любила мясной рулет в сладком соусе «с дымком», который она подавала с картофельным пюре с чесноком, маслом и жирными сливками. Те вечера были единственными, когда мне не приходилось жевать так громко, чтобы не слышать, что происходит вокруг. Тарелки, салфетки, столовые приборы – все они оставались на месте. Мы спокойно сидели вокруг квадратного стола для рубки мяса. Много раз мы смеялись, поглощая ужин, такой же большой и шумный, как сумма наших четырех характеров. Я хотя бы ненадолго, но ощущала, что все в порядке. Папа был самим собой – очаровательным и остроумным. Он рассказывал нам истории, от которых я так хохотала, что у меня молоко лилось из носа. Даже Энтони не так заикался. Когда папа не кричал, не приходилось тщательно обдумывать каждое слово и фразу. Он словно поддерживал ногой разболтанную ножку нашего стола, чтобы тот не шатался. Я даже начинала думать, что все снова нормально.
Но бывали и моменты посреди ужина, когда папу что-то раздражало – какая-нибудь фраза, звук, да что угодно, – и он почти мгновенно переставал есть. Его словно начинало тошнить от необходимости поддерживать наш стол, и он злился на нас за то, что мы вообще попросили его подставить ногу. Я тогда чувствовала, словно что-то вокруг неуловимо изменилось. Я хваталась за тарелку, словно зашатался не воображаемый, а вполне реальный стол, и представляла себе, что удерживаю его от падения. Я всячески старалась разделить еду в тарелке на отдельные участки.
Горох поддерживал четкую границу с картошкой-пюре, которая, в свою очередь, не смела прикасаться к мясу. Печенье с маслом и вовсе соблюдало строгий карантин. Такое разделение еды успокаивало меня. Я брала вилкой немного картошки, а потом аккуратно приминала ее, возвращая прежнюю форму. Горошины я ела рядами, чтобы не нарушать линию, отделявшую их от мяса. А если границы, которые я установила на тарелке, нарушались – если горох вдруг смешивался с пюре, – я быстро восстанавливала статус-кво.
В последний раз мы все ели за одним столом в начале весны 1995 года – в том году мне исполнилось десять. После этого папа лег в реабилитационную клинику, а мама сказала, что мы переезжаем. Папины родители решили окончательно поселиться в кондоминиуме в Миртл-Биче, штат Южная Каролина, вместо того чтобы постоянно мотаться между солнечным Югом зимой и Медфилдом, штат Массачусетс, где у них был дом, летом. Мама сказала, что бабушка и дедушка собираются отдать нам этот дом, а пока мы будем его у них снимать. Я не совсем понимала, зачем нам уезжать из дома в город в пятидесяти милях от нашего. Энтони только что перешел в старшую школу и упрашивал маму остаться. Моя лучшая подруга Лилли посоветовала мне просто сбежать. Но потом я услышала телефонный разговор мамы с сестрой Морин – она сказала что-то о «взыскании по ипотеке», а потом, уже плача, добавила, что у них нет денег. Наш дом был уже не нашим.
Все восемь маминых братьев и сестер тем летом приехали из Бостона в Метуэн, чтобы помочь нам перевезти все вещи в дом бабушки и дедушки в Медфилде. Я сидела в своей комнате и плакала. Потом, когда все уже разошлись, и мы готовились навсегда уехать из дома, я нашла маму плачущей в подвале. Увидела, как она стоит, сгорбившись, в темном углу прачечной; она хотела скрыть от меня и Энтони, как страдает из-за того, что нам придется уехать. Она так хотела оставить этот дом нам, но не смогла, и эта неудача тяжким грузом лежала на ее плечах и сердце. Я минут десять смотрела на нее, так и не решившись выйти из своего укрытия.
Я вообще не хотела идти осенью в школу. Я боялась быть новенькой, да еще при этом и жирдяйкой. Когда я зашла в класс миссис Харрингтон и села за единственную свободную парту, уже прозвенел звонок. Когда на меня стали оборачиваться, я покраснела. Я улыбалась всем, не открывая рта, потому что еще в первом классе ребята сказали мне, что из-за дырки между зубами и пухлых щек я очень напоминаю бурундука, если улыбаюсь широко. Отчасти я жалела, что опоздала в первый же день, потому что меньше всего мне хотелось приходить вот так, у всех на глазах; отчасти я вообще жалела, что пошла. Другие десятилетние дети так на меня смотрели, что штаны сразу показались теснее, а резинка на них – слишком сильно врезавшейся в живот. Все уже носили джинсы, а я – стрейчевые штаны, да еще и со штрипками. Я носила золотые сережки, а остальные девчонки – наклейки с голограммами звездочек и месяцев. Мне казалось, что я в классе вообще не к месту.
Но через несколько месяцев в Медфилде дела даже как-то пошли на лад. Я поняла, что если сама буду смеяться над своей полнотой, то остальные не смогут сделать это первыми. Если много шутить, особенно с мальчишками, то они с куда меньшей вероятностью будут звать меня «негабаритным грузом» или «жирной жопой». Еще я узнала, что манишки на физкультуре бывают разных размеров, и если я хочу найти ту, которая налезет на меня, я должна добраться до кучи первой. Что пояса, которые мы надевали на игре «Захвати флаг», на мне не застегиваются, но если заткнуть оба конца под шорты, они будут держаться. Что иногда даже друзья за глаза называют тебя «китом», но это не значит, что они тебя не любят. Что легче говорить всем, что папа уехал в командировку, чем рассказывать, что он сидит дома в одних трусах и пьет. Что если друзья приглашают домой после школы, то наверняка предложат остаться на обед, и мне не придется есть дома одной, пока мама на работе.
Когда я более-менее стала привыкать к новой жизни, однажды утром папа не приехал домой. Мама сказала, что он лег в больницу на реабилитацию. Я сидела за кухонным столом, не понимая, почему его забрали так внезапно. Через три дня из маминых телефонных звонков я узнала, что в ночь, когда папа не вернулся домой, он купил галлон водки и, хорошенько выпив, выехал на магистраль, где врезался в отбойник. Он собирался доехать до нашего старого дома в Метуэне, поставить машину в гараж, закрыть дверь и пить, оставив двигатель включенным, пока не задохнется от угарного газа. Он надеялся, что не вернется из той поездки домой. Когда я все это осознала, то на следующий день не пошла в школу и съела пять тарелок готового завтрака. Я не смотрела ни на что, кроме коробок, пакетов с молоком и тарелки, пока не съела вообще все содержимое буфета. Я ела до тех пор, пока не обессилела настолько, что даже сдвинуться не смогла. Я думала только об урчании живота, переваривающего Lucky Charms, Frosted Flakes и Trix.
Суд отобрал у папы водительские права. Два месяца его продержали в реабилитационной клинике в другом городе. Когда мы навещали его на выходных, он давал мне арт-проекты, которые делал в свободное время, – керамический рождественский орнамент и блокнот с черно-белыми набросками. Мы хохотали, когда он рассказывал нам о людях, с которыми познакомился на групповой терапии, подражая их жестам и голосам. А когда папа наконец вернулся домой, то выглядел вполне здоровым. Он ездил по Медфилду на велосипеде. Он даже придумал себе конкретный маршрут. Он помогал мне с домашними заданиями, мы часами играли в видеоигры – а мама устроилась на третью и четвертую работы, отчаянно пытаясь свести концы с концами. С ее лица почти не сходило паническое выражение, и я должна была уже тогда понять, что что-то не так. Должна я была понять, что что-то не так, и тогда, когда пошла с мамой в воскресенье в продуктовый магазин, и она сказала, что у нас на все покупки 25 долларов. Тем не менее, меня совершенно застала врасплох новость, что придется уезжать из дома. Бабушке и дедушке надоело терпеть папу, мы уже несколько месяцев не платили им за аренду, так что за две недели до Рождества они сообщили маме, что до первого января мы должны покинуть дом. Никакие просьбы и уговоры не помогали, даже когда мама взмолилась: «Но, Кэй… Нам же некуда идти. Пожалуйста». Бабушка осталась непреклонной. Мы упаковали вещи в мусорные пакеты и ящики из-под выпивки и к новому году перебрались в двухкомнатную квартиру в Уилкинс-Глене, бедном районе Медфилда. Второго января, ничего нам не сказав, бабушка и дедушка сменили замки и выбросили все наши вещи, оставшиеся в доме.
Через три недели, сразу после моего одиннадцатилетия, мама записала меня в лигу боулинга. Туда же записались все мои новые друзья. По четвергам после боулинга автобус высаживал нас у школы, и, выглядывая из заиндевелого окна, я видела обычный караван из «Доджей Караванов». Родители, выстроившись в линию, встречали нас. Я быстро понимала, кто из них за кем приехал – и что за мной, как обычно, не приехал никто.
Чаще всего я просила кого-нибудь подвезти меня, чтобы не идти две мили до дома. Кто-нибудь из родителей обычно любезно соглашался, хотя я и жила далековато. Никто этого прямо не говорил, но я чувствовала, как они неслышно вздыхают, отвечая «конечно». Я замечала, как родители слегка вздрагивают, когда машина наезжала на ухабы. Они улыбались мне в зеркало заднего вида и говорили:
– В каком порядке тут держат территорию!
Я улыбалась, думая, что мне повезло, что бедный квартал хотя бы выглядит более-менее респектабельно.
В один четверг, выйдя из автобуса, я увидела папу. Он перестал пить и снова начал ездить на велосипеде. На меня пахнуло холодом. Температура была нетипично низкой даже для переменчивой погоды Новой Англии. Папа был одет в пуховик такого яркого цвета, словно он почти кричал: «Я синий!» На голове у него была обтягивающая лыжная шапочка, которую он, должно быть, получил в подарок от какой-нибудь компании на конференции несколько лет назад, когда он еще работал.
Она была ужасного зелено-бронзово-горчичного цвета. Настоящая деконструкция коричневого. На макушке был помпон из дешевой шерсти.
Увидев его, я потеряла дар речи. Его старый горный велосипед был еще хуже, чем одежда. Я была уверена, что он не один год ржавел в чьем-то гараже, прежде чем его все-таки выставили на дворовую распродажу.
– Что ты здесь делаешь? – спросила я.
Он улыбнулся, должно быть, подумал, что раз меня обычно никто не забирает, я обрадуюсь, увидев его. Вместо этого я оцепенела. Если бы в кабинете у психолога висел плакат «Какая я эмоция?», то на эмоции, обозначающей «ужас», непременно красовалась бы мое лицо. Он пришел забрать меня. Доехать на велосипеде со мной до дома. Я помахала друзьям и их родителям, давая понять, что сегодня меня подвозить не надо, и зашагала по тротуару. Он поехал за мной, не отставая, как бы быстро я ни передвигала свои пухлые ножки. Я попросила его:
– Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, сними шапку!
– Что?.. Нет! Зачем? На улице же холодно!
– Она уродская, она мне не нравится, и… Мне неловко из-за тебя.
После паузы я добавила:
– Уходи.
– Андреа, ты что, с ума сошла? – Он смущенно улыбнулся, продолжая крутить педали.
Я остановилась. Он затормозил рядом; я повернулась к нему.
– Я не хочу, чтобы кто-то видел меня с тобой. Я не хочу, чтобы ты ехал рядом со мной.
Его взгляд изменился. Я поняла, что ранила его. Он приоткрыл рот, словно хотел еще что-то сказать, но… О, это уже все неважно.
Я пошла направо, он медленно поехал в противоположную сторону. Я даже не обернулась. В тот момент я чувствовала себя такой гордой, уверенной, что поступила правильно. Я считала, что возможность избежать неловкой ситуации, унижений, которые я уже себе напридумывала в голове, стоила того, чтобы прогнать отца, который решил забрать меня из школы.
Через час я дошла до дома, даже не понимая, что, наверное, должна стыдиться того, что произошло чуть ранее.
Я остановилась в дверях кухни, просыпав немного хло – пьев из тарелки, и посмотрела на него. Папа сидел за кухонным столом; увидев его взгляд, я сразу поняла, что, приехав домой, он выпил. Его глаза были затуманенными и остекленевшими. Я задумалась: неужели это он из-за меня поехал на Норт-стрит, в винный магазин?
Он отвернулся к столу, а я посмотрела на тарелку с «Apple Jacks», распухших, пропитавшихся молоком. «Прости», – прошептала я так тихо, что никто бы все равно не услышал.
Я подумала, не сесть ли рядом с ним, но вместо этого ушла в свою комнату, опустила лицо в тарелку и заплакала, орошая солеными слезами желтоватое молоко.
Он снова, как раньше, начал беспробудно пить. Потом началась весна, и он пропал.
Прошло два дня, прежде чем на кухне зазвонил телефон, и мама побежала на кухню, чтобы снять трубку, а я – в гостиную, чтобы послушать разговор. Почему-то мы обе знали, что это он.
– Мири, – начал он дрожащим голосом.
Мама дотянула спиральный телефонный провод через весь коридор до гостиной. Прикрыв трубку рукой, она сказала мне положить мою трубку. Она так на меня смотрела, что я не решилась возразить. Я поставила радиотелефон обратно на базу, и она выбежала из комнаты.
Я продержалась всего минуту, потом побежала на кухню. К тому времени мама уже договорила. Она сказала мне: «Одевайся, сейчас поедем за папой».
Я начала расспрашивать ее; мама лишь в отчаянии взглянула на меня. Ее взгляд напугал меня. Она отчаянно озиралась, словно в поисках Энтони, который опять ушел гулять с друзьями.
– Френси, папа… пытался себя убить.
Мама словно извинялась передо мной. Он остановился в мотеле возле шоссе, в номере съел упаковку таблеток и запил их водкой.
Папа лег в госпиталь «Тьюксбери». В следующие несколько недель он проходил интенсивную групповую и индивидуальную терапию. Он не пил четыре недели подряд. Вернувшись домой, он рассказал, что познакомился и подружился там с каким-то парнем. Этот новый друг жил на западе, в Аризоне. Папа был уверен, что сможет уехать в пустыню, пожить там с другом, воздерживаясь от алкоголя, и вернется другим человеком. Он сказал, что ему просто нужно на время сменить обстановку, и обещал вернуться, как только придет в себя.
В июне он уехал на поезде на запад, взяв с собой только пакетик крекеров. Через три недели он позвонил нам из Финикса. Мы сразу поняли по голосу, что он пил. Его фразы были рублеными и бессмысленными. Он попросил маму прислать ему денег на поезд. Когда она отправила ему деньги, он действительно вернулся.
Целый год, с лета 1995-го по весну 1996-го, папа периодически ездил в Аризону и обратно. Каждый месяц мама говорила с ним по телефону и высылала ему деньги. Каждый раз по возвращении он обнаруживал, что жить трезвым в Медфилде хуже, чем одному пить в пустыне. Он уговорил Энтони поступить в Аризонский университет – сказал, что на Юго-Западе им вдвоем будет хорошо жить. Несмотря на мольбы и слезы мамы, Энтони осенью уехал с папой. Я ненавидела Юго-Запад – хотя бы потому, что он отобрал у меня их обоих. Более того, после их отъезда мама опять из-за работы почти перестала бывать дома. Я держала телевизоры во всех комнатах включенными, чтобы хоть так бороться с чувством одиночества, вызванным гнетущей тишиной.
В июне, когда я уже почти доучилась в шестом классе, позвонил папа. От Энтони, который виделся с ним все реже и реже, я знала, что папа сильно пьет. Он даже рассказал, что несколько раз отец, напившись, унизил его на глазах своих друзей.
А сейчас ему опять нужны были деньги. Из маминого разговора я поняла, что он хочет вернуться домой. У нее не было ни копейки. Отчасти она знала, что и для Энтони, который взял академический отпуск на семестр, и для меня будет лучше не жить дома с алкоголиком – даже если это наш отец. С другой стороны, она до сих пор отчаянно любила его и хотела, чтобы он вернулся домой в целости и сохранности, неважно, трезвый или пьяный. Но еще она помнила, на что он потратил присланные деньги в три предыдущих раза.
– Роб, прости, я не могу.
С этими словами она передала трубку мне. Мое сердце колотилось; я не знала, что делать: поддержать маму, как взрослая, или сказать правду – что я люблю его и хочу, чтобы он вернулся. Он попросил меня уговорить маму прислать ему деньги. Сказал, как сильно хочет вернуться домой, обещал, что в этот раз все будет по-другому.
– Но, папа, ты никогда не меняешься… ты никогда не станешь лучше. Мама права. – У меня перехватило дыхание. – Ты не должен возвращаться домой.
Даже через телефонную трубку я почувствовала, как он закрыл глаза. Потом кивнул. Я услышала то, что он так и не сказал вслух: «Поверить не могу, что ты так сказала, Андреа. Ненавижу тебя за эти слова. Но… Я знаю. Ты права». Когда я попрощалась с отцом, у меня поднялся комок в горле. Я словно проглотила собственное сердце.
В субботу, 23 ноября 1997 года, за день до того, как я должна была прочитать перед всем классом «Рождественский гимн» Чарльза Диккенса, зазвонил телефон. Я сидела на углу маминой кровати, когда она ответила на звонок.
Она отвернулась к стене, а я внимательно перечитывала Диккенса. Потом послышался щелчок положенной трубки.
Я подняла глаза, собираясь сказать ей, что ненавижу чтение, Диккенса и седьмой класс, но меня остановил ее взгляд. Он сказал все раньше, чем мама успела открыть рот.
– Папа умер.
Я убежала в свою комнату и разрыдалась, уткнувшись в одежду, висевшую в шкафу. Меня бесила ткань, касавшаяся моего лица. Я хотела сорвать всю одежду с вешалок. Меня бесило платье, которое я надела на первое причастие: жесткий, шершавый материал неприятно терся о влажную щеку. Меня бесила мама, которая решила его оставить, потому что изначально это платье было свадебным, и она его обрезала, чтобы оно налезло на меня. Меня бесило, что она думала, что раз это платье взрослого двенадцатого размера, я, наверное, смогу его надеть снова, когда вырасту. Я знала, что это невозможно – и ни одна девочка после второго класса больше не надевает платье, которое носила на первом причастии. Я подумала, что когда люди взрослеют, они становятся больше. А потом меня стало бесить и это.
Сколько я ни старалась вспомнить остальные события той ночи, на ум приходят только две фразы – те, что мама сказала нам с Энтони в спальне.
– Папа умер в июле в Аризоне. У него случился инсульт, его тело нашли на вокзале.
Я вспоминаю следующие несколько дней. Разные маленькие кусочки событий, обрывки телефонных звонков, лицо брата, сгорбленную спину мамы, лежавшей в постели на следующее утро. Это время напоминает мне поцарапанный компакт-диск, перескакивающий с одной песни на другую и обратно, так что разобрать можно разве что отдельные фрагменты мелодий и аккордов. Весь ноябрь 1997 года кажется разбитым, разрозненным и дырявым.
Зато я хорошо помню еду. Помню черничные маффины JJ Nissen, которые в понедельник привезла бабушка. Влажная поверхность маффина липла к пальцам. Я съела два, а потом раздавила ладонями упаковки, прежде чем выбросить их в мусорное ведро. Еще помню сливочный вкус двухпроцентного молока и резкое покалывание во рту от ледяного Newman’s Own Lemonade. Я не помню разговоров, не помню, какое платье надела на похороны, какую надгробную речь произнес восемнадцатилетний брат; что я говорила одноклассникам, когда они звонили и спрашивали, смогу ли я сделать свою часть проекта для какого-то урока в среду. Плакала я, по-моему, всего два раза.
Я помню только упругое тесто купленного в магазине черничного маффина. Большие кольца масла, протекавшего через пергаментную упаковку. Еще помню, как благодарила бабушку и тетю Марджи за то, что они привезли нам целую кучу продуктов.
Когда мне нужно было заглушить чувства, я торопливо ела. Отчаяние и раскаяние. Я резко глотаю. Кусок черничного маффина пролезает между гланд и начинает путешествие в живот. Трудно сказать, что за комок у меня в горле – от слез он или же это едва пережеванный, но уже проглоченный кусок. Комок опускался все ниже и ниже, словно теннисный мячик, который запихивают в колготки.
После папиной смерти я так ела много дней подряд. Пищевой дискомфорт на несколько мгновений давал мне облегчение. Я думала, что желудком смогу заткнуть дыру в душе, оставшуюся после ухода папы, – неважно, алкоголиком он был или нет. Маффины, распухшие от молока, – я ела все подряд, надеясь, что это отвлечет меня.
Но еда меня не отвлекала.
Она и не смогла бы.
Я ела с такой же яростью, какую ощущала. Я глотала с трудом. От стыда я низко опускала голову над тарелкой. Я отчаянно наполняла желудок.
Еда притупляла эмоции.
Хотелось бы мне помнить папино лицо так же хорошо, как помню, как один за другим ела маффины на следующее утро после того, как мама сказала, что он умер. Хотелось бы мне всегда знать, где находится папа, а не искать его и не волноваться в течение пяти месяцев, двух недель, пяти дней и девяти часов – начиная с того самого момента, когда я сказала ему не возвращаться домой, – потому что он нигде не жил и не имел при себе никакого удостоверения личности. Хотелось бы, чтобы у него не осталось при себе всего два цента в левом кармане. Хотелось бы, чтобы он не спал в товарном вагоне в удушающей пустынной жаре, напившись до беспамятства. Хотелось бы, чтобы его не пришлось идентифицировать по зубам, и чтобы его не запихнули в простой сосновый гроб, потеряли его данные и вспомнили, что нужно известить родных, только в ноябре. Хотелось бы, чтобы он…
Хотелось бы, думая о нем, вспоминать фотографию лучше той, что нам прислал коронер, чтобы мы подтвердили, что неопознанный бездомный, чье тело было найдено в июле, – действительно Роберт Ф. Митчелл. Хотелось бы, чтобы на той фотографии его глаза были закрыты, или хотя бы снова подернуты пьяной дымкой. Какими угодно, лишь бы не испуганными, холодными и мертвыми.
Когда я хотела забыть о последней фотографии отца, я ела. Я вешала сладкие и вкусные картинки поверх тех, что преследовали меня. Я запоминала еду – и ничего кроме.

