Книга: Путь избавления. Школа странных детей
Назад: 11. Последнее донесение (продолжение)
Дальше: Документы
Рассказ стенографистки (продолжение)
Итак, я рассказала вам о том, как научилась не только впускать в себя призраков, но и нырять в край мертвых. Теперь все в школе знали, что я некронавт.
Тем временем в роли секретарши директрисы у меня появлялось все больше обязанностей. Я не только выполняла то, что от меня требовалось (печатала и вела картотеку), но и оказывала директрисе услуги более личного характера, которые прежде выполняла Другая Мать: грела ее домашние туфли, следила, чтобы не заканчивался зубной порошок. Я также делала то, о чем никто прежде не догадался позаботиться: к примеру, натирала норковым маслом и ваксой церемониальные легкие директрисы и заблаговременно накачивала в них воздух. Глядя по сторонам, а если понадобится – и в замочную скважину, слушая, если понадобится, под закрытыми дверьми, и читая забытые на столе бумаги, я научилась предугадывать, когда директрисе что-то нужно, и давать ей это прежде, чем она успеет попросить. Так я стала ее незаменимой помощницей.
Порой я испытывала беспокойство. Например, проходя мимо одной из цветных служанок. Мы обе спешили и несли что-то в руках. В такие минуты я чувствовала, что держусь на плаву лишь благодаря какой-то зыбкой магии, в то время как моя товарка давно погрузилась под воду. Чувствуя, что иду ко дну, я отводила взгляд. Меня тревожило и то, что чрезмерно безукоризненное выполнение моих обязанностей удешевит мой труд и меня саму, сделав невидимыми мои старания. Меня перестанут замечать не потому, что я слишком далеко от власти, а потому, что слишком близко. Правой руке никто не предлагает продвинуться по службе.
Но в какой-то момент мне стало казаться, что у меня другая цель. Что это за цель, я пока не имела понятия – возможно, она состояла лишь в том, чтобы постичь свое предназначение, а ничего грандиозного я в этом не видела. Но я догадывалась, что наши с директрисой цели совпадают, а в том, что ее цель грандиозна, не оставалось никаких сомнений. Поэтому я упорно шла к своей цели, хотя не понимала ее и не видела.
То же самое можно было сказать обо всех нас. Наши взоры были обращены на директрису, как бутоны маргариток к солнцу. Вот только солнце это было суровое. Посторонний мог бы задаться вопросом, отчего мы не стали искать солнца более теплого. Директриса уступала харизмой и умением внушать доверие почти любому человеку на Земле; кто угодно казался более пригодным для осуществления ее задачи, которая, как мы смутно догадывались, заключалась в том, чтобы помочь нам всем. Хотя нет, пожалуй, «помочь» было неподходящим словом. «Помогать» можно лишь в этом мире, а директриса Джойнс отчаянно скреблась в его двери всеми острыми краями своей сущности, чтобы поскорее вырваться в мир иной. (Мы уже поняли, что в ее задачи не входило подготовить нас к жизни в этом мире и научить зарабатывать себе на жизнь.) Если помощь может быть бесполезной, но при этом по-прежнему считаться помощью, именно такую помощь она нам оказывала. Но меня это не отпугнуло. Ничего я не жаждала сильнее, чем принять всю исходившую от нее бесполезность.
Хотя иногда я была несчастлива – пожалуй, именно так можно охарактеризовать усталость и тоску, охватывавшие меня в минуты уединения, – мне никогда не хотелось уехать. Я все больше забывала свое старое «я», пока в один прекрасный день не перестала ощущать себя чужой. Теперь я ощущала себя просто странной, но эта странность была здесь к месту. С каждым днем я все больше становилась той «собой», для которой когда-нибудь откроются непознанные двери.
Как-то раз я вела протокол частной рабочей встречи директрисы с мисс Тенью. Вдруг директриса закашлялась, промокнула губы платком, покрытым пятнами крови, встала и спокойно вышла за дверь. Узкое лицо мисс Тени покраснело: она произносила пространную речь об относительных преимуществах доплат за особые привилегии и повышения платы за обучение, а директриса ее не дослушала. В какой-то момент мисс Тень была готова погнаться за ней, но потом вздохнула и принялась собирать бумаги.
– Если она и кажется рассеянной, – произнесла она, обращаясь то ли ко мне, то ли к себе самой, – так это потому, что до сих пор не выбрала себе преемника. Само собой, она тревожится: что станет со школой после ее смерти? Не то чтобы ей нездоровилось, нет, хотя она и кашляет, но разве все мы не кашляем в этом нездоровом климате, когда по ночам с полей тянет такой сыростью и весь дом пропитывается миазмами? Здесь я ложусь спать, не рассчитывая, что проснусь наутро, но просыпаюсь – мы все просыпаемся, и она – не исключение. Кто-кто, а она крепче нас всех, вместе взятых, и все же она тревожится, что вполне естественно. Ум столь проницательный умеет смотреть в будущее, а в будущем школа или есть, или ее нет: все зависит от того, найдет ли она подходящего преемника.
Мисс Тень, возможно, продолжала говорить, но я ее не слышала. Я услышала зов, меня призвали. С того момента я не сомневалась в своем призвании. Впрочем, словами не передать, как встрепенулось все мое тело и душа в ответ на этот зов.
Преемник!
Я жадно, страстно, самозабвенно предалась освоению своего ремесла. Когда я навлекла на себя гнев мистера Истера за плохую успеваемость в оральной гимнастике, я бросилась через класс и даже вскочила на парту, чтобы поскорее принять наказание. Я даже сама взяла палочку и с силой вдавила ее в язык. На следующий день моя нижняя губа распухла и растрескалась. Я чувствовала, как она выпирает, а когда видела, что люди смотрят, нарочно выпячивала ее еще сильнее. Однако меня так часто лишали десерта, что я поняла: одним лишь усердием я свои позиции укрепить не смогу. Поэтому я стала не только упорно упражняться в призвании мертвых, но и притворяться, что у меня получается. Если учитель вызывал меня к доске, а горло отказывалось повиноваться, я закатывала глаза так, что виднелись белки, роняла челюсть и принималась говорить странным голосом, искажая гласные. Я притворялась, даже когда в этом не было необходимости, тренировки ради, и вскоре уже никто, кроме меня, не мог заметить разницу. Впрочем, даже я сама не всегда ее замечала.
В школе я была не единственной мошенницей, несмотря на то, что мошенничество требовало отваги: ведь не меньше, чем настоящие призраки, директрису завораживало умелое шарлатанство. Она вступала с поддельными «призраками» в метафизические дебаты и продолжала до тех пор, пока обманщику хватало изобретательности поддерживать беседу. Бывало, что у притворщиков не выдерживали нервы – я была свидетельницей того, как один ученик, подвергшись подобному допросу, расплакался и во всем сознался. Директриса же как будто его не слышала и продолжала обращаться к нему как к «призраку», хотя из-за рыданий он уже не мог говорить. Потом она холодно произнесла: «Вашей единственной ошибкой было полагать, что вы сами реальнее своей выдумки». В обычных школах жульничали самые слабые ученики; в нашей – самые сильные.
Своими основными конкурентами я считала Маккохи и Уонга и не сводила с них глаз. Поразительные успехи порой демонстрировал и Лэнсет. Однажды он всех удивил, нырнув в край мертвых на целую минуту. (Его приятель Тернбулл утверждал, что путешествие длилось шестьдесят одну секунду, но я засекала, и у меня вышло пятьдесят шесть секунд и не секундой больше; тем не менее, для третьеклассника это было впечатляющее достижение.) Однако румянец на его щеках недвусмысленно сообщал мне, что Лэнсету нравится быть лучше всех, а для того, чья единственная цель – перестать существовать и стать невидимкой, амбиции губительны. Я знала, что рано или поздно он бросит себе непосильный вызов, и это плохо для него кончится. Ему придется нас покинуть. Однажды я видела, как он шептался с ферротипом, спрятанным у него в ладони. Такие контакты были строго запрещены, и я взглядом дала ему понять, что все видела, но сохраню его тайну, однако буду хранить ее, лишь пока мне удобно. Но нет, для меня он не представлял угрозы.
Другое дело Уонг и Маккохи. Эти блистали по очереди: то Уонг поразит всех громкостью и тембром своего молчания, которое давалось ему легко и непринужденно, хотя казалось почти невозможным, что такое звенящее безмолвие способно возникнуть в столь узкой грудной клетке. То Маккохи вдруг спонтанно переведет ротовой объект, и перевод будет настолько убедительным, что профессор немедля поместит его в словарь, сообщив, что отныне и в течение многих лет именно этот перевод будет считаться каноническим. В таких ситуациях мне ничего не оставалось, как вжаться в стул и понуро склонить голову.
Можете представить, как презирали меня остальные: ведь они чувствовали, что я могу подняться над ними. Меня дразнили, высмеивали, портили мои вещи, валили на меня вину за чужие проступки. Я как будто снова вернулась в дом тетки, к злым кузенам, но на этот раз все происходило по моей собственной воле, так что мне было все равно. Мои преследователи находили сотни способов помешать мне, но безуспешно. Я училась блестяще, избавлялась от конкурентов, как только представлялся случай, и очень скоро стала лучшей ученицей в классе.
Однажды Рэмшед продемонстрировала свое невежество, с сочувствием проговорив, что я хоть и заслуживаю того, чтобы стать преемницей директрисы, никогда не стану ею из-за своего цвета кожи. Услыхав это, Диксон, обычно объединявшаяся против меня с моими врагами, обиделась (кожа у нее была куда чернее моего) и заявила: «Даже попугай сможет править этой школой, если директриса Джойнс решит вещать его устами».
Это показалось мне не слишком обнадеживающим замечанием, и я пожалела, что она так сказала, но никак не могла выкинуть ее слова из головы. Однажды, когда мы с Диксон остались вдвоем в читальном зале, я обратилась к ней. Впервые я решила доверить свои сокровенные мысли кому-то в школе, и это заставило меня испытать и страх, и облегчение. Срывающимся от волнения голосом я заговорила, а Диксон отпрянула.
– Так значит, чтобы стать лучше, я должна перестать быть собой. Располагать властью, но не своей собственной. Иметь голос, но не свой собственный. Зачем мы так надрываемся, если цель всего этого – стать рупором для старой белой женщины?
Диксон оглянулась, проверила, не подслушивает ли кто, и я сначала решила, что сейчас она меня отругает. Но не такто часто ей выпадала возможность похвастаться своими знаниями, и она не удержалась.
– Она и сама рупор для мертвых, – напомнила она.
– И все они почему-то белые, – заметила я. Впервые эта мысль пришла мне в голову, и я задумалась: а правда ли это? – Неужто законы Джима Кроу распространяются и на загробную жизнь?
Диксон вскипела:
– У мертвых нет цвета кожи, как нет и лиц. Они переведены на язык смерти. Их перетопили в слова, как говяжий жир в сало, а слова бесцветны и безличны, как судьба. – Она повторяла слово в слово за директрисой.
– А лингва франка смерти, значит, английский? Никогда не слышала, чтобы директриса говорила на китайском или че-роки, – продолжала я. – С чего бы мертвым эскимосам говорить на языке племени белых людей, обитающих на острове, расположенном на другом краю Земли? Почему бы им не говорить на их собственном языке?
– Не бывает собственных языков, – с подчеркнутым терпением произнесла она. – Мертвые говорят за нас и через нас.
– Но почему тогда директриса не говорит на эскимосском вдобавок к английскому?
– Говорила бы, если бы эскимосы сидели вокруг и слушали. Нет голоса без уха.
– Тогда, – не унималась я, – почему она всегда говорит на современном языке, разве что слегка устаревшем, а не на древнеанглийском или бретонском? Почему я не говорю на смеси гэльского с игбо и йоруба? Почему ты не…
– Хватит умничать, – осадила она меня. – Исключительное право на наши рты не принадлежит нашим биологическим предкам, тебе это отлично известно. Не наши тела, а голоса, что проходят через них, делают нас теми, кто мы есть.
– Но выходит, эти голоса не случайны. Мы – никто, но когда мы становимся кем-то, это не случайный «кто-то», а американец или англичанин – одним словом, призрак, говорящий по-английски. А еще он белый – или говорит, как белый…
– Ты тоже говоришь, как белая.
– Только задумайся, Диксон, я – никто. Ты – никто. Она – никто. Так? – Диксон пожала плечами, вроде бы соглашаясь. – Но почему-то она – более важная никто, важнее нас с тобой.
Ответа Диксон я так и не услышала: в зал вошли другие девочки. Я покинула ее с ощущением, что, возможно, совершила большую глупость, рассказав о своих сомнениях одной из главных соперниц. В тот вечер, входя в столовую, я приготовилась к последствиям. Но лица – бежевые, коричневые и розовые, дружелюбные, враждебные и безразличные – уставились в тарелки и как ни в чем не бывало орудовали ложками, а призраки то появлялись, то исчезали, порхая в витавших над тарелками клубах пара. Из солидарности, а может, из страха, что бесчестье падет на обе наши головы, Диксон предпочла молчать.
Однако слова мои произвели на меня саму куда более глубокое впечатление, чем я рассчитывала, и теперь меня тревожили собственные мысли. В тот вечер по пути в спальню я встретила в коридоре служанку с коричневой, как у меня, кожей, и не стала отводить глаз, как делала обычно, а посмотрела прямо ей в лицо. Наши взгляды ненадолго пересеклись, и она потупила взор, в котором читалось знакомое сообщение: ты не одна из нас. Еще в теткином доме я пыталась найти утешение у кухонной прислуги и чувствовала, как опаслива их доброта. Тогда я не понимала, почему они так настороженно относятся ко мне, но сейчас поняла. Когда я открывала рот, оттуда звучал голос белой девочки. («Белая черная девочка», – так меня и называют там, на кухне, до сих пор.)
Но теперь я стала медиумом, умеющим говорить с призраками; разве не так? И неужели одному лишь Бенджамину Франклину и Лиззи Борден есть что сказать живым? Неужели Дред Скотт или Титуба не желают подать голос? С чего им сидеть тихо, ведь их легионы – убитых хладнокровно и расчетливо, погибших от жестокого обращения, постоянных побоев и ужасных предрассудков, их, чьи жизни ни в грош не ценились из-за цвета их кожи? Да реши они заговорить, живые бы оглохли от их плача!
Я долго стояла в дверях спальни, взгляд скользил по рядам кроватей. Затем я раскрыла ладони, словно выпуская что-то. В самом деле, с какой стати им избирать меня своим рупором? Я подошла к своей койке и села, сложив руки на груди. Всю жизнь я провела среди белых. В их обществе пыталась держаться на равных, что становилось мерилом и подтверждением его либеральности. Никто никогда не просил меня нести на плечах груз своего происхождения. Смогу ли я сейчас взвалить этот груз на плечи? Мне хотелось это сделать (и здесь я рассуждала как невинное дитя); я воспринимала это как входной билет, плату за вступление в братство, частью которого я себя никогда не ощущала. Но заслужила ли я это право? Однажды чей-то рот раскроется и выпустит сонм чернокожих призраков. Но будет ли этот рот моим?
Призраки приближались. Будь они чем-то бо́льшим, чем завитками бесплотного пара, будь у них глаза, они бы увидели замешательство, обиду и неприкаянную тоску по дому той, у кого дома никогда и не было. Но их шепот медленно доходил до меня. Пускай корни, шептали они. Мы ждем тебя. Возвращайся домой.
Отбросив в сторону искушавшие меня сомнения, я с удвоенным упорством взялась за учебу.
В конце концов презрение, что я видела в окружавших меня взглядах, сменилось смирением, задумчивостью и даже страхом. В то же время, поскольку у меня была такая возможность, я старалась быть полезной директрисе и потихоньку осваивала все тонкости ее дела. Директриса постоянно стремилась совершенствовать язык и начинала использовать новые идиомы, не потрудившись сперва объяснить их значение; тогда я начинала их интерпретировать. Я интерпретировала ее жесты, и даже молчание, ибо теперь я знала ее лучше, чем кто-либо еще. Это стало для меня огромным преимуществом. Это все и решило.
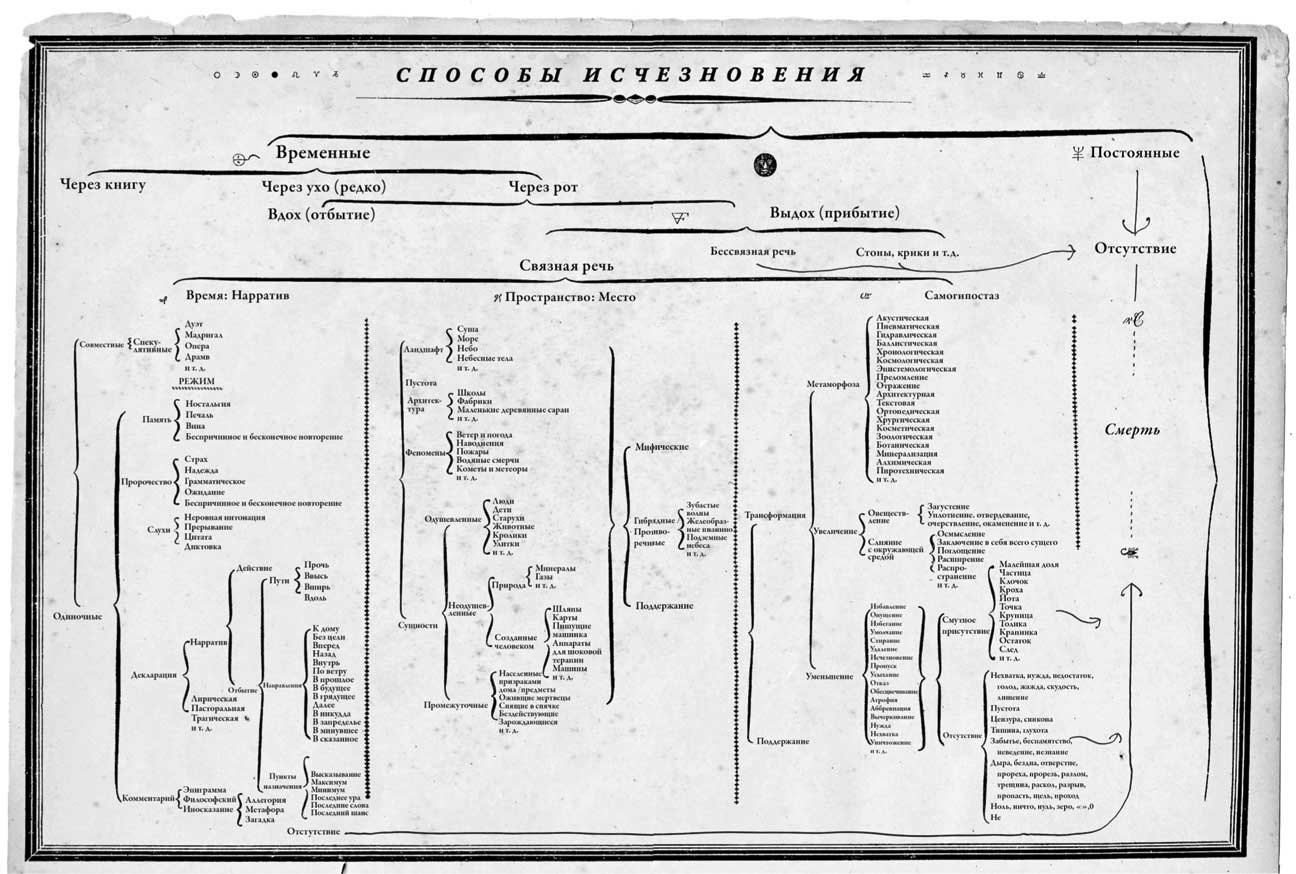

Назад: 11. Последнее донесение (продолжение)
Дальше: Документы

