Ich liebe dich
Классический роман-биография
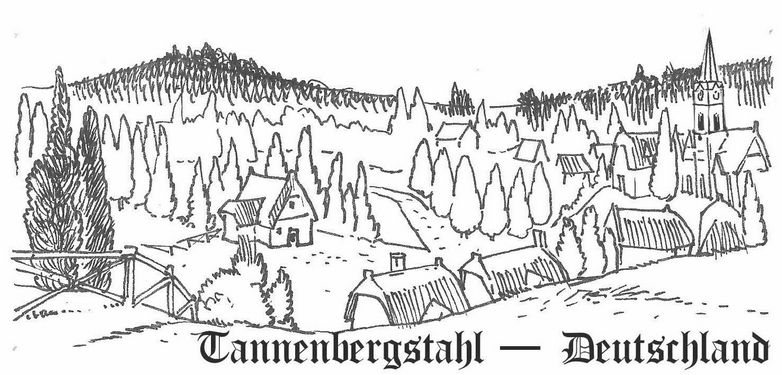
Буфет
Вот как хотите, но одним из моих главных воспитателей был дубовый, обшитый шпоном красного дерева буфет. Верхний этаж стеклянный, нижний глухой. Буфет, полный всякой красоты, как огромная волшебная шкатулка. Фарфоровый сервиз, в котором все тарелки, все блюда расписаны по-разному, ни один цветок не повторялся. На каждом блюде было нарисовано маленькое насекомое – то мотылёк, то жучок – причём так, что каждый раз, доставая блюда к приходу гостей, их безуспешно пытались смахнуть. Зелёного стекла расписная кружечка с курорта Ауэ – с маленьким секретом: она была (и есть) легче, чем казалась с виду, так что впервые бравшего её в руки ждал приятный сюрприз – толстое на вид дно на самом деле пустое, утолщение представляет собой изгиб корпуса (и кружку в этом месте нелегко мыть). Бойцовые петухи из цветного стекла. Одно из первых воспоминаний: один из них падает из моих рук, и его хвост разлетается на тысячу осколков; какое это горе – разрушение красоты! Фарфоровые фигурки: и пастушки, и знатные дамы в пышных платьях, и их разодетые кавалеры. Сахарница: вроде бронза, а на самом деле – искусно раскрашенный фарфор. Коробочка на ножках, с непонятной эмблемой на крышке: щит, а в нём сорока. (Разгадку эмблемы внимательный читатель найдёт ниже.) Чайные чашки, читать сквозь которые нельзя, не буду преувеличивать, но на свет смотреть больно. Зеркальная поверхность глазури, невесомая хрупкость, золотой ободок из рельефных листочков: эти чашки (Kutschenreuther Selb, Bavaria – такая марка, как сообщает интернет, выставлялась на изделия фабрики с 1857 по 1920 годы; да, знатоки антиквариата, именно Selb, а не Gelb) навсегда останутся для меня эталоном фарфора, и мне смешно, когда принимаются восхищаться каким-нибудь толстостенным советским сервизом.
А какой запах источали эти чашки и тарелки, но особенно чашки! Я утверждаю, что и сейчас, когда я вечером наливаю себе чаю в эту чашку, я ощущаю тот же аромат старого буфета, что и сорок лет назад – хотя уже лет семь, как чашки эти в нём не стоят, – и что это не галлюцинация и не самовнушение. Думаю, причиной тому особая пористость фарфора и необыкновенно тонкий слой глазури, благодаря чему стенки чашек законсервировали этот аромат и отдают его мне (и только мне теперь – больше не осталось способных ощутить этот аромат, ведь для этого его нужно помнить).
Бабушка с дедом не знали, что привезли всю эту кунсткамеру морозным (ниже сорока) мартовским вечером 1950 года на далёкую от родины этих вещей станцию Защита именно для того, чтобы через 25 лет у их внука было то самое избыточное культурное пространство, без которого он стал бы кем-то другим – так что вероят(ност)ные читатели этой книги могут с полным основанием благодарить за неё именно буфет.
Deutschland. Das Kindermärchen
1948–1950
Маленькая русая девочка сидит в огромном кресле-качалке. В руках у неё большая книга сказок. С картинками. Одна из картинок страшная, её нужно пролистнуть быстрее. За спиной у девочки – изразцовая печь. Бело-голубые изразцы иногда приобретают дополнительный коричневый оттенок – потому что шоколад из папиного и маминого пайка горький и невкусный, зато им прекрасно можно рисовать по тёплой печи. Печь чуть-чуть не достаёт до высокого потолка, и пространство между кажется очень уютным – только как туда залезть? А! Надо пододвинуть кресло! Не откладывая задуманного, девочка пододвигает высокую качалку к печке, становится на спинку, подтягивается, забирается на печь, отталкиваясь ногами от качалки – и та отъезжает по гладкому паркетному полу. Путь назад отрезан.
Приходит мама.
– Женя, ты где?
Нет ответа. Женя сидит тихонько на печи и боится маминого гнева. Поиски по всему дому ни к чему не приводят. Эльза и даже сама фрау Каден в тревоге бегают по комнатам. Нет ребёнка. Вокруг дома, в саду тоже нет. Надо искать в городе, благо, весь город Танненбергсталь – это десяток-другой домов. Весть моментально разносится: дочка des Herrn Moiseev пропала! Всё население городка помогает искать. Не только из сочувствия чужому горю: люди не уверены, что не последуют репрессии. Советским властям пока не сообщают, но в самом страшном случае – кто знает, как они отреагируют? Обыскали всё. Остаётся последнее и самое страшное: пруд рыбоводческого хозяйства. Решение спустить пруд даётся нелегко: на дворе начало лета, и если сейчас слить воду из пруда, город останется без рыбы. А это не шутки в такое время, когда продукты дороже фамильных драгоценностей. Однако делать нечего. И бургомистр отдаёт приказ: открывать шлюзы.
В это время убитая горем мать возвращается домой. Без сил опускается в кресло. И слышит откуда-то сверху тихий голосок:
– Мама!
Пруд не успели спустить.
Был, конечно, детский сад для советских детей. Тоже в чьей-то усадьбе. С прудом, опять же, и с беседкой на островке. Третьей хорошей вещью в садике был попугай. Но этим его плюсы исчерпывались, и девочка побывала там всего несколько раз.
От семьи прежних хозяев дома остались только фрау Каден – хозяйка, чей муж прежде был управляющим крупной фабрикой линолеума (этим линолеумом с орнаментом из свастик был устлан пол на кухне) – и Эльза. Она жила в ванной комнате: ванна закрывалась специальной крышкой и превращалась в кровать.
Чтобы разговаривать с русским ребёнком, весь день остававшимся на их попечении, они раздобыли словарь и принялись учить русский язык. Слово «бабушка» оказалось непреодолимым. Выговорить его не было никакой возможности. Вздувались жилы на лбу, напрягалась шея, мучительный поток взрывных звуков прорывался наружу: БАПШКА! Совет матери (вот чего бы ей дома не остаться, зачем надо было идти работать в заводскую лабораторию, где наши, в отличие от немцев, перебирали руду голыми руками, и смеялись над их просвинцованным бельём и фартуками? – впрочем, ей-то всю жизнь всё было как с гуся вода) был таков: «А вы лучше её немецкому учите!» Логично. Тем более что и учить-то не пришлось: ведь из русского детского сада забрали? Забрали. Значит, с кем играть? С немецкими детишками, конечно. С лучшей подругой Урсулой. Так что вскоре подросшая девочка, уходя из дома, небрежно роняла матери: «So, also, aufwiedersehen!», а на вопрос: «Женечка, а что такое зо альзо?», не затрудняясь размышлениями, отвечала: «Ну, просто, зо альзо и всё».
На курорте Бад-Эльстер, заполненном советскими офицерами и лицами в штатском с жёнами и без, за спиной перешёптывались, да и в глаза говорили: «Неужели русских сирот после войны мало? Зачем надо было брать немецкую девочку?» Никто не верил, что девочка, мол, самая что ни на есть русская, и не приёмная, а родная дочка, да и кто бы поверил, когда эта «русская дочка» переводила родителям меню и помогала общаться с продавцами?
В Рудных горах домики на склонах стоят так, что с одной стороны один этаж, а с другой два. В окнах веранды цветные стёкла, которые делают мир вокруг ещё более сказочным, чем он есть на самом деле. А он сказочен: вокруг покрытые еловыми лесами горы, бурные ручьи, кирпичные домики, церковь. И в доме полно всяких волшебных вещей: не только книги с картинками, но и напольные часы, сова и орёл на буфете, и фарфоровые фигурки (а ещё и бронзовые, и стеклянные), и открытки: раскроешь такую – и перед тобой встают, распрямляясь, заросли камыша, и тройка белых лебедей тянет кувшинку с толстеньким мальчишкой, у него лук со стрелами, а в руках вожжи – тоненькие проволочки. А игрушечный дом? С мебелью, и настоящей фарфоровой посудой – только очень маленькой.
Перед отъездом мама клятвенно обещала: кукольный домик обязательно возьмём с собой. И вот упаковываются ящики, стучат молотки, мебель и посуду пересыпают стружками, и уже отпали последние сомнения: про домик забыли.
– Мама, а домик?!
– Да отстань ты со своим домиком!
Всё понятно. Надо спасать то, что ещё можно спасти. И девочка набивает карманы, свою сумочку, рассовывает по чемоданам кукольный чайный сервиз. Из него до моего детства дожил только молочник. Величиной – нет, не с напёрсток, чуть побольше. С напёрсток были чашечки.

