Ненормальные
Исторический очерк
(отрывки)
Сегодня я хотел бы начать анализ области аномалии, какой она функционировала в XIX веке. Я попытаюсь показать вам, что эта область сложилась из трех элементов. Эти три элемента выделяются, определяются, начиная с XVIII века, и по-своему знаменуют наступление XIX века, образуя область аномалии, которая постепенно охватит, оккупирует, в некотором смысле колонизирует и в конечном итоге поглотит их. Эти три элемента являются в сущности тремя фигурами или, если хотите, тремя кругами, внутри которых шаг за шагом поднимается проблема аномалии.
Первая из этих фигур – это фигура, которую я назову «человеческим монстром». Референтным полем человеческого монстра, разумеется, является закон. Понятие монстра, по сути своей – юридическое понятие, в широком смысле слова, конечно; монстр определяется тем, что он самим своим существованием и внешним обликом нарушает не только законы общества, но и законы природы. На двух этих уровнях он представляет собой нарушение законов самим своим существованием. Таким образом, поле возникновения монстра – это область, которую можно назвать «юридическо-биологической». Кроме того, в этом пространстве монстр предстает как одновременно и крайнее, и крайне редкое явление. Он – предел, он – точка извращения закона, и в то же самое время он – исключение, обнаруживающееся лишь в крайних, именно в крайних случаях. Скажем так: монстр есть сочетание невозможного и запрещенного.
Этим обусловлен ряд двусмысленностей, продолжающих – почему я и хочу остановиться на этом чуть позже – преследовать фигуру ненормального человека и после того, как этот ненормальный человек, каким он определился в практике и знании XVIII века, воспроизвел в уменьшенном виде, перенял и, в некотором смысле, вобрал в себя черты, свойственные монстру. Да, монстр противоречит закону. Он – нарушение и нарушение, достигшее предельной степени. Однако, будучи нарушением (так сказать, сырым, необработанным нарушением), он не вызывает со стороны закона ответ, который был бы законным ответом. Можно сказать так: сила монстра, его способность устрашать основана на том, что, преступая закон, он в то же время лишает закон дара речи. Он отвлекает закон, обходя его. В то самое время, когда монстр самим своим существованием преступает закон, он вызывает, по сути дела, не ответ закона как таковой, а нечто совсем другое: насилие, попытки просто-напросто покончить с ним, или медицинское попечение, или просто жалость. Хотя существование монстра представляет угрозу для закона, отвечает на эту угрозу кто угодно, только не закон. Монстр – это нарушение, автоматически оказывающееся за пределами закона, и это одна из первых двусмысленностей. Вторая двусмысленность в том, что монстр – это в некотором роде спонтанная, стихийная, но как раз поэтому естественная форма противоестественного. Это созданная игрой самой природы преувеличенная модель, наглядная форма всевозможных мелких отклонений. И в этом смысле можно сказать, что монстр есть увеличенная модель всех незначительных нарушений. Это интеллигибельный принцип для всевозможных форм аномалии, циркулирующих в виде разменной монеты. Поиск фона монструозности за мелкими аномалиями, мелкими отклонениями, мелкими сдвигами: эта проблема будет заявлять о себе на всем протяжении XIX века. Так, этот вопрос поднимет, столкнувшись с преступниками, Ломброзо.
Что за великий природный монстр вырисовывается за мелким воришкой? Парадоксальным образом монстр – вопреки занимаемой им крайней позиции, вопреки тому, что он одновременно невозможен и запрещен, – оказывается интеллигибельным принципом. Причем этот интеллигибельный принцип – принцип насквозь тавтологический, ибо именно монстр самоутверждается в качестве монстра, объясняет собою все отклонения, которые могут быть из него выведены, сам при этом оставаясь непостижимым. Итак, он и есть эта тавтологическая интеллигибельность, этот отсылающий лишь к самому себе объяснительный принцип, который обнаруживается за всеми анализами аномалии.
Эти связанные с понятием монстра двусмысленности, громко заявившие о себе в конце XVIII – начале XIX веков, мы находим вполне жизнеспособными, хотя и смягченными, приглушенными, но все же действительно активными, во всей проблематике аномалии и во всех судебных и медицинских техниках, которые практикуются в отношении аномалии, в XIX веке. Говоря кратко, ненормальный (причем до конца XIX, а возможно, и до XX века) является по сути своей тривиальным, банализированным монстром. Ненормальный долгое время будет оставаться своего рода серым монстром.
* * *
Вторая фигура, которая тоже присутствует в генеалогии аномалии и ненормального индивида, – это фигура, которую можно было бы назвать фигурой «исправимого индивида». Это еще один персонаж, отчетливо вырисовывающийся в XVIII веке, несколько позднее монстра, и, как вы увидите, имеющий весьма глубокую родословную. По сути дела, исправимый индивид – это индивид, особенно характерный для XVII и XVIII веков, для классической эпохи. Его референтное поле явно уже, чем у монстра. Референтное поле монстра – это природа и общество, законы мира в их совокупности; монстр – космологическое (или антикосмологическое) существо. Референтное поле исправимого индивида имеет гораздо более узкие границы: это семья в регламенте ее внутренней власти или в ее экономическом распорядке или, самое большее, семья во взаимоотношении с институтами, которые соседствуют с нею или подпирают ее. Исправимый индивид возникает в той игре, в том конфликте, в той опорной системе, которая существует между семьей и школой, мастерской, улицей, кварталом, церковным приходом, полицией и т. д. Это обрамление и формирует то поле, в котором появляется исправимый индивид.
Однако этот исправимый индивид имеет и другое отличие от монстра: частота его распространения значительно выше. Монстр – по определению, исключение; исправимый индивид – явление обычное. До такой степени обычное, что ему свойственно – и это его первый парадокс – быть, если можно так выразиться, регулярным в своей нерегулярности. Из чего тоже проистекает целый ряд двусмысленностей, с которыми мы встречаемся в проблематике ненормального человека не только в XVIII веке, но и гораздо позднее. Прежде всего важно следующее: поскольку исправимый индивид очень распространен, поскольку он совсем рядом с правилом, его всегда очень трудно определить. С одной стороны, это своего рода семейная, повседневная данность, в результате которой такого индивида легко распознать сразу, и чтобы распознать его, не требуется улик – настолько он обычен. Поскольку же улик нет, никак невозможно на деле продемонстрировать, что индивид неисправим. Он ровнехонько на границе неквалифицируемости. На него нет нужды собирать улики, и его невозможно изобличить. Такова первая двусмысленность.
Вторая двусмысленность исправимого заключается в том, что подлежащий исправлению оказывается подлежащим исправлению постольку, поскольку все техники, все процедуры, все обиходные и внутрисемейные укротительные меры, с помощью которых его пытались исправить, не возымели действия. Выходит, что исправимый индивид определяется тем, что он неисправим. И тем не менее, парадоксальным образом, этот неисправимый, потому что он неисправим, навлекает на себя ряд особого рода вмешательств – ряд вмешательств, не сводящихся к техникам укрощения и коррекции обиходного и внутрисемейного уровня, то есть некую новую технологию перевоспитания, дополнительной коррекции. В итоге вокруг этого индивида сплетается своеобразная сеть взаимодействия неисправимости и исправимое. Намечается ось исправимой неисправимости, на которой-то и возникнет позднее, в XIX веке, индивид ненормальный. Другая же ось, ось неисправимой исправимости, станет стержнем всех специальных институтов для ненормальных, которые сложатся в XIX веке. Будучи серым, или тривиальным, монстром, ненормальный XIX века в то же время является неисправимым, тем неисправимым, который помещается в центре коррекционной машинерии. И в лице которого мы имеем дело со вторым предком ненормального XIX века.

Монстр из фильма «Лабиринт Фавна»
* * *
Третий же его предок – это «мастурбатор». Мастурбатор, ребенок-мастурбатор, представляет собой совершенно новую фигуру XIX века (хотя принадлежит она даже концу XVLII века), поле возникновения которой – семья. Даже, можно сказать, нечто более узкое, чем собственно семья: референтным полем ребенка-мастурбатора является уже не природа и общество, как это было у монстра, и не семья с ее окружением, как это было у исправимого индивида. На сей раз это гораздо более тесная территория. Это комната, кровать, тело; это родители, постоянные свидетели, братья и сестры; наконец, это врач – целая микроклетка вокруг индивида и его тела.
Эта появляющаяся в конце XVIII века фигура мастурбатора обладает рядом отличительных свойств по сравнению с монстром и неисправимым исправимым. Первое из них заключается в том, что в мысли, знании и педагогических техниках XVIII века мастурбатор зарождается и предстает отнюдь не как из ряда вон выходящий, но как частый случай индивида. Он предстает как индивид почти универсальный. Однако это совершенно универсальный индивид, то есть эта признаваемая универсальной практика мастурбации, в то же время считается закрытой, или не признававмой, такой, о которой никто не говорит, которой никто не знает и тайна которой никогда не передается из уст в уста. Мастурбация – это всеобщий, разделяемый всеми секрет, которым, однако же, никто ни с кем не делится. Это секрет, хранимый каждым, секрет, который никогда не попадает в самосознание и в общепринятый дискурс (ко всему этому мы еще вернемся), и общая формула на этот счет такова (я лишь слегка изменю слова о мастурбации, встречаемые в книгах конца XVIII века): «Почти никто не знает о том, что почти все это делают». И в этом пункте организации знания и антропологических техник XIX века есть нечто решительно новое. Этот всеми разделяемый и никем не выдаваемый секрет оказывается в своей квазиуниверсальности возможным и даже, может быть, реальным корнем почти всех возможных зол. Он – своего рода поливалентная причина, к которой можно привязать (и к которой медики XVIII века немедля привязывают) все многообразие, весь арсенал телесных, нервных и психических болезней. В патологии конца XVIII века не найти практически ни одной болезни, которая не могла бы основываться на той или иной разновидности этой, то есть сексуальной, этиологии. Иными словами, этот почти универсальный принцип, обнаруживаемый почти у всех, в то же время выступает объяснительным принципом наисерьезнейшего нарушения природы; это объяснительный принцип патологической частности. Мастурбируют все – и это объясняет, что некоторые подвержены тяжелым болезням, которых нет ни у кого другого. С этим этиологическим парадоксом в применении к сексуальности и сексуальным аномалиям мы встретимся и в XIX, и в XX веках. В нем нет ничего удивительного. Удивительно же, если хотите, то, что этот парадокс и эта общая форма анализа были сформулированы, причем аксиоматически сформулированы, уже в последние годы XVIII века.
* * *
…Я хотел бы сделать несколько ремарок. Первая касается следующего. Разумеется, три фигуры, на чьи особенности в XVIII веке я вам указал, сообщаются друг с другом, вступают в сообщение очень быстро, уже во второй половине XVIII века. Например, отчетливо видно, как появляется фигура, по большому счету не известная предшествующим эпохам, – фигура сексуального монстра. Отчетливо видно, как взаимодействуют фигуры индивида-монстра и сексуально ненормального. Ведь мастурбация, как выясняется, способна вызвать не только злейшие болезни, но и тяжелейшие телесные дефекты, и тяжелейшие поведенческие извращения. В то же время в том же конце XVIII века все коррекционные институты уделяют все большее внимание сексуальности и мастурбации как самой сердцевине проблемы неисправимых. Иными словами, монстр, неисправимый и мастурбатор суть персонажи, которые сразу же начинают обмениваться некоторыми своими чертами и границы которых начинают вдаваться друг в друга. Но я считаю – и это один из важных пунктов, которые мне хочется подчеркнуть, – что эти три фигуры все-таки остаются совершенно обособленными и существующими отдельно друг от друга до конца XVIII – начала XIX веков. Узел возникновения того, что можно назвать технологией человеческих аномалий, технологией ненормальных индивидов, завяжется именно тогда, когда установится регулярная сеть знания и власти, в которой эти три фигуры будут объединены или, как минимум, осмыслены в общей системе регулярных установок. Именно в этот момент, только в этот момент, действительно выстраивается поле аномалий, в котором мы обнаружим и двусмысленности монстра, и двусмысленности неисправимого, и двусмысленности мастурбатора, но уже восстановленные внутри однородного и несколько менее регулярного поля. Но до этого, в эпоху, из которой я исхожу (конец XVIII – начало XIX веков), эти три фигуры, как мне кажется, остаются отдельными. Они остаются разделены ровно постольку, поскольку разделены системы власти и системы знания, с которыми они соотносятся.
Так, монстр соотносится с тем, что можно широко охарактеризовать как круг политико-судебных властей. И в конце XVIII века его фигура уточняется, даже трансформируется, вместе с трансформацией этих политико-судебных властей. Неисправимый определяется, прорисовывается, трансформируется и дорабатывается по мере того, как перестраиваются по-новому функции семьи, а также по мере развития дисциплинарных техник. Что же касается мастурбатора, то он появляется и прорисовывается в ходе перераспределения властей, прилагающихся к телу индивидов. Конечно, эти инстанции власти не являются независимыми друг от друга, однако они не следуют общему типу функционирования. Нет такой технологии власти, которая могла бы объединить их, подразумевая внятное функционирование каждой из них. Думаю, именно поэтому мы и сталкиваемся с тремя этими фигурами в отдельности. И те инстанции знания, с которыми они соотносятся, отдельны в такой же степени. Монстр соотносится с естественной историей, заведомо сосредоточенной вокруг абсолютного и непреодолимого различия видов, родов, царств и т. д. Неисправимый соотносится с типом знания, медленно складывающегося на протяжении всего XVIII века: это знание, порождающее педагогические техники, техники коллективного воспитания и формирования навыков. Наконец, мастурбатор появляется довольно поздно, в самые последние годы XVIII века, и Соотносится с зарождающейся биологией сексуальности, которая, собственно говоря, обретет научную стройность только в 1820–1830 гг. Таким образом, организация контрольных мер в отношении аномалии, как техника власти и знания XIX века, как раз и должна будет организовать, кодифицировать, сопрячь друг с другом эти инстанции знания и власти, которые в XVIII веке действуют порознь.
Еще одна ремарка: мне вполне отчетливо виден исторический уклон, который дает о себе знать в ходе XIX века и который постепенно переворачивает иерархию трех наших фигур. В конце или, по крайней мере, в течение XVIII века самой важной фигурой, которая будет доминировать, которая заявит о себе (и как громко!) в судебной практике начала XIX века, несомненно является фигура монстра. Именно монстр составляет проблему, именно монстр мобилизует и медицинскую, и судебную системы. Именно монстр является главной фигурой, из-за которой приходят в беспокойство и реорганизуются инстанции власти и поля знания. Затем постепенно выдвигается более скромная, приглушенная фигура, не столь перегруженная научно и кажущаяся совершенно безразличной ко власти, – это мастурбатор или, если хотите, весь универсум сексуального отклонения. Вот что теперь приобретает все большую важность. Именно эта фигура перекроет в конце XIX века все прочие и в конечном итоге даст ход главным проблемам, связанным с аномалией.
* * *
Теперь я хотел бы приступить к истории морального монстра, чтобы показать вам, по меньшей мере, условия его возможности. Для начала я намечу первый профиль, первое обличье этого морального монстра, вызываемого к жизни новой экономикой карательной власти. И как ни странно, хотя то, как это произошло, кажется мне очень показательным, первый моральный монстр был монстром политическим. Дело в том, что если патологизация преступления проходила, как я считаю, в ответ новой экономике власти, то своего рода дополнительное подтверждение этому дает тот факт, что первый моральный монстр, появившийся в конце XVIII века, и в любом случае самый важный, ярчайший монстр, был монстром политическим. В самом деле, в новой теории уголовного права, о которой я только что говорил, преступником выступает тот, кто, разрывая договор, под которым подписывался, предпочитает законам, руководящим обществом, членом которого он является, свой собственный интерес. Таким образом, разорвав первоначальный договор, индивид возвращается в природное состояние. В лице преступника воскресает «лесной» человек, парадоксальный «лесной» человек, ибо он не знает арифметики того самого интереса, который заставил его, его и подобных ему, подписаться под договором. И преступление, являясь своеобразным расторжением договора, то есть утверждением, предпочтением личного интереса наперекор всем остальным, по сути своей попадает в разряд злоупотребления властью.
Преступник – в известном смысле всегда маленький деспот, на собственном уровне деспотически навязывающий свой интерес. Так, уже в 1760-е годы (то есть за тридцать лет до Великой французской революции) вполне отчетливо проступает тема, которая окажется столь важной во время революции, – тема родства, сущностного родства между преступником и тираном, между правонарушителем и деспотическим монархом. Между двумя сторонами расторгаемого описанным образом договора есть своеобразная симметрия: преступник и деспот оказываются родственниками, идут, так сказать, рука об руку, как два индивида, которые, отвергая, не признавая или разрывая фундаментальный договор, превращают свой интерес в своевольный закон, навязываемый ими другим. В 1790 г., как раз в ходе дискуссий вокруг нового Уголовного кодекса, Дюпор (который, как вы знаете, представлял тогда отнюдь не крайнюю позицию) говорит так: «Деспот и злоумышленник одинаковым образом подрывают общественный порядок. Произвол и убийство суть для нас равноценные преступления».
Эту тему родства между властителем, возвышающимся над законами, и преступником, пребывающим под этими законами, эту тему двух людей вне закона, какими являются властитель и преступник, мы сначала обнаруживаем до Великой французской революции, в более мягкой и расхожей форме, согласно которой своеволие тирана является примером для возможных преступников или, в своем фундаментальном беззаконии, разрешением на преступление. Действительно, кто может запретить себе нарушать законы, если правитель, который должен вершить, предписывать и применять эти законы, дает себе право обходить, прекращать или, как минимум, не применять их к себе самому? Следовательно, чем более деспотична власть, тем более многочисленны преступники. Сильная власть тирана не искореняет злодеев, наоборот, она умножает их число. И с 1760 до 1780-1790-х гг. эта тема встречается нам постоянно, у всех теоретиков уголовного права. Но, начиная с революционного времени, а особенно с 1792 г., мы обнаруживаем эту тему родства, возможного сближения между преступником и властителем, в гораздо более красноречивой и разительной, в гораздо более конкретной форме, если хотите. Причем, строго говоря, на сей раз перед нами уже не столько сближение преступника и властителя, сколько своеобразный обмен ролями, обусловленный новой дифференциацией между ними.
Ведь кто такой, в конце концов, преступник? Преступник – это тот, кто разрывает договор, тот, кто нарушает договор время от времени, когда у него есть в этом потребность или желание, когда этого требует его интерес, когда в момент неистовства или ослепления он, вопреки простейшему разумному расчету, дает перевес своим интересам. Он – деспот временами, деспот вспышками, деспот по ослеплению, по прихоти, в моменты ярости – не так уж важно, как именно. Деспот, как таковой, в отличие от преступника, предписывает превосходство своего интереса и своей воли, отдает им постоянное преимущество. Деспот является преступником по своему статусу, тогда как преступник – деспот волею случая. Впрочем, говоря «по статусу», я утрирую, так как вообще-то деспотизм не может иметь социального статуса. Деспот навязывает свою волю всему общественному телу, находясь в состоянии постоянного неистовства. Деспот есть тот, кто постоянно, вне статуса и вне закона, но таким образом, каковой туго вплетен в само его существование, проводит и преступным образом навязывает свой интерес. Это постоянный нелегал, это индивид без социальной привязки.
Деспот – это одинокий человек. Это тот, кто самим своим существованием, своим одиночным существованием, совершает максимальное преступление, преступление тотального несоблюдения общественного договора, посредством которого только и может существовать и сохраняться общественное тело. Деспот – это тот, чье существование неотделимо от преступления, а значит тот, чья природа, чье естество тождественно противоестественности. Это индивид, предписывающий в качестве всеобщего закона или смысла государства свое неистовство, свои капризы, свое безрассудство. То есть, строго говоря, от своего рождения до смерти и, во всяком случае, на всем протяжении своего деспотического властвования король – по крайней мере, король-тиран – это просто-напросто монстр…

«Христианская Дирцея в цирке Нерона» Г. И. Семирадский. 1897 г.
* * *
Это возникновение монстра как короля и короля как монстра отчетливо заметно, по-моему, начиная с постановки в 1792 или в начале 1793 г. вопроса о суде над королем, о каре, которую к нему следует применить, а еще более – о форме, какую должен приобрести этот суд. Законодательный комитет предложил подвергнуть короля казни изменников и заговорщиков. На что некоторые якобинцы, и прежде всего, Сен-Жюст, возразили: Людовика XVI нельзя подвергнуть наказанию изменников и заговорщиков именно потому, что такое наказание предусмотрено законом; в таком качестве оно является следствием общественного договора, и законно применить его возможно лишь к тому, кто подписывался под этим договором и тем самым, однажды разорвав этот договор, соглашается с тем, что он [договор] будет действовать против него, на него или в отношении него. Король же, напротив, никогда, ни единожды не подписывался под общественным договором. И потому к нему не могут быть применены ни его внутренние положения, ни положения, которые из него вытекают.
К королю нельзя применить ни один из законов общественного тела. Он – абсолютный враг, которого все общественное тело должно рассматривать в качестве врага. Следовательно, нужно убить его, так же как убивают врага или монстра. И даже это, говорит Сен-Жюст, было бы слишком большой честью, так как, попросив у всего общественного тела убить Людовика XVI и избавиться от него как от своего монструозного врага, мы приравняем все общественное тело к нему одному. Иначе говоря, тем самым отдельно взятый индивид и общественное тело будут, в известном смысле, признаны равновеликими.
Между тем Людовик XVI никогда не признавал существования общественного тела, властвовал, пренебрегая его существованием, и применял свою власть к отдельным индивидам, как будто бы общественного тела не существует. Поэтому индивидам, подвергавшимся власти короля как индивиды, а не как общественное тело, следует избавиться от него тоже как индивидам. Иными словами, проводником уничтожения Людовика XVI должно послужить индивидуальное отношение, индивидуальная враждебность. На уровне политических стратегий эпохи это недвусмысленно означает, что предложение определить судьбу Людовика XVI всей нации было бы своего рода уклонением от ответа. Но на уровне теории права (который в данном случае очень важен) это означает, что кто угодно, даже не заручившись согласием остальных, имеет право покончить с королем. Убить короля может любой: «Право людей по отношению к тирании, – говорит Сен-Жюст, – это личное право».
* * *
Вся эта дискуссия по поводу процесса над королем, шедшая с конца 1792 до начала 1793 г., кажется мне очень важной не только потому, что в ней заявляет о себе первый крупный юридический монстр – политический враг, король, – но и потому, что в XIX веке, особенно во второй его половине, все приведенные рассуждения окажутся перенесенными и применяющимися в совершенно другой области, где при посредстве психиатрических, криминологических и других анализов (от Эскироля до Ломброзо) обычный, повседневный преступник тоже будет прямо квалифицироваться как монстр. С этого момента преступник-монстр будет вызывать вопрос: а следует ли, собственно говоря, применять к нему законы? Не должно ли общество просто избавиться от него как от существа монструозной природы и всеобщего врага, не прибегая к своду законов? Ведь преступник-монстр, прирожденный преступник, в сущности, никогда не подписывался под общественным договором; так относится ли он к ведению законов? Следует ли применять к нему законы? Во второй половине XIX века мы встречаем проблемы, присутствовавшие в дебатах об осуждении, о формах осуждения Людовика XVI, перенесенными на прирожденных преступников, на анархистов, которые тоже отвергают общественный договор, на всех преступников-монстров, на всех этих великих номадов, блуждающих в окрестностях общественного тела, но не признаваемых этим телом в качестве своей части.
В то же время с описанной юридической аргументацией перекликается не менее важная, на мой взгляд, образность – карикатурная, полемическая образность короля-монстра, являющегося преступником вследствие своей, так сказать, противоестественной природы, неотъемлемо ему присущей. Именно в эту эпоху поднимается проблема монструозного короля, именно в эту эпоху создается целый ряд книг, настоящие анналы королевских преступлений от Нимврода до Людовика XVI, от Брунгильды до Марии-Антуанетты. Тут можно привести книгу Левассёра «Коронованные тигры», «Злодеяния французских королев» Прюдома, «Ужасающие истории жестоких преступлений, бывших обычным делом королевских семей» Мопино, вышедшие в 1793 г. и заслуживающие особого интереса, так как в них выстраивается оригинальная генеалогия королевской власти.
Мопино утверждает, что институт королевства возник следующим образом. На заре человечества существовало две категории людей: одни посвящали себя земледелию и скотоводству, а другим выпадала обязанность охранять первых, так как кровожадные хищники могли съесть женщин и детей, уничтожить урожай, истребить стада и т. д. Поэтому возникла необходимость в охотниках, способных защищать общину земледельцев от диких зверей. Затем пришло время, когда охотники стали столь искусны, что дикие звери исчезли. Нужда в охотниках пропала, но, обеспокоившись своей бесполезностью, которая могла лишить их привилегий, коими они пользовались как охотники, они сами превратились в диких животных и повернулись против тех, кого прежде защищали. И стали сами нападать на стада и семьи, которые должны были охранять. Они были волками в человеческом обличье. Они были тиграми первобытного общества. И короли ничем не отличаются от этих тигров, от этих древних охотников, которые заняли место диких зверей, окружавших первобытные поселения.
* * *
Это была эпоха книг о королевских преступлениях, это была эпоха, когда Людовик XVI и Мария-Антуанетта изображались в памфлетах как пара кровожадных монстров, как объединившиеся шакал и гиена. И при всей конъюнктурности этих текстов, при всем их пафосе, они остаются очень важными по причине включения под рубрику человеческого монстра целого ряда тем, которые будут сохраняться на всем протяжении XIX века. Особенно буйно эта тематика монстра расцветает вокруг Марии-Антуанетты, которая концентрирует в себе на страницах тогдашних памфлетов множество черт монструозности. Прежде всего, конечно, она заведомо иностранка, а потому не принадлежит к общественному телу. Как следствие, по отношению к общественному телу страны, где она правит, она – дикое животное или, во всяком случае, нечеловеческое существо. Более того, она – гиена, людоедка, «тигрица», которая, как говорит Прюдом, «узрев […] кровь, становится ненасытной». Живое воплощение каннибализма, антропофагии властителя, питающегося кровью своего народа. И к тому же это скандалистка, распутница, предающаяся самому отъявленному разврату, причем сразу в двух ключевых его формах. Во-первых, инцесту, ибо из книг, из памфлетов о Марии-Антуанетте мы узнаём, что еще ребенком она была обесчещена своим братом Иосифом II, затем стала любовницей Людовика XV, а затем перешла к его шурину, так что дофин, вероятно, является сыном графа д’Артуа.
Чтобы передать настрой этой литературы, я процитирую вам фрагмент вышедшей в I году революции книги «Распутная и скандальная частная жизнь Марии-Антуанетты», посвященный отношениям будущей королевы и того самого Иосифа II: «Амбициознейший властитель, совершенно аморальный человек, достойный брат Леопольда – вот кто первым испробовал королеву Франции. Визит царственного приапа в австрийский канал посеял там, если так можно выразиться, страсть к инцесту и наимерзейшим наслаждениям, неприязнь к Франции [rectius: к французам], отвращение к супружеским и материнским обязанностям – словом, все то, что низводит человека до уровня диких зверей».
Итак, вот вам инцестуозность, а рядом с нею – еще одно тяжкое сексуальное преступление: Мария-Антуанетта гомосексуальна. И тут снова связи с эрцгерцогинями, сестрами и кузинами, дамами свиты и т. д. Как мне кажется, для этой первой презентации монстра на горизонте юридической практики, мысли и воображения конца XVIII века характерна пара: антропофагия – инцест, сочетание двух основных запретных утех. Со следующим уточнением: главную партию в первом явлении монстра исполняет, на мой взгляд, именно Мария-Антуанетта, фигура разврата, сексуального разврата, и в частности инцеста.
* * *
Но наряду с королевским монстром в это же время в литературном стане противника, то есть в антиякобинской, контрреволюционной литературе, вы столкнетесь с другой яркой фигурой монстра. И на сей раз монстр уже не злоупотребляет властью, но разрывает общественный договор посредством бунта. Уже не как король, но как революционер, народ оказывается точь-в-точь перевернутым изображением кровавого монарха. Гиеной, набрасывающейся на общественное тело. В монархической, католической и т. п., в том числе в английской литературе революционной эпохи, вы найдете перевернутый образ той самой Марии-Антуанетты, которую рисовали якобинские и революционные памфлеты. Другое лицо монстра открывается в связи с сентябрьскими побоищами: теперь это народный монстр, разрывающий общественный договор, так сказать, снизу, тогда как Мария-Антуанетта и сам король расторгли его сверху. Так, госпожа Ролан, описывая сентябрьские события, восклицает: «Если бы вы только знали, какими страшными деталями сопровождались эти выступления! Женщины, жестоко насилуемые, а затем разрываемые этими зверьми на части, вырванные кишки, надетые вместо орденских лент, кровь, стекающая по лицам пожирателей людского мяса!»
Барюэль в «Истории церкви революционного времени» описывает случившееся с графиней де Периньон, которую вместе с двумя ее дочерьми поджарили на площади Дофин, после чего там же сожгли заживо шестерых священников, отказавшихся есть жареное мясо несчастной. Тот же Барюэль рассказывает о том, как в Пале-Рояль торговали пирогами из человеческого мяса. Бертран де Мольвиль и Матон де ла Варенн приводят целую серию историй: знаменитую историю госпожи де Сомбрей, которая выпила ведро крови, чтобы спасти жизнь своего отца; или историю мужчины, который был вынужден выпить кровь, выжатую из сердца одного юноши, чтобы спасти двух своих друзей; или историю самих сентябрьских палачей, которые пили водку вперемешку с пушечным порохом и закусывали хлебом, смоченным в ранах убитых.
Здесь также налицо фигура развратника-антропофага, однако на сей раз антропофагия перевешивает разврат. Две темы – сексуальный запрет и пищевой запрет – очевидным образом стыкуются в обеих первых фигурах, как у просто монстра, так и у монстра политического. Обе эти фигуры обязаны строго определенному стечению обстоятельств, хотя в то же время они повторяют прежние темы – распутство королей, разврат сильных мира сего, народное насилие. Все это старинные темы, но интересно, что в этом первом явлении монстра они возрождаются и смыкаются друг с другом. И так случилось по ряду причин.
Во-первых, как мне кажется, потому что возрождение этих тем и новый рисунок животной дикости оказались связаны с реорганизацией политической власти, с новыми принципами ее исполнения. Не случайно то, что монстр появляется в связи с процессом над Людовиком XVI и сентябрьскими событиями, которые, как вы знаете, были, в некотором роде, народным требованием более жестокого, более скорого, более прямого и более справедливого суда, нежели тот, какой могло провести институциональное правосудие. Две эти фигуры монстра возникли именно вокруг проблемы права и исполнения карательной власти. Но они важны и по другой причине: они вызвали необычайно живой отклик во всей современной им литературе, в том числе и в литературе в самом традиционном смысле этого слова, но, прежде всего в литературе ужаса.
Мне кажется, что внезапный всплеск литературы ужаса в конце XVIII века, в годы, почти совпадающие с революционными датами, тоже следует увязать с новой экономикой карательной власти. В этот момент появляется монстр, противоестественно-природный преступник. И в литературе мы также встречаем его в двух обличьях. С одной стороны, мы видим монстра, злоупотребляющего властью: это властитель, дворянин, порочный церковник, монах-греховодник. С другой стороны, в той же самой литературе ужаса мы видим и низового монстра, возвращающегося к своей дикой природе: это разбойник, «лесной» человек, зверь с его безудержным инстинктом. Обе эти фигуры вы обнаружите, скажем, в романах Анны Радклиф. Возьмите «Пиренейский замок», целиком построенный на их сочленении: падший дворянин утоляет свою жажду мести самыми ужасными преступлениями и пользуется для этого разбойниками, которые, чтобы предохранить себя и спокойно преследовать свои интересы, соглашаются принять падшего дворянина в качестве своего главаря. Это двойная монструозность: «Пиренейский замок» сопрягает две ключевые ее фигуры, причем сопрягает их в очень типичном пейзаже, в очень типичных декорациях, поскольку действие, как вы помните, разворачивается в некоей местности, сочетающей приметы замка и гор. Это неприступная гора, в которой, однако, выдолблена пещера, затем превращенная в укрепленный замок. Феодальный замок, признак могущества сеньора и, как следствие, манифестация той беззаконной мощи, коей является преступность, образует единое целое с дикостью самой природы, в которой растворены разбойники.

«Разбойники убивают женщину». Миниатюра XV в.
Мне кажется, что эта фигура из «Пиренейского замка» предоставляет нам весьма конкретное изображение обеих форм монструозности, появившихся в политической и образной тематике эпохи. Романы ужаса следует читать как романы политические.
Эти же две формы монструозности вы, конечно, найдете и у Сада. В большинстве его романов, во всяком случае в «Жюльетте», постоянно встречаются монструозность сильного и монструозность простолюдина, монструозность министра и монструозность бунтовщика – встречаются и содействуют друг с другом. В центре этой серии пар могущественного монстра и монстра-повстанца – Жюльетта и Дюбуа. Распутство у Сада всегда связано со злоупотреблением властью. Монстр Сада – не просто форсированная, более взрывная, чем обычно, природа. Монстр – это индивид, которому деньги, ум или политическое могущество дают возможность восстать против природы. Таким образом, вследствие этого избытка власти природа в садовском монстре обращается против себя самой и в конечном итоге убивает в себе естественную рациональность, чтобы превратиться в монструозное исступление, которое набрасывается не только на других, но и на себя тоже. Природное самоуничтожение, являющееся фундаментальной темой Сада, это самоуничтожение безудержных зверств непременно требует присутствия индивидов, обладающих сверхвластью. Или сверхвластью властителя, дворянина, министра, денег – или сверхвластью бунтовщика.
У Сада нет монстра, который был бы политически нейтрален или посредствен: либо он приходит со дна общества и вступает в борьбу против установленного порядка, либо он владыка, министр, дворянин, в распоряжении которого беззаконная сверхвласть над всеми общественными властями. Оператором распутства у Сада всегда выступает власть, избыток власти, злоупотребление властью, деспотизм. Эта-то сверхвласть и придает простому распутству монструозные черты.
* * *
Я хотел бы добавить вот что: две эти фигуры монстра – низовой монстр и верховный монстр, монстр-людоед, представляемый чаще всего образом восставшего народа, и монстр-кровосмеситель, представляемый преимущественно фигурой короля, – две эти фигуры важны, так как мы встретим их в самой сердцевине медицинско-юридической тематики монстра в XIX веке. Именно они в своем двуединстве будут неотступно преследовать проблематику ненормальной индивидуальности. В самом деле, не стоит забывать о том, что первые яркие эпизоды судебной медицины в конце XVIII, а особенно в начале XIX века, были связаны отнюдь не с преступлениями, совершенными в состоянии откровенного, несомненного безумия. Проблему составляло не это. Источником проблемы, точкой возникновения судебной медицины было само существование этих монстров, которых считали монстрами именно потому, что они были одновременно кровосмесителями и антропофагами, другими словами, поскольку они нарушали оба главных запрета: пищевой и сексуальный. Первым описанным монстром была женщина из Селеста, та самая, чей случай Жан-Пьер Петер проанализировал на страницах «Психоаналитического журнала»; женщина из Селеста, которая в 1817 г. убила свою дочь, разрезала ее на куски и зажарила в капустных листьях. Кроме того, через несколько лет имело место дело Леже, пастуха, вследствие одинокой жизни вернувшегося в природное состояние, который убил и изнасиловал свою маленькую дочь, вырезал и съел ее половые органы, а затем вырвал сердце и высосал из него кровь. Затем, около 1825 г., состоялось дело солдата Бертрана, который вскрывал могилы на кладбище Монпарнас, вынимал оттуда тела женщин, насиловал их, после чего вспарывал ножом и развешивал внутренности в виде гирлянд на крестах гробниц и ветвях деревьев. Эти-то фигуры и были организующими звеньями, факторами развития судебной медицины: фигуры монструозности, сексуальной и антропофагической монструозности. Эти темы, объединенные двойственной фигурой сексуального преступника и людоеда, будут иметь хождение в течение всего XIX века, постоянно обнаруживаясь на границах психиатрии и уголовной практики. Они же придадут рельефность ярчайшим криминальным фигурам конца XIX века. Среди них Ваше во Франции, Дюссельдорфский вампир в Германии, а главное, Джек-Потрошитель в Англии, который не просто потрошил проституток, но и был, по всей вероятности, связан довольно близким родством с королевой Викторией. Монструозность народа и монструозность короля вдруг снова сошлись вместе в его странной фигуре.
Людоед – народный монстр, кровосмеситель – царственный монстр, – две эти фигуры впоследствии послужили логической решеткой, подступом к целому ряду дисциплин. Разумеется, я имею в виду этнологию – возможно, и ту этнологию, что рассматривается как выездная практика, но прежде всего этнологию как академическую рефлексию над так называемыми примитивными народностями. Но если посмотреть на то, как формировалась академическая антропология, взяв, к примеру, сочинения Дюркгейма, пусть не как исходную точку, но [по крайней мере] как первый значительный образец этой университетской дисциплины, то выяснится, что ее проблематика складывалась вокруг тех же самых тем инцеста и антропофагии. Константой в изучении примитивных обществ был тотемизм, – и о чем же говорит тотемизм? Да вот о чем – о кровной общности: о животном как средоточии сил группы, ее энергии и жизнеспособности, самой ее жизни. Далее – проблема ритуального съедания этого животного. То есть впитывания общественного тела каждым, или растворения каждого в тотальности общественного тела. За тотемизмом, с точки зрения самого Дюркгейма, просматривается ритуальная антропофагия как момент экстаза общности, и такие моменты для Дюркгейма есть просто-напросто моменты максимального возбуждения, ритмично повторяющиеся на фоне вообще-то устойчивого и регулярного состояния общества. Устойчивого и регулярного состояния, характеризуемого чем? Как раз тем, что общинная кровь находится под запретом: нельзя прикасаться к людям из своей общины, и прежде всего к женщинам. Шумное тотемное пиршество, часто сопряженное с людоедством, – это всего-навсего регулярный всплеск общества, в котором действует закон экзогамии, запрет на кровосмешение. Есть время от времени безоговорочно запрещенную пищу, а именно человека, но при этом не позволять себе прикасаться к собственным женщинам: наваждение людоедства и отказ от инцеста. Вот эти две проблемы обусловили, определили для Дюркгейма, как, впрочем, и для его последователей, развитие антропологической дисциплины. Чем ты питаешься и на ком ты не женишься? С кем ты вступаешь в кровную связь и что ты имеешь право употреблять в пищу? Брак и кухня: вы отлично знаете, что эти вопросы занимают теоретическую и академическую антропологию и по сей день.
* * *
Именно с этими вопросами, основываясь на проблемах инцеста и антропофагии, наука и подходит ко всем мелким монстрам истории, ко всем этим внешним границам общества и экономики, порождаемым примитивными народностями. Коротко можно сказать следующее. Те антропологи и теоретики антропологии, которые предпочитают точку зрения тотемизма, то есть, в конечном счете антропофагии, приходят к этнологической теории, в соответствии с которой наши общества оказываются абсолютно чуждыми и далекими для нас самих, ибо их отсылают прямиком к первобытному людоедству. Это Леви-Брюль. Наоборот, если мы рассматриваем явления тотемизма по законам брака, то есть забываем о теме людоедства и сосредоточиваемся на анализе норм брака и символического круговращения, то в итоге приходим к этнологической теории как объяснительному принципу примитивных обществ и к переоценке их мнимой дикости. Это, вслед за Леви-Брюлем, Леви-Строс. Но так или иначе антропологи не избегают «вилки» каннибализм – инцест, не проходят мимо династии Марии-Антуанетты. То великое внешнее, великое другое, определения которого с XVIII века ищет наш политико-юридический внутренний мир, неизменно оказывается каннибалистически-инцестуозным.
То же, что относится к этнологии, бесспорно и в еще большей степени, как вы знаете, относится к психоанализу, ибо если антропология шла по пути, который привел ее от исторически первой для нее проблемы тотемизма, то есть антропофагии, к сравнительно недавней проблеме запрета на инцест, то история психоанализа, можно сказать, развивалась в противоположном направлении, и логическая решетка, приложенная Фрейдом к неврозу, была решеткой инцеста. Инцест: преступление королей, непомерной власти, преступление Эдипа и его семьи. Вот вам логика невроза. А затем, у Мелани Клейн, и логика психоза. Логическая решетка, выстроенная исходя из чего? Исходя из проблемы поглощения, интроекции хороших и плохих объектов, каннибализма уже не как преступления королей, но как преступления голодных.
Мне кажется, что человеческий монстр, чьи контуры начала очерчивать в XVIII веке новая экономика карательной власти, является фигурой, в которой коренным образом переплетаются две великие темы: кровосмешение королей и каннибализм нищих. Именно эти две темы, сложившиеся в конце XVIII века в рамках нового режима экономики наказаний и в частном контексте Великой французской революции, а вместе с ними две ключевые для буржуазной мысли и политики формы беззакония – деспотический властитель и восставший народ, – именно эти две фигуры и по сей день бороздят поле аномалии. Два великих монстра, которые возвышаются над областью аномалии, доныне не смыкая глаз, – в чем убеждают нас этнология и психоанализ, – есть не кто иные, как два великих героя запретного потребления: король-кровосмеситель и народ-людоед…
* * *
Теперь, для того чтобы полнее охарактеризовать такую важную фигуру в аномалии как мастурбатор, я намерен попытаться проследить эволюцию контроля над сексуальностью в христианских, прежде всего католических, учебных заведениях школьного уровня в XVII и XVIII [rectius: XVIII и XIX] веках. С одной стороны, в это время все отчетливее проступает тенденция к ограничению той нескромной словоохотливости, той дискурсивной пристрастности к телу желания, которая отличала техники руководства душами в XVII веке. Делаются попытки, в некотором смысле, успокоить словесные бури, разгоравшиеся вокруг самого анализа желания и удовольствия, анализа тела. Теперь исповедники стараются сглаживать, вуалировать, метафоризировать эти темы, разрабатывают целую стилистику сдержанности в исповеди и руководстве совестью: об этом пишет Альфонсо де Лигуори. Но в то же время, сглаживая, вуалируя, метафоризируя, вводя правило если не молчания, то, во всяком случае, discretio maxima сооружают целые здания, определяют расположение мест и предметов, ищут новые принципы устройства дортуаров, институциализации надзорных инстанций, планирования классных комнат и расположения в них стульев и столов; организуемое столь тщательно (ищут нужную форму, устройство уборных, высоту дверей, избегают темных углов) пространство видимости в школьных учреждениях сменяет собою и заставляет умолкнуть нескромный разговор о плоти, который подразумевало руководство совестью. Иначе говоря, материальные устройства призваны сделать просто бесполезными все эти взволнованные разглагольствования, которые в XVI–XVII веках ввела в обиход христианская техника, чьи контуры очертил Тридентский Собор.
Чем теснее будет ограждение тел, тем более деликатным и как следствие немногословным сможет быть руководство душами. В коллежах, семинариях, школах как можно меньше теперь говорят о теле-удовольствии, однако все в распорядке мест и предметов отображает его опасности. О нем почти не говорят, но всё о нем свидетельствует.
И вот среди этого поддерживаемого безмолвия, внутри самого этого механизма, где задача контроля над душами, телами и желаниями передана вещам и пространству, раздается внезапный шум, вспыхивает непредвиденный галдеж, которому не будет конца более столетия (то есть до конца XIX века) и который, пусть в несколько измененной форме, продолжится, несомненно, до наших дней. В 1720–1725 гг. (точной даты я не помню) в Англии выходит книга под названием «Онания», приписываемая перу Беккера; в середине XVIII века выходит знаменитая книга Тиссо, затем, в 1770–1780 гг., к этому дискурсу о мастурбации присоединяется Германия: Базедов, Зальцман и другие. Беккер в Англии, Тиссо в Женеве, Базедов в Германии – как видите, дело разворачивается в протестантских странах. Совсем неудивительно, что дискурс мастурбации зарождается в странах, где, с одной стороны, не было руководства совестью тридентского, католического, типа, а с другой стороны, не было и крупных образовательных учреждений. Тем, что существование образовательных учреждений и техник руководства совестью препятствовало возникновению этой проблемы, и объясняется то, что в католических странах она была поднята и произвела фурор несколько позднее. Но это было опоздание лишь в несколько лет. И после публикации книги Тиссо во Франции очень быстро возникли и дискурс, и проблема, и горячая дискуссия о мастурбации, которая не смолкала в течение целого века.
Итак, в середине XVIII века стремительно распространяются тексты, книги, иллюстрированные проспекты и брошюры, по поводу которых уместны два замечания. Во-первых, в этом дискурсе о мастурбации есть нечто глубоко отличное от того, что можно было бы назвать христианским дискурсом плоти (краткую генеалогию которого я попытался очертить вам в предыдущих лекциях); в то же время он значительно отличается и от того, что веком позднее будет названо psychopathia sexualis, сексуальной психопатологией, первым характерным текстом которой станет книга Генриха Каана, вышедшая в 1840 г. [rectius: 1844].

«Великий Мастурбатор». Сальвадор Дали. 1929
Таким образом, дискурс мастурбации появляется, причем появляется весьма специфическим образом, на полпути между христианским дискурсом плоти и сексуальной патологией. Это вовсе не тот дискурс плоти, о котором я говорил вам в прошлый раз, и вот по какой причине (она бросается в глаза): дело в том, что в дискурсе мастурбации никогда не используются такие слова, такие термины, как желание или удовольствие. В течение нескольких месяцев я с немалым интересом, хотя и быстро утомляясь, просматривал эту литературу и во всем ее корпусе обнаружил лишь единственное упоминание одного из этих терминов. Вопрос: «Почему юноши мастурбируют?». И одному медику, в 1830-1840-е гг., вдруг приходит в голову: «Должно быть, потому, что это доставляет им удовольствие!» Таков единственный случай. В этом дискурсе, в отличие от предшествующей христианской литературы, начисто отсутствуют желание и удовольствие.
Во-вторых, что также любопытно, дискурс мастурбации еще далек от сексуальной психологии или психопатологии в том виде, какой она приобретет у Каана, Крафт-Эбинга или Хэвлока Эллиса, ибо в нем почти нет сексуальности. С нею, конечно, считаются. Ссылаются на общую теорию сексуальности, какою, разумеется, она могла быть в это время в общем климате философии природы. Однако интересно заметить, что в этих текстах о мастурбации почти никогда не затрагивается взрослая сексуальность. Более того, о сексуальности ребенка в них тоже не говорят. В них говорят именно о мастурбации, о мастурбации как таковой, почти вне всякой связи как с нормальными проявлениями сексуальности, так и с ненормальными. Лишь в двух местах я обнаружил очень робкие догадки о том, что ярко выраженная детская мастурбация может впоследствии стать источником некоторых форм гомосексуального желания. Причем прямым следствием мастурбации в обоих этих случаях является не столько гомосексуализм, сколько импотенция.
Таким образом, в центре внимания этой литературы находится мастурбация как таковая, мастурбация в отдельности, а возможно, и в полном отрыве от своего сексуального контекста – мастурбация в своей специфичности. К тому же встречаются тексты, в которых говорится, что между мастурбацией и нормальной, реляционной, сексуальностью существует глубокое отличие в природе и что вовсе не одни и те же механизмы заставляют мастурбировать и желать кого-то другого. Вот первое замечание: мы имеем дело если не с промежуточной областью, то, как минимум, с областью, совершенно отличной как от дискурса плоти, так и от сексуальной психопатологии.
* * *
Второе замечание, на котором я хотел бы заострить ваше внимание, состоит в том, что этот дискурс мастурбации приобретает форму не столько научного анализа (хотя в нем есть явственная отсылка к научному дискурсу, – и к этому я еще вернусь), сколько настоящей кампании: делаются призывы, даются советы и наказы. Пишутся специальные руководства, в том числе предназначенные для родителей. Например, приблизительно в 1860 г. мы находим справочники для отцов по поводу того, как им бороться с мастурбацией у детей. И наоборот, есть трактаты для детей, для самих подростков. Самый знаменитый из них – пресловутая «Книга без названия», у которой, конечно, нет заглавия, но зато есть иллюстрации, то есть, на одной стороне идут страницы, где разбираются все катастрофические последствия мастурбации, а рядом прилагаются изображения постепенно гниющего, проваливающегося, похожего на оскал скелета, прозрачного лица юного мастурбатора, который себя истощил. Кампания эта подразумевает и создание институтов, которые должны лечить мастурбаторов или заботиться о них, выпуск брошюр о медикаментах, публичные выступления врачей, которые обещают семьям исцелить детей от этого порока. Так, от имени одного из таких институтов, больницы, открытой в Германии Зальцманом, утверждалось, что она – единственная во всей Европе, где дети никогда не мастурбируют. Мы находим рецепты, сведения о медикаментах, о приспособлениях и бандажах, к которым я еще вернусь. Теперь же, чтобы завершить этот краткий обзор самого характера кампании, крестового похода, который был присущ литературе против мастурбации, приведу вам один факт. Кажется, во времена Империи (во всяком случае, в последние годы XVIII – начале XIX веков) во Франции был организован музей восковых фигур, куда родителей приглашали прийти вместе с детьми, если у последних были отмечены признаки мастурбации. Музей этот как раз и представлял в виде статуй всевозможные болезни, которые могли поразить того, кто мастурбирует. Наряду с музеями мастурбации Гревена и Дюпюитрена он исчез с карты Парижа в 1820-е гг., но в 1825 г. есть упоминание о его работе в Марселе (причем парижские медики сожалели о том, что в их распоряжении больше нет этого маленького театра). Не знаю, может быть, в Марселе он существует до сих пор.
И вот в чем проблема. Почему в середине XVIII века столь внезапно, с таким размахом и шумом начался этот крестовый поход? Этот феномен известен, я не придумал его (или, во всяком случае, придумал не целиком!). Он стал предметом ряда комментариев, и сравнительно недавняя книга Ван Усселя под названием «История сексуальных репрессий» уделяет значительное и, на мой взгляд, вполне заслуженное внимание этому феномену возникновения мастурбации как проблемы в середине XVIII века. Объяснительная схема Ван Усселя такова. Она, в общем и целом, позаимствована у Маркузе – поспешно позаимствована у Маркузе – и заключается в следующем: по мере развития капиталистического общества тело, которое прежде – по Ван Усселю – было «органом удовольствия», становится и должно стать «орудием эффективности», эффективности, сообразной требованиям производства. Этим вызывается раскол, цезура в теле, которое подавляется как орган удовольствия и, наоборот, кодируется, дрессируется как орудие производства, орудие эффективности. Такого рода анализ нельзя назвать неверным, он не может быть неверным в силу своей широты; однако я не думаю, что он позволяет продвинуться в объяснении частных феноменов этой кампании, этого крестового похода. Меня, говоря шире, несколько смущает в подобного рода исследованиях использование понятийных серий, являющихся одновременно психологическими и негативными: например, постановка в центр анализа такого понятия, как «репрессия» или «вытеснение»; или употребление таких понятий, как «орган удовольствия», «орудие эффективности». Все это мне кажется одновременно психологическим и негативным: с одной стороны, это ряд понятий, которые, возможно, могут пригодиться в рамках психологического или психоаналитического исследования, но, по-моему, не могут отразить механику исторического процесса; с другой стороны, это негативные понятия – в том смысле, что они упускают из виду тот факт, что такая кампания, как крестовый поход против мастурбации, вызвала ряд позитивных и созидательных следствий в рамках истории общества.
И есть еще два момента, которые смущают меня в этой истории. Если кампания против мастурбации в XVIII веке действительно вписывается в процесс вытеснения тела-удовольствия и возвеличивания эффективного тела или продуктивного тела, то вместе с тем имеются две проблемы, остающиеся за рамками этой схемы. Первая из них такова: почему дело касалось именно мастурбации, а не сексуальной активности в целом? Если действительно хотели подавить или вытеснить тело-удовольствие, то почему подняли такой шум вокруг одной мастурбации, почему уделили такое внимание именно ей, не поставив вопрос сексуальности в общем виде? Между тем дело в том, что сексуальность в общем виде попала в медицинское и дисциплинарное поле зрения лишь начиная с 1850-х гг. А вот вторая проблема: не менее странно, что этот крестовый поход против мастурбации был направлен прежде всего на детей или, во всяком случае, подростков, а не на работающих людей. Мало того, это был крестовый поход против, главным образом, детей и подростков из буржуазной среды. Не где-нибудь, но именно в этой среде, в учебных заведениях для детей из этой среды, и не как-нибудь, но именно в виде инструкций для буржуазных семей борьба с мастурбацией и вышла на авансцену. Таким образом, если бы мы и впрямь имели дело с обыкновенным подавлением тела-удовольствия и возвеличиванием продуктивного тела, то должно было бы иметь место подавление всей сексуальности в целом и, в частности, сексуальности трудящегося, или, если угодно, взрослого трудящегося населения. Но имело место другое; под вопросом оказалась не сексуальность, а мастурбация, причем мастурбация у детей и подростков из буржуазных семей. Мне кажется, что именно этот феномен заслуживает объяснения, и объяснения при помощи немного более подробного анализа, нежели анализ Ван Усселя.
* * *
Чтобы попытаться выяснить это (я ни в коем случае не обещаю предоставить решение и даже должен сказать, что набросок решения, который я смогу дать, будет, по всей вероятности, очень несовершенен; но все же попытаемся продвинуться вглубь), чтобы выяснить это, нужно рассмотреть не столько темы этой кампании, сколько ее тактику, то есть рассмотреть различные темы этой кампании, этого крестового похода как проявления ее тактики. Первым бросается в глаза, разумеется, то, что можно было бы назвать (но только в первом приближении, с расчетом на более точный анализ) кульпабилизацией детей. Напротив, с удивлением замечаешь другое – то, что доля морализаторства в этом антимастурбационном дискурсе минимальна. Например, очень мало внимания уделяется различным формам сексуальных или другого рода извращений, которым могла бы способствовать мастурбация. Мы не видим древа аморальности, растущего из семени мастурбации. Когда детям запрещают мастурбировать, им грозят не растраченной в грехах и разврате, но загубленной болезнями взрослой жизнью. Таким образом, речь идет не столько о морализации, сколько о соматизации, патологизации. И эта соматизация осуществляется в трех различных формах.
Во-первых, мы встречаемся с тем, что можно было бы назвать фикцией тотальной болезни. В текстах, связанных с этим крестовым походом, мы регулярно обнаруживаем красочные описания своеобразной полиморфной болезни, абсолютной болезни без выздоровления, которая соединяет в себе все симптомы всевозможных болезней или, во всяком случае, огромное количество этих симптомов. В истощенном, разрушенном теле юного мастурбатора собираются вместе все болезненные признаки. Вот пример (причем я взял его отнюдь не из сомнительных, маргинальных текстов кампании, но из научного сочинения): это статья Серюрье из «Словаря медицинских наук», катехизиса серьезной медицины начала XIX века. Итак: «Этот молодой человек пребывал в состоянии полного маразма, его глаза смотрели безнадежно потухшим взглядом. Он удовлетворял себя всюду, где бы ни находился по требованию природы. Его тело источало невыносимо тошнотворный запах. Его кожа имела землистый оттенок, его язык дрожал, глаза глубоко впали в глазницы, все зубы шатались, а десны были покрыты язвами, которые предвещали цинготное перерождение. Смерть стала бы для него не более чем счастливым окончанием долгих страданий». Теперь вы представляете себе портрет юного мастурбатора с его фундаментальными характеристиками: истощение, крайняя худоба, инертное, полупрозрачное и размягченное тело, постоянные выделения, сочащийся изнутри гной, зловонная аура вокруг тела больного, как следствие – невозможность приблизиться к нему, многоликость симптомов. Все его тело чем-то покрыто, чем-то поражено; на нем нет живого места. И наконец, в нем уже присутствует смерть, ибо в обнажившихся зубах и провалившихся глазницах угадывается скелет». Мы в пределах, я бы сказал, научной фантастики, но, дабы не смешивать жанры, скажем: в пределах научного воображения, создаваемого и передаваемого на периферии медицинского дискурса. Я говорю «на периферии», хотя только что цитировал «Словарь медицинских наук», во всем совпадающий с множеством мелких сочинений, публиковавшихся от имени врачей, а иногда и самими врачами, но не имевшими научного статуса.
[Вторая форма соматизации]: интересно, что эта кампания, приобретшая форму научной фантазии о тотальной болезни, заявляет о себе также (она сама или, во всяком случае, ее эффекты, отголоски, ряд ее элементов) в более упорядоченной медицинской литературе, более внимательной к нормам научности медицинского дискурса своей эпохи. Заглянув не в те книги, которые прямо посвящены мастурбации, а просто в книги, написанные о различных болезнях самыми именитыми врачами этого времени, вы обнаружите в них мастурбацию уже не как источник этой сказочной тотальной болезни, но как вероятную причину всякой реальной болезни. Мастурбация фигурирует в этиологической картине самых разных недугов. Она является причиной менингита, говорит Серр в своей «Сравнительной анатомии мозга». Она является причиной энцефалита и воспаления мозговых оболочек, говорит Пайен в своем «Исследовании энцефалита». Она является причиной миелита и различных поражений спинного мозга, говорит Дюпюитрен в статье из «Французского ланцета» за 1833 г. Она является причиной болезни костей и вырождения костных тканей, утверждает Буайе в «Лекциях о болезнях костей» от 1803 г. Она является причиной глазных болезней, и в частности полной слепоты, говорят Сансон в статье «Слепота» из «Словаря медицинских наук» [rectius: из «Словаря практической медицины и хирургии»] и Скарпа в своем «Трактате о глазных болезнях». Бло в статье из «Медицинского ревю» за 1833 г. объясняет, что мастурбация часто, а может быть, и постоянно, вмешивается в этиологию всех заболеваний сердца. И наконец, вы, разумеется, найдете ее в истоке поражения легких и туберкулеза, об этом сообщает уже Порталь в своих «Наблюдениях о природе и лечении рахитизма» от 1797 г. Этот тезис о связи легочной болезни и мастурбации будет иметь хождение весь XIX век. Особый статус чахоточной девушки, явный интерес к ней и в то же время глубоко двусмысленную ее оценку, распространенные до самого конца XIX века, следует объяснять отчасти именно тем обстоятельством, что чахоточная всегда уносит с собой свой постыдный секрет. Также, конечно, надо сказать и о том, что мастурбация сплошь и рядом приводится в качестве источника безумия. Таким образом, во всей медицинской литературе она то фигурирует как причина сказочной всеобъемлющей болезни, то, наоборот, аккуратно указывается как одна из причин в этиологии различных заболеваний.
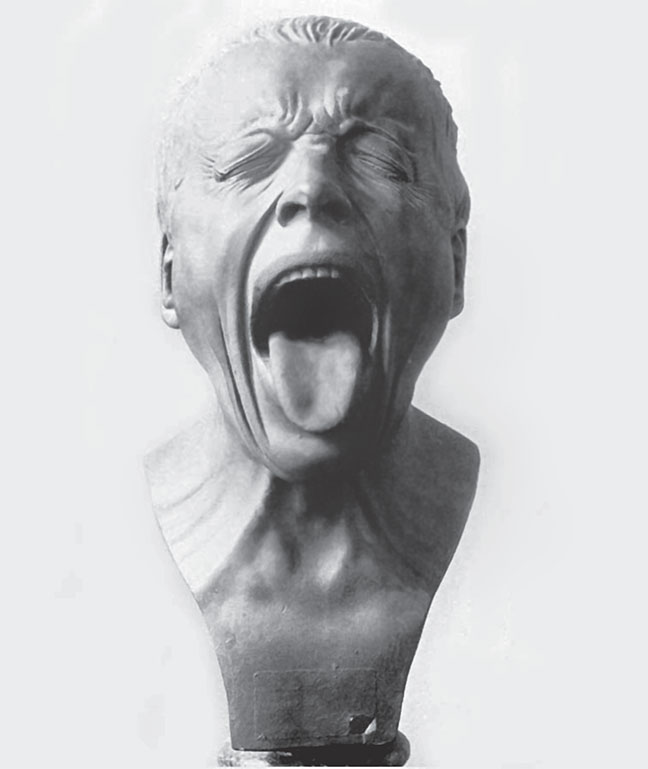
Характерная голова с высунутым языком. Скульптор Франц Мессершмидт
И наконец, третья форма, в которой мы сталкиваемся с принципом соматизации: медики этой эпохи заподозрили и вызвали-таки (по тем причинам, которые я только что описал) настоящий ипохондрический бред у своих пациентов-юношей – ипохондрический бред, с помощью которого им удалось повернуть дело так, что больные сами приписывали себе симптомы, связанные с этим первичным и фундаментальным пороком, каким считалась мастурбация. В медицинских трактатах, во всем этом корпусе проспектов, брошюр и т. д., то и дело заявляет о себе литературный жанр «письмо больного». Не были ли эти письма сочинены самими врачами? Некоторые из них, например те, которые приводит Тиссо, явно являются его собственными произведениями; некоторые другие, по всей видимости, аутентичны. Это целый литературный жанр, жанр краткой автобиографии мастурбатора, автобиографии, сосредоточенной вокруг его тела, истории его тела, истории его болезней, ощущений, всевозможных расстройств, подробно описываемых начиная с детства или, во всяком случае, отрочества – и до момента признания. Приведу вам один пример такого рода из книги Розье под названием «Тайные привычки у женщин». Вот этот текст (неважно, что написан он мужчиной): «Эта привычка привела меня в ужасное состояние. Я не надеюсь и на несколько лет дальнейшей жизни. Меня ежедневно обуревает страх. Я чувствую, как смерть шаг за шагом приближается ко мне […]. С тех пор [как я приобрел эту дурную привычку. – М. Ф.] меня стала охватывать слабость, которая с каждым днем усиливалась. По утрам, когда я просыпался […], у меня случались обмороки. Мои конечности начали издавать потрескивание, подобное тому, какое производит приводимый в движение скелет. Через несколько месяцев […] я каждый день, по утрам, поднявшись с постели, стал харкать и сморкаться кровью, иногда живой, а иногда уже свернувшейся. Я испытывал нервные припадки, которые не позволяли мне шевелить руками. У меня бывали головокружения и время от времени болело сердце. Кровяные выделения […] становятся все обильнее [и к тому же у меня насморк! – М. Ф.]».
* * *
Итак, во-первых, научная фикция тотальной болезни, далее, этиологическая кодировка мастурбации в общепринятых нозографических категориях и, наконец, организация под нажимом и при участии самих врачей своеобразной ипохондрической тематики, соматизации следствий мастурбации в речи, в жизнедеятельности, в ощущениях, в самом теле больного. Я не вижу оснований считать, что мастурбация была перенесена или просто занесена под моральную рубрику заблуждения. Напротив, я бы сказал, что в этой кампании мы имеем дело с соматизацией мастурбации: она соотносится с телом или, во всяком случае, ее следствия соотносятся с телом, с областью медицины, – все в ней и в том числе речь и опыт субъектов. За всем этим предприятием, которое, как видите, глубоко укоренено внутри медицинского дискурса и медицинской практики, за всем этим научным сочинительством просматривается то, что можно было бы охарактеризовать как неисчерпаемую причинную силу детской сексуальности или как минимум мастурбации. И мне кажется, что произошло тогда, в общем, вот что. Мастурбация усилиями самих врачей, по инициативе самих врачей приобрела характер своего рода рассеянной, общей и полиморфной этиологии, позволяющей соотнести с нею, то есть с некоторым сексуальным запретом, все поле патологического, включая смерть. Подтверждением этому может служить то обстоятельство, что в обсуждаемой литературе постоянно встречается, скажем, идея о том, что мастурбация не имеет собственной симптоматологии, однако ее следствием может быть какая угодно болезнь. Также часто говорится, что время проявления такого следствия абсолютно непредсказуемо, и детской мастурбацией вполне может быть вызвана старческая болезнь. В пределе, умирающий от старости умирает от мастурбации, которой занимался в детстве, и от связанного с нею преждевременного истощения своего организма. Мастурбация постепенно становится универсальной причиной, универсальным происхождением всех болезней. Трогая руками свои половые органы, ребенок раз и навсегда ставит под удар всю свою жизнь, причем не имея возможности рассчитать последствия, даже если он уже относительно развит и сознателен. Иными словами, в ту же эпоху, когда патологическая анатомия подбиралась к обнаружению в теле болезненной каузальности, на которой будет основываться вся клиническая и позитивная медицина XIX века, в это же самое время (то есть в конце XVIII – начале XIX века) набирала обороты кампания против мастурбации, в рамках которой на уровне сексуальности, а точнее, на уровне аутоэротизма и мастурбации, открывалась другая медицинская, другая патогенетическая каузальность, которой суждено было сыграть вспомогательную и обусловливающую роль по отношению к органической каузальности, выявленной впоследствии великими клиницистами и патологоанатомами XIX века. Сексуальность позволяет объяснить то, что не поддавалось объяснению иными путями. И в то же время она выступает добавочной каузальностью, поскольку подкрепляет видимые, обнаруживаемые в теле причины своеобразной исторической этиологией, подразумевающей ответственность больного за его собственную болезнь: если ты болен, то потому, что ты хотел этого; если твое тело поражено, то потому, что ты его трогал.
Разумеется, такого рода патологическая ответственность больного за свою болезнь не была открытием. Но мне кажется, что в обсуждаемый момент она претерпевает двойную трансформацию. В самом деле, в традиционной медицине, в той медицине, которая царила до самого конца XVIII века, врачи тоже всегда стремились установить некоторую ответственность больного за свои симптомы и за свою болезнь, пользуясь понятием режима. Несоблюдение режима, излишества, всякого рода неблагоразумие – вот что делало больного виноватым в болезни, которая его постигла. Теперь же эта общая каузальность в некотором смысле стягивается вокруг сексуальности, а скорее даже – вокруг собственно мастурбации. На смену старому вопросу «что же ты сделал со своим телом?» постепенно приходит новый вопрос – «что ты натворил своими руками?». И одновременно с тем, как ответственность больного за свою болезнь смещается от режима вообще к мастурбации в частности, – сексуальная ответственность, которая прежде, в той же медицине XVIII века, признавалась и определялась исключительно для венерических болезней, теперь распространяется на все болезни. Происходит взаимопроникновение между открытием аутоэротизма и назначением патологической ответственности: автопатологизация. Детство нагружается патологической ответственностью, и медицина XIX века об этом не забудет.
* * *
Итак, вследствие этой общей этиологии, вследствие причинной силы, которой теперь обладает мастурбация, ребенок несет ответственность за всю свою жизнь, за свои болезни и за свою смерть. Он ответствен за нее, однако виновен ли он в ней? Это второй момент, на котором я хочу заострить внимание. В самом деле, мне кажется, что участники этого крестового похода твердо настаивали на том, что ребенок не может считаться действительным виновником своей мастурбации. Почему? Да просто-напросто потому, что у мастурбации, как считалось, нет эндогенного происхождения. Да, половое созревание, нагнетание телесных жидкостей, как тогда говорили, развитие половых органов, усиленная секреция, натяжение стенок, общее возбуждение нервной системы – да, все эти факторы могут объяснить, почему ребенок мастурбирует, однако сама природа ребенка в его развитии должна считаться неповинной в мастурбации. Впрочем, еще Руссо говорил, что надо вести речь не о природе, но об образце. Вот почему, поднимая проблему мастурбации, медики этой эпохи настаивают на том, что она не связана с естественным развитием, с естественным созреванием, о чем как нельзя лучше свидетельствуют случаи ее более раннего появления. И с конца XVIII века мы то и дело сталкиваемся с наблюдениями над мастурбацией у детей препубертатного периода, в том числе у совсем маленьких. Моро Деласарт приводит случай двух девочек, которые мастурбировали в возрасте семи лет. Розье в 1812 г. наблюдает слабоумного семилетнего ребенка из детского приюта на улице Севр, который также мастурбирует. Сабатье собирает рассказы девочек-подростков, признающихся в том, что мастурбировали с шести лет. Сериз в своем тексте от 1836 г. под названием «Медик в приюте» пишет: «В приюте [и в других местах] мы видели двухлетних, трехлетних детей, совершенно автоматические движения которых несомненно предвещали необычную чувствительность». И наконец, де Бурж в своем «Справочнике отца семейства» от 1860 г. советует: «Следите за детьми с колыбели».
Важность, придаваемая этой препубертатной мастурбации, как раз и связана со стремлением, в некотором смысле, снять с ребенка или хотя бы с природы ребенка ответственность за этот феномен мастурбации, который в то же время, в другом смысле, делает ребенка ответственным за все, что с ним случится. Так кто же во всем виноват? Виноваты внешние обстоятельства, то есть случай. Доктор Симон в 1827 г. в своем «Трактате о гигиене в приложении к подросткам» выражается так: «Зачастую уже в самом нежном возрасте, в четыре-пять лет, а иногда и раньше, детей, вынужденных проводить свое время дома, какой-либо случай или зуд подталкивает к тому, чтобы потрогать свои половые органы. Возбуждение, вызванное легким прикосновением, влечет за собой прилив крови, нервную эмоцию и моментальное изменение формы органа, а это, в свою очередь, возбуждает любопытство». Как видите, дело в случае, в непреднамеренном, подчас механическом жесте, к которому удовольствие не причастно. Психика вмешивается в процесс лишь единожды, и то в качестве любопытства. Однако чаще всего говорят не о случае. Наиболее распространенной причиной мастурбации в текстах этого крестового похода является совращение, совращение взрослым: порок приходит извне. «Разве можно предположить, – пишет Мало в сочинении под названием «Новый Тиссо», – что мастурбатор сам, без всякого посредничества, может сделаться преступником? Нет, идею подобного рода разврата пробуждают в нем посторонние советы, намеки, откровения, примеры. Надо было бы иметь совершенно развращенное сердце, чтобы с рождения представлять себе тот противоестественный порок, всю степень чудовищности которого нам и самим трудно оценить». Иными словами, природа здесь ни при чем. А примеры? Это может быть пример, поданный ребенком постарше, однако чаще всего это непроизвольное и неосторожное потворство со стороны родителей или воспитателей при визитах в туалет – эти «неблагоразумные и распущенные руки», как говорится в одном тексте. Это может быть и, наоборот, намеренное и на сей раз скорее развратное, чем неосторожное, возбуждение со стороны, к примеру, кормилицы, желающей успокоить дитя. Это может быть самое обыкновенное совращение со стороны слуг, воспитателей или учителей.
* * *
Очень быстро, можно сказать, с самого начала, кампания по борьбе с мастурбацией обращается против сексуального развращения детей взрослыми, а еще более, чем взрослыми, повседневным окружением, то есть всеми, кому в ту эпоху полагалось находиться в доме. Горничная, гувернантка, воспитатель, дядя и тетя, двоюродные братья и сестры и т. д. – все они вкрадываются между добродетелью родителей и природной невинностью ребенка и вводят это измерение извращенности. Деланд в 1835 г. пишет: «Особенно опасайтесь домработниц-женщин; [поскольку] малолетних детей оставляют на их попечение, они нередко пользуются детьми в целях компенсации своего вынужденного безбрачия». Влечение взрослых к детям – вот в чем следует видеть источник мастурбации. Андриё приводит пример, который повторяется во всей литературе этой эпохи, а потому, я думаю, вы позволите мне его процитировать. Опять-таки в истоке этого фундаментального недоверия оказывается преувеличенный, а возможно, и придуманный рассказ; или, точнее говоря, этот пример ясно показывает, каков истинный адресат кампании: ее мишень – домашние, домашние во всем расширении этого слова, то есть все промежуточные внутрисемейные персонажи. Итак, одна малолетняя девочка, за которой ухаживала кормилица, стала чахнуть. Родители встревожились. И вот однажды они входят в комнату, где находилась кормилица, и с превеликим ужасом «обнаруживают эту несчастную [речь идет о кормилице. – М. Ф.] изнуренной, застывшей в неподвижности рядом с грудным ребенком, который [все еще], в омерзительном и, разумеется, бесплодном сосании, пытается получить пищу, которую могла бы дать ему только грудь!!!». Вот вам бесспорная внутрисемейная мания. Тут, рядом с ребенком, дьявол – дьявол в обличье взрослого, взрослого-посредника, если быть точным. Таким образом, обвинению подвергается не ребенок, но промежуточное и вредоносное пространство дома, причем эта кульпабилизация приводит, в конечном счете, к виновности родителей, так как несчастья происходят именно потому, что родители не хотят брать на себя непосредственную заботу о своих детях. Их безучастность, их невнимательность, их нерадивость и стремление к покою – вот что, по большому счету, выносит на свет детская мастурбация. Ведь, в конце концов, им просто надо было быть рядом и смотреть за своим ребенком. Поэтому вполне естественно, что результатом кампании – и это ее третья важная особенность – становится упрек в адрес родителей и отношения родителей к своим детям внутри семьи. В кампании, предметом которой является детская мастурбация, адресатом увещевания или, собственно говоря, даже упрека становятся родители: «Подобные случаи, число которых неуклонно растет, непременно должны, – пишет Мало, – приучить отцов и матерей к [большей] осмотрительности». Вина родителей провозглашается в рамках этого крестового похода устами самих детей, всех этих истощенных малолетних мастурбаторов, которые оказались на краю могилы и перед самой смертью в последний раз обращаются к своим родителям с такими словами (как один из них, в письме, которое приводит Дуссен-Дюбрей): «Как же они жестокосердны […] – родители, воспитатели, друзья, которые не предостерегли меня от опасности этого порока». А Розье пишет: «Родители […], которые с непростительной беспечностью предали своих детей пороку, способному их погубить, должны быть готовы к тому, чтобы однажды услышать отчаянный крик умирающего ребенка, достигшего последней стадии болезни: «Будь проклят тот, кто меня упустил».

Один из бюстов скульптора Франца Мессершмидта
* * *
Тем же, за что ратуют, – и это четвертая важная особенность кампании, – чего требуют, является, если смотреть в глубину, новая организация, новая физика семейного пространства: устранение всех посредников, по возможности отказ от прислуги и, во всяком случае, тщательный надзор за домашними; в идеале же ребенок должен быть один в сексуально безопасном пространстве. «Если бы единственным обществом девочки могла быть ее кукла, – пишет Деланд, – а единственным обществом мальчика – его лошадки, солдатики и барабаны, это было бы лучше всего. Такая изоляция была бы для них исключительно благоприятной». Вот, если хотите, идеальная ситуация для ребенка: быть одному со своей куклой или барабаном. Идеальная ситуация – и неосуществимая ситуация. На деле же семейное пространство должно быть пространством постоянного надзора. В туалете, при засыпании, при пробуждении, во время сна дети всегда должны быть под наблюдением. Ко всему вокруг своих детей, к их одежде, к их телу родителям следует быть предельно внимательными. Тело ребенка должно быть под их неусыпным присмотром. Оно – предмет первейшей заботы взрослых. Взрослые должны прочитывать его как геральдический знак или как поле возможных признаков мастурбации. Если ребенок бледен, если у него тусклое лицо, синеватые или сиреневатые веки, томный взгляд, если, поднявшись с постели, он выглядит усталым или апатичным, то причина всего этого ясна: мастурбация. Если ребенок с трудом просыпается в положенный час, значит он мастурбирует. Надо быть рядом с ним в ключевые, опасные моменты: когда он ложится спать и когда просыпается.
Также родителям следует расставить ряд ловушек, с помощью которых они смогут застать ребенка врасплох, за совершением того, в чем заключен не столько проступок, сколько первопричина всех его болезней. Вот какие советы дает родителям Деланд: «Присматривайте за ребенком, если он ищет темноты и одиночества, если он подолгу остается один, не приводя основательных причин уединения. Будьте особенно внимательны к нему в те минуты, которые он проводит в постели, прежде чем уснуть или встать; именно в это время можно застигнуть мастурбатора врасплох. Его руки никогда не бывают снаружи, обычно ему нравится забираться под одеяло с головой. Стоит ему лечь в постель, и вот он уже, кажется, погружен в глубокий сон: эта особенность всегда настораживает внимательного человека и более других способствует пробуждению или усилению бдительности родителей. […] И вот вы застигли молодого человека, чьи руки, если он не успел их переместить, – на органах, с которыми он балуется, или рядом с ними. Также вы можете заметить напряженный член или даже следы недавнего семяизвержения: о последнем можно догадаться и по специфическому запаху, который распространяется от постели или запачканных пальцев. Поэтому следует насторожиться, если мальчики, ложась в постель, или во время сна ведут себя так, как я только что описал […]. Следы семени надо расценивать как определенные доказательства онанизма, когда речь идет о неполовозрелых детях, и как вполне вероятные признаки этой привычки у подростков». Простите меня за то, что я привел все эти детали (к тому же под портретом Бергсона!), однако я думаю, что мы имеем дело с внедрением той семейной драматургии, которая всем нам хорошо знакома, великой семейной драматургии XIX и XX веков, этого малого театра семейной комедии и трагедии с его кроватями и покрывалами, с его темнотой и светильниками, с осторожным приближением на цыпочках, с запахами и пятнами на тщательно проверяемых простынях; всей этой драматургии, в которой любопытство взрослых вплотную приближается к телу ребенка. Это подробная симптоматология удовольствия. В этом все более тесном приближении взрослого к телу ребенка в тот момент, когда это тело испытывает удовольствие, мы, в конечном счете, сталкиваемся с правилом, симметричным правилу одиночества, о котором я говорил только что: мы сталкиваемся с правилом непосредственного физического присутствия взрослого рядом с ребенком, вокруг ребенка, чуть ли не на ребенке. Если есть необходимость, – как говорит Деланд, – то вам надо спать рядом с юным мастурбатором, чтобы помешать ему мастурбировать, спать с ним в одной комнате, а может статься, и в одной постели.
Существует целый ряд техник, позволяющих в том или ином смысле связать тело взрослого с телом ребенка в состоянии удовольствия – или с телом ребенка, которому нужно помешать войти в состояние удовольствия. Так, детям связывали на ночь руки, причем один из шнурков привязывался также к руке взрослого. Когда ребенок шевелил руками, взрослый просыпался. Известна история подростка, который сам просил привязывать его к стулу в спальне своего старшего брата. К стулу, на котором он спал, были прикреплены колокольчики, и когда он начинал двигаться во сне с намерением мастурбировать, колокольчики звенели, отчего брат просыпался. Розье приводит историю воспитанницы пансиона, «тайная привычка» которой однажды была замечена начальницей. Начальница вся «содрогнулась» и «с этой минуты» решила «делить свой сон с юной больной; никогда, ни на мгновение она не позволяла той ускользнуть от своего взгляда». И наконец, «несколько месяцев спустя» настоятельница (монастыря или пансиона) вернула юную воспитанницу родителям, которые с гордостью смогли представить свету «в высшей степени разумную, здоровую, сознательную, исключительно приятную девушку»!
* * *
За всеми этими глупостями скрывается, как мне кажется, очень и очень важная тема. Я имею в виду правило прямого, непосредственного и постоянного сопровождения тела ребенка телом взрослого. Да, посредники исчезают, но, в позитивных терминах, это означает вот что: тело ребенка должно находиться под бдительным присмотром или, в некотором смысле, неотступно сопровождаться телом его родителей. Максимальная близость, предельный контакт, почти слияние; обязательное ограничение тела одних телом других; обязанность взгляда, присутствия, сопричастности, контакта. Именно об этом говорит Розье, комментируя случай, который я приводил только что: «Мать подобной больной должна стать, в некотором роде, одеждой или тенью своей дочери. Когда что-либо угрожает детенышам двуутробки [кажется, это нечто вроде кенгуру. – М. Ф.], мать не только присматривает за ними, но и складывает их прямо в свое туловище». Включение тела ребенка в тело родителей: вот в чем, на мой взгляд, состоит (и простите меня за долгий окольный путь с атаками и отступлениями) центральный предмет всего этого предприятия, всего этого крестового похода. Речь идет о конституции нового семейного тела.
Аристократическая и буржуазная семья (кампания, напомню, ограничивалась именно этими формами семьи) до середины XVIII века была по сути своей реляционным ансамблем, сетью отношений восходящей линии, нисходящей линии, бокового родства, двоюродных связей, первородства, брака, которые соответствовали схемам передачи рода, деления и распределения имущества и социальных статусов. Именно взаимные отношения служили действительным основанием сексуальных запретов. Теперь же складывается, в некотором смысле, сжатое, твердое, плотное, массивное, телесное, аффективное семейное ядро: семья-клетка вместо реляционной семьи, семья-клетка с ее телесным пространством, с ее аффективным, сексуальным пространством, без остатка заполненным прямыми отношениями «родители – дети». Иными словами, я бы не сказал, что преследуемая и запрещаемая сексуальность ребенка является неким следствием сложения сжатой, или супружеской, родительской семьи XIX века. Я бы сказал, что, наоборот, сексуальность ребенка – одна из составных частей этой семьи. С выдвижением на передний план сексуальности ребенка, а точнее сказать, его занятия мастурбацией, с выдвижением на передний план тела ребенка, подверженного сексуальной опасности, родителям был предписан императив: ограничивать обширное, полиморфное и опасное пространство семейного дома и быть со своими детьми, со своим потомством своего рода единым телом, связанным заботой о детской сексуальности, тревогой о детском аутоэротизме и мастурбации: родители, будьте бдительны к возбуждению ваших дочерей и желанию ваших сыновей, ибо только в этом случае вы будете родителями в подлинном смысле этого слова! Не стоит забывать о приведенном Розье образе двуутробки. Складывается семья-кенгуру: тело ребенка оказывается ядром, центральным элементом тела семьи. Маленькая семья сплачивается вокруг теплой и подозрительной постели подростка. И постановка во главу угла сексуализируемого, самоэротизируемого тела ребенка является орудием, ключевым элементом, конститутивным вектором того, что можно было бы назвать великой – или, если угодно, маленькой – культурной инволюцией семьи вокруг отношения «родители – дети».
Нереляционная сексуальность, аутоэротизм ребенка, выступивший узловой точкой, точкой схода обязанностей, виновности, власти, заботы, физического присутствия родителей, – все это было одним из факторов сложения прочной и солидарной семьи, телесной и аффективной семьи, маленькой семьи, которая кристаллизуется, конечно, внутри семьи-сети, но и в ущерб ей, и образует семью-клетку со своим телом, со своей физическо-аффективной и физическо-сексуальной субстанцией.
Возможно (во всяком случае, я это допускаю), что большая реляционная семья, сотканная из разрешенных и запрещенных отношений, исторически сложилась на фоне запрета инцеста. Но я бы сказал, что маленькая, аффективная, прочная, субстанциальная семья, которая характеризует наше общество или, во всяком случае, которая возникла в XVIII веке, выросла из подразумеваемого инцеста взглядов и жестов вокруг тела ребенка.
* * *
Этот эпистемофилический инцест, этот инцест прикосновения, взгляда и надзора лег в основание семьи нового времени. Разумеется, прямой контакт родитель – ребенок, который столь императивно предписан в этой семейной клетке, дает родителям абсолютно безграничную власть над ребенком. Безграничную? И да и нет. Ибо на деле в тот самый момент, когда родители в результате описанного крестового похода получают установку, предписание вести тщательный, детальный, почти унизительный надзор за телом своих детей, – в этот момент и как раз постольку, поскольку им это предписывается, они попадают в область совершенно новых отношений и нового контроля. Вот что я имею в виду. Когда родителям говорят: «Будьте начеку, вы не знаете, что происходит с телом вашего ребенка, что происходит в его постели», – когда мастурбация выходит на авансцену морали как едва ли не первейший запрет новой этики новой семьи, – в этот же самый момент, как вы помните, та же мастурбация включается не в регистр аморального, но в регистр болезни. Ее представляют как своего рода универсальную практику, как некое опасное, нечеловеческое и монструозное «х», следствием которого может быть любая болезнь. В силу чего родительский, внутренний контроль, который предписывается отцам и матерям, по необходимости сопрягается с внешним медицинским контролем. Внутренний родительский контроль должен соотнести свои формы, критерии, приемы и решения с медицинскими основаниями, с медицинским знанием: поскольку ваши дети станут больными, поскольку их тела подвергнутся таким-то и таким-то физиологическим, функциональным, а в известных случаях и патологическим нарушениям, которые хорошо известны медикам, – вот по этой причине (говорят родителям) вы должны следить за детьми. Поэтому отношение «родители – дети», постепенно утверждающееся в рамках своего рода сексуально-телесной единицы, должно быть гомогенным отношению «врач – больной»; оно должно продлевать это отношение. Вот этот отец, вот эта мать, столь близкие к телу своего ребенка, в буквальном смысле охватывающие своим телом его тело, должны быть в то же время родителями-диагностами, родителями-терапевтами, родителями-медиками. Но это также означает, что их контроль является подчиненным, что он должен быть открыт для медицинского, гигиенического вмешательства, что, как только их что-либо встревожит, им следует обращаться к внешней, научной медицинской инстанции. Иными словами, одновременно с закрытием клеточной семьи в насыщенном аффективном пространстве происходит, в перспективе возможной болезни, назначение рациональности, которая подключает эту же самую семью к внешней медицинской технологии, к медицинской власти и знанию. Новая семья, субстанциальная, аффективная и сексуальная семья, вместе с тем является семьей медикализованной.
Вот две иллюстрации этого процесса закрытия семьи, сопровождающегося нагрузкой семейного пространства медицинской рациональностью. Первая из них касается проблемы признания. Родители должны следить, внимательно присматриваться, подбираться на цыпочках, срывать одеяло, спать рядом [с ребенком]; но, как только порок обнаружен, для его лечения они должны немедленно обратиться к врачу. Однако это лечение будет полноценным и эффективным только в том случае, если больной с ним согласен и сам участвует в нем. Необходимо, чтобы больной признал свою болезнь, чтобы он оценил ее последствия, чтобы он согласился с необходимостью лечения. Словом, чтобы он признался. При этом во всех текстах этой кампании говорится, что признание ребенка не может и не должно совершаться перед родителями. Он должен признаться именно врачу: «Самым необходимым из всех доказательств является признание», – говорит Деланд. Ибо признание устраняет «последние сомнения». Оно делает «более полноценным» и «более действенным вмешательство врача». Оно не позволяет пациенту отказаться от лечения. Оно наделяет врача и «всех авторитетных лиц […] таким положением, которое позволяет им идти прямо к цели и, следовательно, достичь этой цели». Один английский автор по имени Ламерт приводит очень интересную дискуссию о том, какому именно врачу следует признаваться: семейному врачу или специалисту. И делает заключение: нет, семейному врачу признаваться не следует, так как он слишком близок к семье. Передавать близким нужно лишь коллективные секреты, индивидуальные же секреты нужно сообщать специалисту. Далее во всей этой литературе следует длинный перечень примеров излечения, достигнутого благодаря признанию врачу. Выходит, сексуальность, мастурбация ребенка, как объект постоянного родительского надзора, выяснения и контроля, в то же время становится объектом признания и дискурса только извне, со стороны врача. Внутренняя медикализация семьи и отношений «родители – дети» сопровождается внешней дискурсивностью в отношениях с врачом. Будучи окружена молчанием в пределах семьи, сексуальность становится явной благодаря системе надзора. Но там, где она становится явной, о ней не следует говорить. О ней следует говорить за пределами этого пространства, у врача. Словом, детская сексуальность помещается в сердцевину семейной связи, в центр механизма семейной власти, но оглашение детской сексуальности одновременно смещается к медицинскому институту и авторитету. Сексуальность – это такая материя, о которой можно говорить только врачу. Физическая интенсивность сексуальности в семье соседствует с дискурсивной открытостью за пределами семьи, на медицинской территории. Именно медицина заговорит о сексуальности и разговорит сексуальность, тогда как семья обнаружит сексуальность, ибо именно семья наблюдает за нею.

«Портрет семьи Леруа». Бернар. 1766 г.
* * *
Другим элементом, свидетельствующим об этом сопряжении семейной и медицинской власти, является проблема инструментария. Дабы воспрепятствовать мастурбации, семье надлежит стать передаточным агентом медицинского знания. Семья, в сущности, призвана быть не более чем посредником, своего рода приводным ремнем между телом ребенка и техникой врача. Этим и обусловлены варианты лечения, которые назначают врачи, но применять которые должна семья. В тех медицинских текстах и брошюрах, о которых я вам рассказывал, описывается множество таких вариантов. Были знаменитые ночные рубашки с застежками внизу, которые, возможно, вы и сами еще застали; были бандажи. Был пресловутый пояс Жалад-Лаффона, который использовался несколько десятков лет и представлял собой своеобразный металлический корсет, надевавшийся на низ живота (в его разновидности для мальчиков была предусмотрена глухая металлическая трубочка с несколькими отверстиями для мочеиспускания, изнутри оклеенная мягкой тканью). Его следовало носить всю неделю, и в установленный день висячий замок, с помощью которого он фиксировался на теле, отпирался, чтобы ребенка можно было помыть. Этот пояс был распространен главным образом во Франции в начале XIX века. Были механические орудия, как, например, палочка Вендера, изобретенная в 1811 г. и представлявшая собой вот что. В деревянной палочке делалась выемка, ее внутренние стороны гладко обтачивались, и получившаяся узкая скобка надевалась на половой орган мальчика, а затем привязывалась веревочкой. По словам Вендера, этого было достаточно, чтобы предотвратить всякое сладостное ощущение. Хирург Лалеман предлагал вводить в уретру мальчиков постоянный зонд. Если я не ошибаюсь, он же в самом начале XIX века использовал для борьбы с мастурбацией акупунктуру, во всяком случае, вводил в половые органы иглы.
Разумеется, были химические средства, например опиаты, применявшиеся Давила, ванны и клизмы с различными растворами. Весьма сильнодействующее средство изобрел Ларрей, хирург Наполеона. Это средство заключалось в следующем: в уретру мальчика вводили раствор того, что Ларрей называет (я не знаю точно, что это такое) субкарбонатом соды (что это – бикарбонат? – непонятно). Половой член перед этим туго перевязывался у основания, чтобы этот раствор субкарбоната соды оставался в уретре и не попадал в мочевой пузырь; это вызывало расстройства, которые требовали нескольких дней или даже недель лечения, и в это время ребенок не мастурбировал. Применялось прижигание уретры, а для девочек – прижигание и удаление клитора. Если я не ошибаюсь, в самом начале XJX века Антуан Дюбуа отрезал клитор одной больной, которую безуспешно пытались лечить иными способами, связывая ей руки и ноги. Она лишилась клитора «одним прикосновением скальпеля», – сообщает доктор Дюбуа. Успех был «полным». В 1822 г. Грефе, опять-таки после безрезультатного лечения (больной прижигали голову, то есть при помощи огня нанесли ей рану, рубец на голове, после чего вливали туда виннокаменную кислоту, чтобы рана не заживала, однако мастурбация не прекратилась), также провел ампутацию клитора. И «здравый рассудок» больной, – который находился в помутнении и даже, я думаю, так никогда и не развился (это была слабоумная), – «бывший, в некотором роде, заложником [порока], после этого начал быстрое развитие».
Разумеется, и в XIX веке велись дискуссии о правомерности этих кастраций или квазикастраций, однако Деланд, видный теоретик мастурбации, утверждает в 1835 г., что «такое решение отнюдь не противоречит морали, напротив, оно вполне отвечает самым строгим моральным требованиям. Удаляя половой орган, поступают так же, как и при всякой ампутации: жертвуют второстепенным ради главного, частью ради целого». «Какой же вред может причинить женщине удаление клитора?» – спрашивает он. «Наибольший вред» такой ампутации заключается в том, что женщина, подвергшаяся ей, попадет «в и без того многочисленную категорию» женщин, «невосприимчивых» к удовольствиям любви, «что не мешает им становиться хорошими матерями и образцовыми [rectius: преданными] супругами». Еще и в 1883 г. хирурги, к примеру Гарнье, практиковали ампутацию клитора у девочек, которые предавались мастурбации.
* * *
Так или иначе во всем том, что есть все основания назвать активным физическим преследованием детства и мастурбации в XIX веке, которое, не возымев таких оке последствий, носило размах, аналогичный преследованию колдунов в XVI–XVII веках, складывается взаимодействие и преемственность медицины и больного. При посредничестве семьи налаживается контакт медицины и сексуальности: семья, обращаясь к врачу, принимая, одобряя и применяя в случае необходимости назначенное им лечение, сопрягает, с одной стороны, сексуальность и, с другой стороны, медицину, которая доселе практически не имела дела с сексуальностью, подбираясь к ней разве что окольным и опосредованным путем. Семья становится проводником медикализации сексуальности в своем собственном пространстве. В итоге намечаются сложные отношения своеобразного раздела: с одной стороны, есть молчаливый надзор, недискурсивная нагрузка тела ребенка родителями, а с другой стороны, есть внесемейный, научный дискурс, а именно – дискурс признания, ограниченный областью медицинской практики, наследующей в этом смысле христианскому признанию. Наряду с этим разделом существует преемственность, которая усилиями семьи, в семье, обеспечивает постоянное присутствие сексуальной медицины, своего рода медикализацию, все более тщательную медикализацию сексуальности, – и прививает в семейном пространстве техники, формы вмешательства медицины. Идет процесс обмена: медицина становится средством этического, телесного и сексуального контроля в рамках семейной морали, и одновременно внутренние пороки семейного тела, сосредоточенного вокруг тела ребенка, приобретают статус медицинской проблемы. Пороки ребенка, вина родителей подталкивают медицину к медикализации проблемы мастурбации, детской сексуальности и тела ребенка в целом. Медицинско-семейный тандем организует одновременно этическое и патологическое поле, в котором проявления сексуальности оказываются объектом контроля, принуждения, дознания, суда и вмешательства. Иными словами, инстанция медикализованной семьи функционирует как принцип нормализации. Именно семья, которой дана вся прямая, непосредственная власть над телом ребенка, но которая контролируется извне медицинским знанием и техниками, оказывается способной породить в это время, начиная с первых десятилетий XIX века, понятия нормального и ненормального в сексуальной области. Именно семья становится как принципом детерминации, дискриминации сексуальности, так и принципом перевоспитания ненормального.
Разумеется, тут возникает вопрос, на который необходимо ответить: каков источник всей этой кампании и каково ее значение? Почему понадобилось представить мастурбацию как первостепенную проблему или, во всяком случае, как одну из первостепенных проблем, выдвигаемых отношениями между родителями и детьми? На мой взгляд, эту кампанию следует поместить в рамки общего процесса сложения клеточной семьи, о которой я только что вам говорил и которая, вопреки своей кажущейся закрытости, доводит до ребенка, до индивида, до тел и жестов ту власть, что выступает в обличье медицинского контроля. По сути дела, от сжатой семьи, от семьи-клетки, от этой телесной и субстанциальной семьи требовалось вот что: принять на себя ответственность за тело ребенка, которое в конце XVIII века становилось очень важной ставкой сразу в двух смыслах. Во-первых, от сжатой семьи требовалось взять на себя ответственность за тело ребенка просто потому, что ребенок – это живой человек, который не должен умереть. Постепенно обнаруживающийся политический и экономический интерес выживания ребенка – это, без сомнения, одна из причин, по которым вялый, полиморфный и запутанный аппарат большой реляционной семьи понадобилось заменить узконаправленным, мощным и постоянным аппаратом семейного надзора, то есть надзора родителей за детьми. Родители отвечают за детей, родители должны оберегать детей, оберегать в двух смыслах: препятствовать их гибели, то есть, разумеется, следить за ними, но вместе с тем подготавливать их к дальнейшей жизни. Будущее детей находится в руках родителей. И государство, новые производственные формы или отношения требуют от родителей, чтобы издержки, подразумеваемые самим существованием семьи, родителей и явившихся на свет детей, не оказались бесполезными вследствие преждевременной смерти последних. Таким образом, тело и жизнь детей попадает в сферу ответственности родителей: такова одна из причин, по которым от родителей требуется окружить детские тела постоянным и пристальным вниманием.
Во всяком случае, я думаю, что именно в такой контекст следует поместить крестовый поход против мастурбации. В сущности этот поход – лишь часть более широкой кампании, которая вам хорошо известна, кампании за естественное воспитание детей. Что, собственно, такое эта знаменитая идея естественного воспитания, которая получает распространение во второй половине XIX [rectius: XVIII] века? Это идея такого воспитания, которое, во-первых, было бы всецело или по большей своей части доверено самим родителям, естественным наставникам своих детей. Всевозможные приглашенные, воспитатели, гувернеры и гувернантки могут быть в лучшем случае посредниками и должны быть как можно более верными посредниками в этом естественном отношении между родителями и детьми. Идеальным же является такой порядок, при котором все эти посредники исчезают, и родители действительно берут на себя прямую ответственность за детей. Однако естественное воспитание также означает, что воспитание должно повиноваться некоторой рациональной схеме, ряду правил, которые как раз и должны обеспечить, с одной стороны, здоровье ребенка, с другой стороны – его подготовку и нормальное развитие. Правила же эти, равно как и рациональность этих правил, определяются такими инстанциями, как профессиональные воспитатели, врачи, педагогическое и медицинское знание, – словом, целым рядом технических инстанций, которые обрамляют семью и возвышаются над нею. Когда в конце XVIII века начинаются разговоры о естественном воспитании, за ними скрываются одновременно две цели: прямой контакт родителей и детей, это сосредоточение ограниченной семьи вокруг тела ребенка, и в то же время рационализация, освоение педагогической или медицинской рациональностью отношения «родители – дети».
Ограничивая семью, приводя ее к компактному и сжатому виду, ее, собственно говоря, делают проницаемой для политических и моральных критериев; ее делают проницаемой для определенного типа власти; ее делают проницаемой для целой властной техники, проводниками которой в семью и являются медицина и медики.
* * *
Но, когда обнаруживается сексуальность, в тот самый момент, когда от родителей требуют, так сказать, всерьез и непосредственно взять на себя ответственность за своих детей в том, что касается их телесности, самого их тела, то есть их жизни, жизнеспособности, готовности к обучению, – что происходит в этот момент на уровне социальных слоев, о которых я все это время говорил, то есть аристократии и буржуазии? В этот момент от родителей требуют не только воспитывать своих детей так, чтобы они могли принести пользу государству, но и фактически передать их в руки государства, доверить их если не начальному воспитанию, то, по меньшей мере, технической подготовке, такому обучению, которое будет прямо или косвенно контролироваться государством. Первые призывы к созданию государственного или подконтрольного государству обучения раздаются именно тогда, когда начинается поход против мастурбации во Франции и Германии, то есть в 1760-1780-е гг. У Шалотуа в его «Опыте о национальном образовании» звучит тема воспитания, обеспечиваемого государством. В это же время Базедов создает свой «Филантропинум» с идеей особого воспитания для избранных классов общества, которое должно осуществляться не в опасном пространстве семьи, но в пространстве специальных институтов, контролируемых государством. Да и вообще, помимо этих проектов, помимо единичных образцовых мест вроде базедовского «Филантропинума», это эпоха, когда по всей Европе создаются крупные воспитательные заведения, большие школы и т. д.: «Нам нужны ваши дети, – говорит Базедов. – Отдайте их нам. Мы, так же как и вы сами, нуждаемся в том, чтобы эти дети получили нормальное развитие. Так доверьте же их нам, чтобы мы подготовили их согласно критериям нормальности». Таким образом, требуя от семей взять на себя ответственность за тело детей, обеспечить их жизнь и здоровье, от них в то же время требуют отказаться от этих детей, отказаться от их реального присутствия, от власти, которой обладают над ними родители. Разумеется, родители должны заниматься детьми в одном их возрасте и отдавать их тело на попечение государства в другом возрасте. Но должен идти процесс обмена: «Растите своих детей энергичными и крепкими, физически здоровыми, а также послушными и способными, чтобы впоследствии мы могли вручить их механизму, над которым вы не властны, государственной системе воспитания, образования и обучения». Мне кажется, что в этом двойном требовании – «занимайтесь своими детьми» и «затем оставьте своих детей нам» – сексуальное тело ребенка является, в некотором смысле, обменной монетой. Родителям говорят: «В теле ребенка есть нечто, неотъемлемо принадлежащее вам, от чего вы никогда не сможете отрешиться, ибо оно всегда будет с вами: это его сексуальность; сексуальное тело ребенка принадлежит и всегда будет принадлежать семейному пространству, и никто другой не будет иметь действительной власти над ним и отношения к нему. Но взамен, создавая для вас эту территорию столь безоговорочной, столь всеобъемлющей власти, мы просим вас предоставить нам, если угодно, тело способностей ребенка. Мы просим вас дать нам этого ребенка, чтобы мы сделали из него то, в чем действительно нуждаемся». Как вы понимаете, в этом обмене заключен подвох, ибо задача, которая ставится перед родителями, заключается именно в овладении телом ребенка, в окружении этого тела, в столь неотлучном наблюдении за ним, чтобы ребенок никогда не мог мастурбировать. Однако ведь нет таких родителей, которые помешали бы ребенку мастурбировать, и, более того, медики той эпохи хладнокровно и цинично заявляют: так или иначе, все дети мастурбируют. По сути дела перед родителями ставится неразрешимая задача: держать в своих руках и контролировать детскую сексуальность, которая все равно, так или иначе, от них ускользнет. Но, получая в распоряжение сексуальное тело ребенка, родители теряют другое его тело – его эффективное, способное тело.

«Первый урок танца». Б. Вотье. 1868 г.
Детская сексуальность – это западня, благодаря которой смогла сложиться прочная, аффективная, субстанциальная, клеточная семья и под прикрытием которой у семьи выманили ребенка. Детская сексуальность была ловушкой, в которую попали родители. Это явная, то есть – я имею в виду – реальная ловушка, но предназначенная для родителей. Она была одним из векторов сложения новой прочной семьи. Она была одним из орудий обмена, который позволил перевести ребенка с территории его семьи в институциализированное и нормализованное воспитательное пространство. Она была этой фиктивной монетой без номинала, игрушечной монетой, которая осела в кармане родителей; игрушечной монетой, к которой родители тем не менее тянулись изо всех сил, ибо уже в 1974 г., когда встал вопрос о сексуальном воспитании детей в школе, они были бы вправе сказать, если бы знали историю: так целых двести лет нас обманывали?! Двести лет нам говорили: отдайте нам ваших детей, и вы сохраните их сексуальность; отдайте нам ваших детей, и мы гарантируем вам, что их сексуальное развитие будет идти в семейном пространстве, под вашим контролем; отдайте нам ваших детей, и ваша власть над их сексуальным телом, над телом удовольствия детей, будет в неприкосновенности. А теперь психоаналитики говорят им: «Нам! Нам! Нам тело удовольствия детей!». Государство, психологи, психопатологи говорят им: «Нам! Нам! Нам сексуальное воспитание!». Таков великий обман, которому подверглась родительская власть. Фиктивная власть, фиктивная организация которой тем не менее обусловила реальное сложение того пространства, к которому все так стремились по тем причинам, о которых я говорил, того субстанциального пространства, вокруг которого сузилась и сжалась большая реляционная семья и внутри которого жизнь ребенка, тело ребенка попали под надзор и одновременно подверглись валоризации и сакрализации. Детская сексуальность, как мне кажется, затрагивает не столько детей, сколько родителей. Во всяком случае, вокруг подозрительной детской постели родилась современная семья – семья, пронизанная и насыщенная сексуальностью и озабоченная здоровьем.
Именно к этой, таким образом расцененной, сложившейся внутри семьи сексуальности, над которой врачи получили контроль уже с конца XVIII века, они и обращаются в середине XIX века, чтобы сформировать обширную область аномалий.
* * *
Итак, мне кажется, что проблема сексуальности ребенка и подростка поднимается в XVIII веке. Первоначально эта сексуальность рассматривается в своей нереляционной форме, то есть в первую очередь поднимается проблема аутоэротизма и мастурбации; мастурбация преследуется и приобретает значение первостепенной опасности. Начиная с этого момента, тела, жесты и позы, выражения и черты лица, постели, белье, пятна – все это становится предметом надзора. Родители привлекаются к выслеживанию запахов, следов, признаков. Мне кажется, что мы имеем дело с учреждением, сложением одной из новых форм отношений между родителями и детьми: завязывается своего рода постоянное состязание родителей и детей, которое видится мне характерным для ситуации пусть не всякой семьи, но, по меньшей мере, некоторой формы семьи в современную эпоху.
Нет сомнения в том, что происходит перенесение в стихию семьи христианской плоти. Перенесение в самом узком смысле этого термина, ибо имеет место локальная пространственная миграция исповедальни: проблема плоти переносится в постель. И перенесение это сопровождается трансформацией, а также, что особенно важно, редукцией, поскольку все эти сугубо христианские хитросплетения руководства совестью, которые я попытался вкратце обрисовать и которые оперировали целым рядом понятий – таких, как воспаление, трепетание, желание, потворство, упоение, сладострастие, – теперь оказываются приведены к единственной проблеме, к предельно простой проблеме жеста, руки, отношения руки и тела, словом, к простому вопросу: «Соприкасаются ли рука и тело?». Но наряду с редукцией христианской плоти к этой исключительно простой и, в некотором смысле, скелетной проблеме происходят три трансформации. Во-первых, переход к соматизации: проблема плоти постепенно превращается в проблему тела, в проблему физического, больного тела. Во-вторых, инфантилизация – в том смысле, что проблема плоти, которая, пусть и сосредоточиваясь довольно-таки явно вокруг подростков, была, по большому счету, проблемой всех христиан, теперь, по самой сути своей, организуется вокруг детской и подростковой сексуальности или аутоэротизма. И наконец, в-третьих, медикализация, так как отныне эта проблема соотносится с некоторой формой контроля и рациональности, за которыми обращаются к медицинскому знанию и власти. Весь двусмысленный и безграничный дискурс греха сводится к провозглашению и диагностике одной физической опасности и к системе материальных мер, с помощью которых эту опасность можно предотвратить.
В прошлой лекции я попытался объяснить вам, почему, на мой взгляд, преследование мастурбации не является следствием сложения этой узкой, клеточной, субстанциальной, супружеской семьи. Мне кажется, что преследование мастурбации не просто не было следствием сложения семьи нового типа, но, напротив, было его орудием. Под влиянием этого преследования, под влиянием этого крестового похода как раз и образовалась суженная и субстанциальная семья. Эта кампания со всеми практическими рекомендациями, которые давались в ее рамках, была средством сплочения семейных отношений и замыкания центрального прямоугольника «родители – дети» в качестве субстанциальной, компактной и аффективно насыщенной единицы. Одним из орудий концентрации супружеской семьи как раз и было возложение на родителей ответственности за тело своих детей, за жизнь и смерть своих детей, – возложение, осуществленное при посредничестве аутоэротизма, который был представлен невероятно опасным внутри медицинского дискурса и его усилиями.
Короче говоря, я бы отказался от линейной схемы: сначала сложение по ряду экономических причин супружеской семьи; затем запрет на сексуальность внутри этой супружеской семьи; вследствие этого запрета – патологический возврат этой сексуальности, невроз; и в результате всего этого – проблематизация сексуальности ребенка. Такова общепринятая схема. Мне же кажется, что правильнее было бы увидеть целый комплекс элементов, соединенных круговой связью, в числе которых валоризация тела ребенка, экономическая и аффективная валоризация его жизни, возникновение боязни вокруг этого тела и вокруг сексуальности, поскольку она несет в себе опасности, встречаемые ребенком и его телом; кульпабилизация и, одновременно с нею, облечение ответственностью родителей и детей вокруг этого тела как такового; введение обязательной, регламентированной близости родителей и детей; организация суженного и сплоченного семейного пространства; инфильтрация всего этого пространства сексуальностью и его обложение орудиями контроля или, во всяком случае, медицинской рациональностью. Словом, вокруг всех этих процессов, исходя из кругового сцепления всех этих различных элементов и оформляется, как мне кажется, супружеская, сжатая, четырехугольная семья родителей и детей, которая характеризует, по крайней мере отчасти, наше общество.
* * *
В связи с этим я хотел бы сделать две ремарки.
Первая из них такова. Если принять данную схему, если согласиться с тем, что проблематизация детской сексуальности заведомо связана с сближением тела родителей и тела детей, с приложением тела родителей к телу детей, то становится понятной та напряженность, которую приобрела в конце XIX века тема инцеста, то есть одновременно та трудность и та легкость, с которыми она была принята. Эту тему было трудно принять, поскольку с конца XVIII века говорилось, объяснялось, раз за разом провозглашалось, что сексуальность ребенка изначально является аутоэротической и, как следствие, нереляционной сексуальностью, несопоставимой с межиндивидуальным сексуальным отношением. Кроме того, эта нереляционная и всецело сосредоточенная на теле ребенка сексуальность считалась несопоставимой с сексуальностью взрослого типа. Поэтому пересмотр детской сексуальности с тем, чтобы поместить ее в инцестуозное отношение со взрослым, введение в контакт, постановка в общий ряд сексуальности ребенка и сексуальности взрослого при посредничестве инцеста или инцестуозного желания между детьми и родителями – все это представлялось очень затруднительным. Родителям трудно признать, что они могут быть поражены, затронуты инцестуозным влечением со стороны своих детей, в то время как их более ста лет уверяли в том, что сексуальность их детей надежно локализована, сосредоточена, заперта внутри их аутоэротизма. Но с другой стороны, можно сказать, что кампания против мастурбации, внутри которой-то и возникает новый страх инцеста, до некоторой степени облегчила восприятие родителями этой темы – того, что их дети испытывают к ним инцестуозное влечение.
Эту легкость, соседствующую или переплетающуюся с трудностью, можно объяснить или понять довольно просто. Ведь что говорили родителям с 1750–1760 гг., с середины XVIII века? Будьте как можно ближе к своим детям; смотрите за своими детьми; будьте рядом с ними; при необходимости спите с ними в одной постели; заглядывайте к ним под одеяло; замечайте, выслеживайте и застигайте врасплох все признаки желания в своих детях; ночью на цыпочках подбирайтесь к их постели, срывайте одеяла и смотрите, чем они там занимаются, или хотя бы залезьте туда рукой, чтобы помешать им. И вот теперь, после того как в течение ста лет им так говорили, выясняется: это опасное желание, которое вы открыли – в буквальном смысле этого слова, – это желание обращено к вам. Самое страшное в этом желании то, что оно касается именно вас.
А это имеет ряд следствий, среди которых три, на мой взгляд, особенно важны. Во-первых, как вы понимаете, сформировавшееся более века назад отношение инцестуозной пристрастности некоторым образом переворачивается. В течение ста лет от родителей требовали быть ближе к своим детям, родителям предписывали проявлять инцестуозную пристрастность. Теперь, по прошествии ста лет, с них снимают вину, которую они чувствовали, разоблачая желающее тело своих детей, и говорят им: не беспокойтесь, инцестуозны не вы. Инцест направлен не от вас к ним, не от вашей пристрастности, не от вашего любопытства к их обнаженному телу, а наоборот, от них к вам, ибо это они, дети, первыми начинают вас желать. Таким образом, в тот самый момент, когда инцестуозное отношение «родители – дети» достигает этиологического насыщения, с родителей снимается моральное обвинение в нескромности, в инцестуозном поведении, в инцестуозной близости, к которой их принуждали более века. Таково первое моральное преимущество, которое делает приемлемым психоаналитическую теорию инцеста.

«Наказанный сын». Ж-Б. Грез. 1977 г.
Во-вторых, родителям – что, по-моему, очевидно – дается дополнительная гарантия, ибо им говорят не просто о том, что сексуальное тело ребенка по праву принадлежит им, что они должны наблюдать, выслеживать, контролировать и подлавливать его, но также о том, что это тело принадлежит им на более глубоком уровне, ибо желание детей обращено к ним, к родителям. Поэтому тело ребенка, хозяевами которого они являются, не только находится в их материальном распоряжении, но, более того, они являются хозяевами самого желания ребенка, так как именно к ним это желание обращено. Возможно, эта новая гарантия родителям соответствует новой волне отчуждения ребенка от семьи, ибо в конце XIX века расширение школьного образования и умножение средств дисциплинарной подготовки с новой силой вырывают детей из семейной среды, в которую они были включены. Все это следовало бы изучить поподробнее. Но как бы то ни было, с утверждением о том, что желание ребенка обращено к родителям, произошла подлинная реапроприация сексуальности ребенка. Контроль над мастурбацией был ослаблен, но дети [rectius: родители] при этом не потеряли право распоряжаться сексуальностью детей, ибо на них оказалось направлено детское желание.
И наконец, третья причина, по которой эта теория инцеста, вопреки ряду затруднений, была в конечном итоге принята: дело в том, что, поместив столь страшное отклонение в самую сердцевину отношения «родители – дети», сделав инцест – абсолютное преступление – исходной точкой всех незначительных аномалий, удалось подкрепить необходимость внешнего вмешательства, своего рода промежуточного элемента, призванного анализировать, контролировать и исправлять. Иными словами, получила поддержку возможность приложения медицинской технологии к сплетению внутрисемейных отношений. В общем и целом в этой теории инцеста, появляющейся в конце XIX века, мы имеем дело с щедрым вознаграждением родителям, которые теперь чувствуют себя объектом безумного желания и в то же время открывают – благодаря той же самой теории, – что сами могут быть субъектами рационального знания о своих отношениях с детьми: чтобы выяснить, чего хочет ребенок, я уже не должен вести себя как подозрительный слуга, прокрадываясь ночью в спальню и срывая одеяло; я знаю, чего хочет ребенок благодаря научно подтвержденному знанию, ибо это медицинское знание. А следовательно, я – субъект знания и в то же время объект этого безумного желания. В такой ситуации понятно, почему родители, с появлением психоанализа в начале XX века, стали (вполне сознательно стали!) ревностными, неудержимыми и воодушевленными агентами новой волны медицинской нормализации семьи. Таким образом, я считаю, что вопрос о функционировании темы инцеста следует рассматривать в рамках вековой практики борьбы с мастурбацией. Эта тема – один из эпизодов этой борьбы или, во всяком случае, ее разворот.
* * *
Вторая ремарка, которую я хотел бы сделать, заключается вот в чем: то, о чем я только что говорил, разумеется, не относится к обществу в целом, ко всякому типу семьи. Крестовый поход против мастурбации (о чем я, кажется, говорил вам в начале прошлой лекции) имел своим предметом почти исключительно буржуазную семью. Однако в эпоху, когда эта кампания достигла своей кульминации, рядом с нею, но без прямой связи, набирала ход совсем другая кампания, обращенная к народной семье, а точнее, к семье складывавшегося городского пролетариата. Эта кампания, начавшаяся несколько позднее первой (первая началась около 1760 г., вторая же – на рубеже веков, в самом начале XIX века, и приобрела размах в 1820-1840-е гг.) и нацеленная на городскую пролетарскую семью, сконцентрирована вокруг иных тем. Вот первая из этих тем. На сей раз уже нет лозунга, выдвигавшегося перед буржуазной семьей: «Будьте как можно ближе к телу ваших детей». Разумеется, нет и такого лозунга: «Избавьтесь от всех второстепенных домашних и родственников, которые преграждают, нарушают, расстраивают ваши отношения с детьми». Кампания заключается просто-напросто вот в чем: «Женитесь, не наживайте внебрачных детей, чтобы затем их бросить». Эта кампания направлена против свободного сожительства, против внебрачных связей, против внесемейного, или парасемейного, перетекания.
Я не буду предпринимать анализ этого феномена, который, без сомнения, был бы трудным и длительным, но лишь укажу некоторые гипотезы, которые разделяются сегодня большинством историков. До XVIII века в деревнях и городских общинах, даже бедных, законный брак был, как правило, очень уважаемым. Число свободных сожительств и даже внебрачных детей было поразительно скромным. С чем это было связано? Несомненно, с церковным контролем, а также, возможно, с социальным и, в известной степени, судебным контролем. Определенно, и более глубоко, это было связано с тем обстоятельством, что брак был сопряжен с целой системой имущественного обмена, даже у относительно бедных людей. И, во всяком случае, брак подразумевал поддержание или изменение социального статуса. Кроме того, над браком довлели формы общинной жизни в деревнях, приходах и т. д. Словом, брак не просто служил религиозной или юридической санкцией сексуальных отношений. В него оказывался вовлечен весь социальный персонаж целиком, со всеми своими связями.
Между тем очевидно, что по мере возникновения и становления в начале XIX века городского пролетариата все эти основания брака, все эти связи, все эти нагрузки, которые придавали браку прочность и необходимость, – все эти опоры брака становятся бесполезными. Вследствие этого распространяется внебрачная сексуальность, связанная, возможно, не столько с откровенным бунтом против обязанности вступать в брак, сколько с простым выяснением того, что этот брак с его системой обязанностей и всевозможными институциональными и материальными опорами становится безосновательным в рамках блуждающей популяции, которая ждет или ищет работу и, во всяком случае, имеет зыбкую, временную работу в случайном месте. Естественно, что в рабочей среде укореняется свободное сожительство (чему имеется ряд свидетельств – по крайней мере, в 1820-1840-е гг. возмущение этим встречается сплошь и рядом).
В этом хрупком, эпизодическом, временном характере брачных отношений буржуазия, очевидно, находила (в некоторых условиях и в некоторые моменты) ряд преимуществ: первым среди таковых была мобильность рабочего населения, мобильность рабочей силы. Но, с другой стороны, очень скоро возникла необходимость в стабильности рабочего класса – как по экономическим причинам, так и по причинам, связанным с политическим ограждением и контролем, с нежелательностью миграций, волнений и т. д. В этот момент и началась, какими бы ни были ее действительные причины, кампания в поддержку брака, которая получила стремительное развитие в 1820-1840-е гг.; кампания, которая велась средствами обыкновенной пропаганды (выпуск книг и т. п.), с помощью экономических рычагов, путем создания обществ поддержки (которые помогали исключительно тем, кто состоял в законном браке), с помощью таких механизмов, как «сберегательные кассы», с помощью жилищной политики и т. д. Но параллельно эта поддержка брака, эта кампания по укреплению брачных уз, сопровождалась и отчасти корректировалась другой кампанией: в этом устойчивом пространстве, которое вы должны сформировать с тем, чтобы стабильно жить внутри него, в этом социальном пространстве надо быть начеку. Не сливайтесь воедино, делите пространство, держите как можно большую дистанцию; пусть между вами будет поменьше контактов, пусть семейные отношения в этом четко определенном пространстве придерживаются своих границ, соблюдают индивидуальные, возрастные, половые различия. Таким образом, кампания выступает против общих спален, против общих постелей для родителей и детей, а также для детей «разного пола». В конечном счете идеальной является одиночная постель. Идеальным в проектируемых в это время городских кварталах становится пресловутый трехкомнатный дом: общая комната, комната для родителей и комната для детей; или – комната для родителей, комната для мальчиков и комната для девочек. Никакой близости, никаких контактов, никакой путаницы. Это совсем не то, что было в кампании против мастурбации: «Будьте ближе к вашим детям, вступайте с ними в контакт, вглядывайтесь в их тело как можно пристальнее»; это нечто противоположное: «Держите ваши тела на максимальной дистанции». Как вы понимаете, в рамках этой кампании возникает иного рода проблематизация инцеста. Это уже не та опасность инцеста, которая исходит от детей и угрозу которой формулирует психоанализ. Это опасность инцеста между братом и сестрой, между отцом и дочерью. Главное – избежать установления между взрослыми и детьми, между старшими и младшими близости, чреватой возможным инцестом.
* * *
Итак, две кампании, два механизма, два страха инцеста, формирующиеся в XIX веке, глубоко различны. Хотя несомненно, что в конечном итоге кампания за сложение сплоченной, аффективно интенсивной буржуазной семьи вокруг сексуальности ребенка и кампания за распределение и укрепление рабочей семьи приходят – не скажу: к точке схода, – но к некоторой взаимозаменяемой или общей для обоих случаев форме. Возникает семейная модель, которую можно назвать межклассовой. Это маленькая клетка «родители – дети», элементы которой дифференцированы, но тесно сплочены, при том что их связывает и в то же время им угрожает опасность инцеста. Однако в этой общей форме, в этой общей оболочке, в этом, собственно говоря, абстрактном коконе происходят два совершенно разных процесса. С одной стороны, процесс, о котором я говорил вам на прошлой лекции, процесс сближения-сгущения, который позволяет выделить в рамках большой семьи, носительницы статусов и имущественных благ, маленькую сплоченную клетку, группирующуюся вокруг угрожающе сексуализованного тела ребенка. С другой стороны, идет другой процесс – уже не процесс сближения-сгущения, а процесс стабилизации-распределения сексуальных отношений: установление оптимальной дистанции в окружении взрослой сексуальности, от которой на сей раз исходит угроза. В одном случае опасна сексуальность ребенка, и именно она подталкивает к сплочению семьи; в другом случае опасна сексуальность взрослого, и именно она требует, наоборот, оптимального распределения семьи.
Таковы два процесса образования, два пути организации клеточной семьи вокруг сексуальной опасности, два способа добиться сексуализации, одновременно опасной и необходимой сексуализации семейного пространства, два способа обозначить точку приложения авторитетного вмешательства, хотя точнее будет сказать, что в двух случаях имеют место два разных авторитетных вмешательства. Ибо, с одной стороны, есть опасная, угрожающая сексуализация семьи, исходящая от сексуальности ребенка. Какого рода внешнее вмешательство, какого рода внешняя рациональность ей требуется? Ей требуется рациональность, которая проникнет в семью, будет разрешать вопросы, контролировать и корректировать ее внутренние отношения: это медицина. Опасностям детской сексуальности, с которыми сталкиваются родители, должно отвечать медицинское вмешательство, медицинская рациональность. Напротив, в другом случае налицо сексуальность или, точнее, сексуализация семьи исходя из инцестуозного и опасного влечения родителей или старших детей, – и эта сексуализация вокруг возможного инцеста, идущая сверху, от старших членов семьи, также требует внешнего участия, вмешательства извне, арбитража или, точнее, разрешения. Только на сей раз отнюдь не медицинского, но судебного типа. Судья, жандарм или их всевозможные заместители, существующие сегодня, с начала XX века, все так называемые инстанции социального контроля, социальной помощи – весь этот персонал и должен вмешиваться в семью с целью предотвратить опасность инцеста, исходящую от родителей или старших. Таким образом, у нас есть множество формальных аналогий, но в действительности – два глубоко различных процесса: с одной стороны, необходимое обращение к медицине, с другой – необходимое обращение в суд, полицию и т. д.
Во всяком случае, мы не должны забывать о том, что в конце XIX века одновременно появляются два механизма, два институциональных тела. Во-первых, психоанализ, который рождается как техника лечения детского инцеста и всех его вредоносных последствий в семейном пространстве. А во-вторых, одновременно с психоанализом, – но, я полагаю, сообразно второму процессу, о котором я говорил, – появляются институты ограждения народных семей, основной функцией которых является отнюдь не лечение инцестуозных желаний детей, но, как принято говорить, «защита детей от внешней угрозы», то есть от инцестуозных влечений отца и матери, а также их эвакуация из семейной среды. В одном случае психоанализ возвращает желание в семью (вы знаете, кто описал этот феномен лучше меня), а в другом случае, не будем забывать, в симметричном и современном первому процессе совершается другая операция, не менее реальная: ребенка изымают из семьи в виду опасности инцеста со стороны взрослых.
Возможно, следует продолжить это описание двух форм инцеста и двух институциональных ансамблей, которые им отвечают. Возможно, следует сказать, что есть также две совершенно различные теории инцеста. Одна из них представляет инцест как непреодолимое желание, связанное с развитием ребенка, и под сурдинку нашептывает родителям: «Будьте уверены, что, когда ваши дети прикасаются к себе, они думают о вас». Другая, уже не психоаналитическая, а социологическая теория инцеста описывает запрещение инцеста как социальную необходимость, как условие обмена и благополучия, тоже нашептывает родителям: «Не прикасайтесь к вашим детям. Вы ничего не достигнете этим и, более того, вы много потеряете», – уж не структуру ли обмена, которая определяет и структурирует совокупность социального поля? Было бы интересно проследить игру двух этих форм, институциализации инцеста вкупе с его профилактикой и его теоретизации. Но как бы то ни было, я хочу подчеркнуть абстрактный и академический характер всякой общей теории инцеста, и в частности, разумеется, известной этнопсихоаналитической попытки связать запрет на взрослый инцест с инцестуозным желанием у детей. Я хочу показать, что абстрактна всякая теория, которая говорит: поскольку дети испытывают влечение к своим родителям, у нас есть все основания запретить родителям прикасаться к своим детям. Есть два типа сложения клеточной семьи, есть два типа определения инцеста, есть две характеристики страха инцеста и две институциональные сети вокруг этого страха; не скажу, что есть две сексуальности, буржуазная и пролетарская (или народная), но уверен, что есть две формы сексуализации семьи, или две формы «фамилиализации» сексуальности, два семейных пространства сексуальности и сексуального запрета. И эту двойственность не в силах эффективно преодолеть никакая теория.

«Афродита и Эрос». Анри Камиль. 1917 г.
* * *
Теперь вернемся назад и попытаемся связать эти замечания о сексуальности с тем, что я говорил вам об инстинкте и персонаже монстра, так как я думаю, что персонаж ненормального, весь статус, весь размах которого открывается в конце XIX века, имел за собою двух-трех предшественников. Вот его родословная: юридический монстр, о котором я говорил, маленький мастурбатор, которому я посвятил последние занятия, и третий предшественник, о котором я, к сожалению, рассказать не успел (но, как вы увидите, он не слишком важен), – это недисциплинированный. Теперь я попытаюсь показать, как сомкнулись между собою проблематика монстра и инстинкта и, с другой стороны, проблематика мастурбатора и детской сексуальности.
Я попытаюсь очертить процесс сложения судебно-психиатрического механизма, который возник в ответ монстру, или проблеме беспричинного преступника. Внутри этого механизма и с опорой на него возникли три, на мой взгляд, важные вещи. Во-первых, определение общего поля преступности и безумия. Расплывчатого, сложного, переменчивого поля, ибо выяснилось, что за всяким преступлением вполне может быть обнаружено некое безумное поведение, и, наоборот, во всяком безумии вполне может быть заключена опасность преступления. Возникло поле общих объектов безумия и преступления. Во-вторых, вследствие этого возникла необходимость если пока еще не института, то, во всяком случае, инстанции судебно-медицинского характера, представляемой персонажем психиатра, который уже постепенно становится криминалистом; необходим психиатр, который в принципе один обладает возможностью провести границу между преступлением и безумием и вместе с тем вынести суждение о том, какова опасность, скрывающаяся во всяком безумии. Наконец, в-третьих, в качестве привилегированного понятия в этом поле объектов, обозреваемом психиатрической властью, возникло понятие инстинкта как непреодолимого влечения, как поведения, нормально расположенного или ненормально смещенного на оси произвольного и непроизвольного: таков принцип Байарже.
Далее, что мы видим, глядя на другую нить, на еще одно генеалогическое древо, которое я попытался наметить? На фундаменте плотского греха в XVIII веке возникает смычка – не судебно-психиатрическая, но семейно-психиатрическая смычка, отвечающая уже не страшному монстру, а вполне обычному персонажу, каковым является подросток-мастурбатор, представленный в виде ужасного или, во всяком случае, опасного монстра в силу насущной необходимости. Что же возникает в этой организации, вследствие этого механизма? С одной стороны, как я говорил в прошлый раз, сущностная принадлежность сексуальности к области болезней, а точнее, принадлежность мастурбации к общей этиологии болезни. Сексуальность, по крайней мере в своей мастурбационной форме, входит как постоянный и часто встречающийся элемент в поле этиологии, в круг причин болезни: это постоянный элемент, так как он обнаруживается везде, но, вообще-то говоря, случайный, так как мастурбация может повлечь за собой какую угодно болезнь.
Во-вторых, этот механизм порождает необходимость в медицинской инстанции внутренней поддержки, вмешательства и рационализации семейного пространства. И наконец, по этой общей территории болезни и мастурбации, соотносящейся с медицинским знанием-властью, распространяется элемент, понятие которого в эту эпоху находится в стадии разработки: это понятие сексуальной «наклонности» или сексуального «инстинкта» – такого инстинкта, который, в силу самого своего непостоянства, обречен уклоняться от гетеросексуальной и экзогамной нормы. Итак, происходит смычка психиатрии с судебной властью. Этой смычке психиатрия обязана проблематикой непреодолимого влечения и появлением области инстинктивных механизмов как привилегированной области своих объектов. Тогда как симметричной смычке с семейной властью (которой увенчалось совсем другое генеалогическое древо) психиатрия обязана другой своей проблематикой – проблематикой сексуальности и анализа сексуальных отклонений.
Из чего, полагаю, следуют два вывода. Первый – это, разумеется, огромная прибыль в сфере возможного вмешательства психиатрии. В прошлом году я попытался показать вам, как на территории, которая традиционно была кругом компетенции психиатрии, в области умопомешательства, слабоумия и бреда, безумие [rectius: психиатрия], не покидая лечебницы, превратилось в своего рода управление безумцами, внедрив особую технологию власти. И вот теперь психиатрия оказалась сопряжена с совсем другой областью – вовсе не с управлением безумцами, но с контролем семьи и сферой необходимого вмешательства в уголовную практику. Впечатляющее расширение: с одной стороны, психиатрии предстоит ведать всей областью отклонений и нарушений закона, а с другой, – основываясь на своей технологии управления безумцами, она призвана взять под контроль расстройства внутрисемейных отношений. На огромной территории, простирающейся от малого господства в семье до общей, непререкаемой формы закона, психиатрия выступает, призвана выступать и функционировать как технология индивида, которой суждено стать обязательной для работы ключевых механизмов власти. Психиатрия становится одним из внутренних операторов, которого мы встречаем попеременно или одновременно в столь разных устройствах власти, как семья и судебная система, как в отношении «родители – дети», так и в отношении «государство – индивид», как при разрешении внутрисемейных конфликтов, так и при контроле и анализе нарушений закона. Психиатрия – это общая технология индивидов, которую мы встречаем всюду, где есть власть: в семье, школе, мастерской, суде, тюрьме и т. д.
* * *
Так происходит впечатляющее расширение области деятельности психиатрии. Но в то же время психиатрия оказывается перед совершенно новой для нее задачей. Дело в том, что условием осуществления, эффективного осуществления этой общей функции, этого всеприсутствия или междисциплинарности, является способность психиатрии организовать единое поле инстинкта и сексуальности. Если психиатрия хочет эффективно контролировать всю эту область, широту которой я попытался показать, если она хочет эффективно функционировать как в семейно-психиатрической, так и в судебно-психиатрической смычке, то ей нужно выявить перекрестную игру инстинкта и сексуальности, то есть в пределе, игру сексуального инстинкта как конститутивного элемента всех умственных болезней и, более того, всех поведенческих нарушений: от тяжких преступлений, идущих вразрез с наиболее важными законами, до мельчайших отклонений, будоражащих маленькую семейную [клетку]. Иными словами, она должна выработать не только дискурс, но и аналитические методы, концепты, теории, с помощью которых можно было бы переходить, оставаясь внутри психиатрии и не покидая ее границ, от детского аутоэротизма к убийству, от незначительного инцеста-прикосновения к ненасытному людоедству монстров-антропофагов. Вот какова теперь, начиная с 1840-1850-х гг., задача психиатрии (таким образом, я возвращаюсь к теме, оставленной после разговора о Байарже). Всю вторую половину XIX века будет разрабатываться проблема смычки инстинкта и сексуальности, желания и безумия, Удовольствия и преступления – смычки, с помощью которой страшных монстров, возникших на границе судебного аппарата, удастся сократить, расщепить, проанализировать и сделать обыкновенными, найдя их в смягченной форме внутри семейных отношений, а мелких мастурбаторов, которые прозябали в тиши семейного очага, – раз за разом обнаруживая, раздувая и демонстрируя их, – удастся превратить в ужасных преступников-безумцев, которые насилуют, расчленяют и пожирают людей. Как происходит это воссоединение? Как разрабатывается двойная теория инстинкта и сексуальности, как решается эта политико-эпистемологическая задача психиатрии, начиная с 1840-1850-х гг.? Об этом-то я и хотел бы сейчас поговорить.
В первую очередь это воссоединение происходит путем открытия границ между мастурбацией и прочими сексуальными отклонениями. В самом деле, вы наверняка помните, как в прошлый раз я настаивал на том, что мастурбация смогла сделаться первостепенной заботой семейной клетки вследствие того, что она оказалась обособлена от всех остальных непризнанных или осуждаемых сексуальных проявлений. Я пытался показать вам, что мастурбация всегда определялась как нечто совершенно отдельное, совершенно необычное. Столь необычное, что, с одной стороны, она определялась как следствие инстинкта или механизма, безоговорочно чуждого нормальной, реляционной и двуполой сексуальности (теоретики XVIII века были убеждены, что детской мастурбацией и взрослой сексуальностью руководят совершенно разные механизмы). Но, с другой стороны, последствия этой [детской] сексуальности соотносили ее не с аморальностью как таковой и даже не с аморальностью или ненормальностью сексуального свойства: последствия мастурбации обнаруживались в области соматической патологии. Это была телесная, физиологическая и даже, в предельном случае, патологоанатомическая расплата: именно ее в конечном счете влекла за собой мастурбация как принцип болезни. Я бы сказал, что в мастурбации, какою она понималась, анализировалась и преследовалась в XVIII веке, был минимум возможной сексуальности. В этом-то несомненно и заключался гвоздь кампании против нее. Родителям говорили: «Занимайтесь проблемой мастурбации ваших детей и будьте уверены, что тем самым вы не затронете их сексуальность».
Теперь же, с того момента, когда психиатрия XIX века оказалась перед необходимостью объять обширную область, простирающуюся от семейных отклонений до противозаконных деяний, ее задачей, наоборот, становится вовсе не изолировать мастурбацию, но наладить сообщение между всеми внутрисемейными и внесемейными отклонениями. Психиатрия должна выстроить, вычертить генеалогическое древо всех сексуальных расстройств. И тут, в качестве первого решения этой задачи, мы встречаем знаменитые трактаты XIX века по сексуальной психопатологии, первым в ряду которых была, как вы знаете, «Psychopatia sexualis» Генриха Каана, вышедшая в Лейпциге в 1844 г. (насколько мне известно, это первый трактат по психиатрии, всецело посвященный сексуальной психопатологии, однако последний, в котором о сексуальности говорится по-латыни; к сожалению, он так и не был переведен, хотя меня, насколько моя латынь сумела с ним справиться, его текст очень заинтересовал). Что же мы находим в этом труде? В «Psychopatia sexualis» Генриха Каана мы, прежде всего, находим тему, которая бесспорно роднит эту книгу со всей теорией сексуальности ее эпохи. Согласно Каану, человеческая сексуальность вписывается своими механизмами и общими формами в естественную историю сексуальности, которую можно возвести к растениям. Утверждение сексуального инстинкта – nisus sexualis, как говорится в тексте, – вот что является не то чтобы психической, а, скажем просто, динамической манифестацией работы половых органов. Как существует некое чувство, впечатление, некая динамика голода, соответствующая аппаратам питания, так существует и сексуальный инстинкт, соответствующий работе половых органов. Такова недвусмысленная натурализация человеческой сексуальности, и вместе с тем таков принцип ее генерализации.
Для этого инстинкта, для этого nisus sexualis, который описывает Каан, соитие (то есть гетеросексуальный реляционный половой акт) является одновременно естественным и нормальным. Однако, говорит Каан, соития недостаточно для полного определения или, вернее, полного осуществления силы и динамики этого инстинкта. Сексуальный инстинкт превосходит, причем естественным образом превосходит, свое естественное назначение. Другими словами, по отношению к соитию он нормально избыточен и частично маргинален. Это силовое превосходство сексуального инстинкта над копуляционным предназначением, говорит Каан, проявляется и эмпирически подтверждается рядом явлений, в частности сексуальностью детей, и прежде всего сексуальностью, которая ясно просматривается в детских играх. Когда дети играют, в самом деле можно заметить, хотя их половые органы определились еще лишь предварительно и сексуальный nisus не приобрел свою силу, что их игры, напротив, очень отчетливо сексуально поляризованы. Игры девочек всегда отличаются от игр мальчиков, и это доказывает, что за всем поведением детей, даже за их играми, присутствует подоплека, поддержка сексуального nisus, сексуального инстинкта, который уже имеет свою специфику, даже когда органический аппарат, которым он должен управлять и который он должен пронизывать, дабы приводить его к соитию, еще далек от работоспособности. Существование этого nisus sexualis заметно и в совершенно другой области – уже не в игре, но в любознательности. Так, дети семи-восьми лет, согласно Каану, уже испытывают величайшее любопытство не только к своим половым органам, но и к половым органам своих товарищей, причем как своего, так и противоположного пола. Во всем этом – в самой работе разума, в этой любознательности, воодушевляющей детей и к тому же способствующей их обучению, – налицо присутствие, работа сексуального инстинкта. Таким образом, сексуальный инстинкт в своей жизненной энергии, в своем динамизме выходит далеко за пределы обыкновенного соития: он берет начало прежде соития и превосходит его.

«Детство». Софи Андерсон
* * *
Разумеется, этот сексуальный инстинкт оказывается от природы направлен на соитие, сфокусирован на нем. Но, поскольку это соитие, в некотором смысле, является хронологически последней целью сексуального инстинкта, его неустойчивость вполне объяснима: ведь это слишком энергичный, слишком ранний, слишком емкий инстинкт, он слишком вездесущ в организме и поведении индивидов, чтобы получать эффективное выражение, то есть чтобы осуществляться исключительно в виде взрослого двуполого соития. По этой причине, объясняет Каан, он подвержен целому ряду аномалий, всегда рискует отклониться от нормы. Совокупность этих отклонений, естественных и в то же время ненормальных, и образует область psychopatia sexualis, в рамках которой Генрих Каан выстраивает династию различных сексуальных нарушений, составляющих в его глазах особую и единую область. Он перечисляет эти нарушения: существует onania (онанизм); существует педерастия – как любовь к неполовозрелым; существует то, что он называет лесбийской любовью, – любовь индивидов, как мужчин, так и женщин, к лицам своего пола; существует соитие с мертвецами, скотоложство и, наконец, шестое отклонение. Вообще во всех трактатах по сексуальной психопатологии неизменно присутствует маленькая деталь… – кажется, это Крафт-Эбинг считал одним из наихудших сексуальных отклонений болезнь, при которой люди ходят по улице с ножницами и отрезают девочкам косы. Да уж, это просто мания! Но за несколько лет до Крафт-Эбинга Генрих Каан утверждает, что существует одно сексуальное отклонение, весьма значительное сексуальное отклонение, которое его очень беспокоит: половое сношение со статуями. Впрочем, так или иначе, это первая большая, всеобъемлющая династия сексуальных отклонений. И надо сказать, что в общей области psychopatia sexualis онанизм, который, как видите, фигурирует в числе отклонений и поэтому является не более чем одним из элементов этого класса, выполняет совершенно особую роль, занимает весьма привилегированное место. В самом деле, откуда идут другие извращения, не связанные с онанизмом? Как возникают подобные нарушения законов естественного сношения? Да вот же в чем дело: фактором отклонения выступает воображение, то, что называется phantasia, болезненное воображение. Именно оно способствует преждевременному желанию или, точнее, возбуждаемое преждевременными желаниями, находит дополнительные, побочные, заместительные средства для их удовлетворения. Как говорит Каан, phantasia, воображение, прокладывает путь всем сексуальным отклонениям. Следовательно, люди с ненормальной сексуальностью берутся из числа детей или же тех, кто в детстве осуществлял сексуально поляризованное воображение путем онанизма и мастурбации.
Мне кажется, что в этом анализе Генриха Каана, который может показаться довольно-таки безыскусным, тем не менее присутствует ряд очень важных моментов для истории психиатрической проблематизации сексуальности. Во-первых, то, что ненормальность естественна для инстинкта. Во-вторых, то, что зазор между естественностью и нормальностью инстинкта, или, другими словами, глубинная и неотчетливая связь между естественностью инстинкта и его аномалией, чаще и определеннее всего проявляется в детстве. Третья важная тема: существует явственная связь между сексуальным инстинктом и phantasia, или воображением. Если инстинкт как таковой привлекается в эту эпоху главным образом как подоплека привычных, непреодолимых, автоматических действий, не сопровождающихся мыслями или представлениями, то сексуальный инстинкт, описываемый Кааном, связан, помимо прочего, с воображением. Именно воображение открывает перед ним пространство, где он может раскрыть свою ненормальную природу. Именно в воображении сказываются эффекты расхождения природы и нормальности, и именно оно, воображение, будет отныне служить посредником, передатчиком для всех каузальных и патологических проявлений сексуального инстинкта.
Коротко можно сказать следующее. Психиатрия уже осваивала в это время инстинкт, но этот инстинкт (вспомните, о чем мы говорили три или четыре занятия назад) был, по сути своей, альтернативой бреда. Там, где не удавалось обнаружить бред, следовало привлекать безмолвные и автоматические инстинктивные механизмы. И вот Генрих Каан открывает в сексуальном инстинкте такой инстинкт, который, разумеется, не принадлежит к разряду бреда, однако несет в себе некоторую связь, интенсивную, явственную и постоянную связь с воображением. Взаимная работа инстинкта над воображением и воображения над инстинктом, их смычка и система их взаимодействия – вот что позволяет провести общий ряд, соединяющий механику инстинкта и отчетливые проявления бреда. Иначе говоря, решающее значение для плодотворности анализа психиатрических понятий принадлежит введению воображения в инстинктуальную экономику при посредничестве сексуального инстинкта.
И наконец, в связи с этой книгой Каана надо подчеркнуть то, что в ней обнаруживается следующий фундаментальный тезис. Дело в том, что с учетом этого механизма инстинкта и воображения сексуальный инстинкт оказывается в истоке не только соматических расстройств. Генрих Каан удерживает в своем трактате старые этиологии, о которых я говорил вам в прошлый раз и согласно которым гемиплегия, общий паралич, опухоль мозга могут явиться следствием чрезмерной мастурбации. Все это есть в его книге, однако есть в ней и то, чего мы не найдем в антимастурбационной кампании: согласно Каану мастурбация может сама по себе повлечь целый ряд одновременно сексуальных и психиатрических расстройств. Организуется особое, отдельное поле сексуальной аномалии внутри поля психиатрии.
* * *
Книга Каана вышла в 1844 г. Это произошло в эпоху, когда Причард выпустил свою знаменитую книгу о душевных болезнях, которая пусть не ставит точку, но все же свидетельствует о перебое в развитии теории умопомешательства, сосредоточенной на бреде; с нею в поле психиатрии входит целый ряд расстройств поведения, не связанных с бредом. Почти одновременно Гризингер закладывает основы нейропсихиатрии, основываясь на общем правиле, согласно которому объяснительные и аналитические принципы для ментальных заболеваний должны быть теми же, что и для неврологических болезней. И наконец, с разницей в один или два года Байарже, о котором я вам говорил, устанавливает примат оси произвольного и непроизвольного над привилегией, некогда отданной бреду. Словом, 1844–1845 гг. ознаменовались концом алиенистики и зарождением психиатрии, или нейропсихиатрии, организованной вокруг влечений, инстинктов и автоматизмов. Этой же датой завершается история сказаний о мастурбации – или, во всяком случае, возникает психиатрия, анализ сексуальности, характеризующийся поиском сексуального инстинкта, который пронизывает все поведение, от мастурбации до нормальной деятельности. Это эпоха, когда при участии Генриха Каана складывается психиатрическая генеалогия сексуальных отклонений. Это момент, когда – опять-таки благодаря книге Каана – устанавливается первостепенная и этиологическая роль воображения или, точнее говоря, воображения в связке с инстинктом. И наконец, это момент, когда детские стадии развития инстинктов и воображения приобретают определяющую роль в этиологии болезней и прежде всего умственных болезней. Таким образом, книга Генриха Каана обозначает дату рождения или как минимум дату вступления сексуальности и сексуальных отклонений на территорию психиатрии.
Но мне кажется, что это была лишь первая стадия процесса: открытие границ мастурбации, которая так настойчиво акцентировалась и в то же время обособлялась в рамках той кампании, о которой я рассказывал вам в прошлый раз. Открытие границ: с одной стороны, мастурбация сопрягается с сексуальным инстинктом вообще, с воображением и, тем самым, со всем полем отклонений и в конечном счете болезней. Но необходимо (и это вторая задача или, если угодно, вторая операция, осуществленная психиатрией в середине XIX века) очертить то пространство добавочной власти, которое назначает сексуальному инстинкту совершенно особую роль в генезисе несексуальных расстройств: необходимо выстроить этиологию видов безумия или ментальных болезней, основанную на истории сексуального инстинкта и связанного с ним воображения. А значит, необходимо освободиться от старой этиологии, о которой я говорил вам в прошлый раз (от этиологии, которая шла через истощение тела, ослабление нервной системы и т. д.), и найти собственную механику сексуального инстинкта и его аномалий. Об этой этиологической валоризации, об этой добавочной причинности, которая все более настойчиво приписывается сексуальному инстинкту, имеется ряд теоретических свидетельств, утверждений наподобие слов того же Генриха Каана: «Сексуальный инстинкт руководит всей психической и физической жизнью». Однако я хотел бы остановиться на одном конкретном случае, который ясно показывает, как механика сексуального инстинкта постепенно приобретала первенство над механикой всех прочих инстинктов, чтобы в итоге сыграть свою фундаментальную этиологическую роль.

