Книга вторая
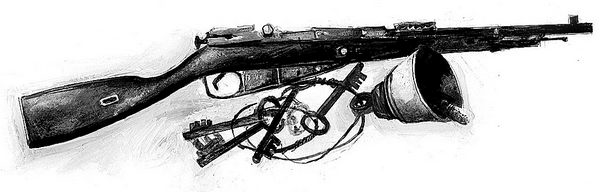
С островов улетали последние чайки, уводя за собой оперившихся и обнаглевших за лето пёстрых птенцов.
Лето в этом году было хоть и с перерывами на стылые дожди, но неожиданно долгое, и чайки чуть припозднились, разнежились, хотя, говорят, иной раз уже в августе собирали манатки.
– А может так быть, что чайки улетят на зиму – а обратную дорогу не найдут? – размышлял Афанасьев. – Сядут следующей весною где-нибудь в Ярославле… а то и в Московском кремле. Скажут: а вроде и в этих местах ничего, давай здесь останемся, поорём!
Артём посмеивался, принюхиваясь к сорванному ёлочному хвостику: он едва пах. Странно, но здесь и цветы весной не пахли, и деревья осенью. Объёмное соловецкое небо будто бы засасывало в себя все запахи, оставляя только лёгкое головокружение.
Иногда посмотришь налево, потом направо – а кажется, что везде одно и то же, и небо с разноцветными облаками вращают вокруг тебя, а ты будто находишься в центре детской юлы, ошалевший.
Самые насыщенные здесь всегда были облака, словно они не только вобрали в себя все соловецкие цвета, но и запахи тоже.
– Нет, ты представь, – не унимался Афанасьев. – Я всё это время был уверен, что такие поганые чайки только на Соловках могут быть. Про́клятое место во всём должно быть проклято. Только тут может водиться эта гадкая птица с её жадным, бабским, хамским характером. Но если они улетают – значит, есть ещё одно такое же место на земле, где они тоже орут с утра до вечера и мучают каких-нибудь несчастных своими воплями. А кто это может быть и где, Тём? В Африке?
Артём серьёзно посмотрел своему товарищу в глаза, словно собираясь ответить, и Афанасьев как-то так раскрылся навстречу, ожидая, что ему прояснят ситуацию. Вместо этого Артём прыснул со смеху. Нет, он всё-таки был очень рад Афанасьеву.
– Хорошо, – согласился Афанасьев, рыжие чертенята раскачивались на качелях в его глазах. – А может, там другая сторона света, где всё оборачивается иначе? И эти чайки там с ангельскими характерами?
– Да-да, – согласился Артём. – Там тоже имеется лагерь, где Кучерава приходит в роту с бидоном тёплого молока и всех поит из рук, из белой чашки.
Тут уже Афанасьев захохотал.
– На самом деле у одной чайки обнаружили кольцо на лапке – Рим там написано, – пояснил Артём, насмеявшись. – Они из Рима.
– Да что ты говоришь? – озадачился Афанасьев и привычно взял себя за рыжий чуб. – Вот те раз…
Почему-то это его удивило; зато и дало новое направление сумасбродной мысли.
– Давай пойдём дальше, – предложил Афанасьев. – Вот Римская империя распадалась, разваливалась на куски и ошмётки, а эти же чайки летели на Соловки – где ещё не было вообще ничего! Ещё не родились русские люди, и Христос к ним не приходил, потому что ни лешему, ни кроту Христос не нужен.
– Ага, – согласился Артём. – И это мы для них – непонятно что за приблуда такая! Было ведь беззвучно, прозрачно, мирно. Зима в Риме с их парадами и гладиаторами, а лето – на соловецкой даче, в тиши – чем не жизнь. Но потом появились два монаха. Потом ещё сто. Натаскали камней, начали стучать, стругать, с утра до вечера служить свой молебен, стен понастроили, крестов понаставили. Дальше – больше: к монахам прикатил целый балаган с винтовками и балалайками, и вообще затеялось невесть что… И кто, спрашивается, кому помешал?
– А может, – вдохновился, словно прикурил от слов Артёма, Афанасьев, – чайки эти пообтёрлись и теперь говорят друг другу: о, смотри, белохвостая – всё как в Древнем Риме опять: те же рожи, та же мерзость, то же скотство и рабство…
Артём глубоко вдохнул через нос и хорошо задавшуюся тему решил пока поприкрыть.
Сильно пахло лисами и неопрятной лисьей жизнью на Лисьем острове.
Остров этот был в двух верстах от главного соловецкого, и располагался на нём лисий питомник.
Управлял им бывший, по двенадцатой роте, взводный Артёма – Крапин.
Они вполне сошлись характерами и жили мирно.
Артём обитал тут уже пятую неделю. Помимо ухода за лисами, делал дурацкую стенгазету, проводил политинформации, числился дворником и поломоем – работы хватало, но жаловаться было не на что.
Афанасьев же появился часа полтора назад – его прислали на место лагерника, которого черно-серебристая лиса Глаша укусила за руку. Рука загноилась, пришлось отправлять напарника в больничку – но уж точно Артём не ожидал увидеть здесь питерского поэта: с чего бы вдруг?
Самого Артёма переправила сюда Галя сразу после случая с Мезерницким, на другой же день.
– Ты тоже ходил на эти ваши Афинские вечера, – не глядя на него и даже, кажется, раздражаясь, сказала Галя. – Сейчас всех потащат в ИСО, будут заговор искать… На Лисий поезжай… Забудется, надеюсь.
Артём такую благодарность испытал тогда, что, будь это хоть сколько-нибудь уместно в её кабинете, уставленном полками с делами, – он встал бы на колени и ноги Гале целовал.
– Ну, рассказывай новости, что там в кремле? – просил Артём Афанасьева; они нарочно ушли на бережок, чтоб переговорить.
Афанасьев наконец отпустил свой чуб – он так и остался стоять клоком, как рыжий куст над обрывом.
– У нас теперь новый начальник лагеря, – с ходу огорошил Афанасьев. – Два дня как явился.
– Откуда? – выдохнул Артём, вытаращив глаза и отбросив ёлочный хвост как совершенно лишний в таком разговоре.
– А я знаю? – ответил Афанасьев. – Из преисподней, как все они. Фамилия Ногтев. Он тут уже заправлял в своё время, ещё до Эйхманиса, но мы с тобой его не застали.
– А Эйхманис где? – спросил Артём, сам думая про Галю: что с ней? Не уехала ли она вместе с Эйхманисом? И что будет теперь с ним самим – с Артёмом. Странно, но своё какое-никакое благополучие он отчего-то связывал с бывшим уже начлагеря и без него оказывался словно бы гол и не защищён.
– Нашёл что спросить, – одной стороной рта криво улыбнулся Афанасьев. – А Эйхманис, думаю, занял то место в преисподней, что стынет после Ногтева… Слушай лучше другое. После выстрела Мезерницкого взяли сразу всех, кто ходил на эти ваши Афинские ночи. У тебя большой фарт, Тёма, что ты сюда уехал – и не знаю даже, что за звезда тебя пригревает. Мезерницкий стрелял из револьвера, который выдали Шлабуковскому на один спектакль – сугубо для театральных нужд, а не для стрельбы в начальника лагеря. То ли Шлабуковский забыл его сдать, то ли ещё что – но в тот вечер он заявился к Мезерницкому с револьвером в кармане. Мы с тобой его, если помнишь, провожали. И я ушёл, а ты отправился туда, в келью.
– Я не дошёл, – быстро сказал Артём.
– Да что ты? – без особого доверия в голосе откликнулся Афанасьев. – Твоё счастье… И там Шлабуковский вроде как забыл револьвер. Или Мезерницкий выкрал его. Или Шлабуковский нарочно передал ему револьвер. За всё это в любом случае полагается расстрел.
– Шлабуковского расстреляли? – тихо спросил Артём, но всё равно воздуха хватило только до середины второго слова.
– Погоди, – оборвал его Афанасьев, дрогнув челюстью, как бы отогнав торопливые вопросы Артёма. – Шлабуковскому для начала выбили часть зубов, в первой же беседе на заявленную тему. Но потом, Тёма, его вызвал Эйхманис – и, представь себе, Шлабуковского выпустили! А ещё через неделю – отправили домой, по условно-досрочному: он половину срока уже отсидел!.. Вот как судьба поворачивается! А?
Артём перевёл взгляд на море и даже сделал такое движение, словно его слегка толкнули в лоб: вроде как попытался поставить мозги на место, потому что вид Афанасьева всё равно ничего не объяснял.
– А за что его выпустили? – спросил Артём и не Афанасьева вовсе, а неведомо кого – грязную пену у берега.
Афанасьев пожал плечами и через некоторое время предположил:
– Может, за то, что он театр тут собрал… Может, Эйхманис поверил Шлабуковскому, что тот ни при чём. Кто ж знает. Но только Ногтев, едва появился, сразу пообещал, что амнистий пока не будет, потому что место, где стреляют в начлагеря, – нездоровое, и он принимается за лечение. А лекарь Ногтев, судя по его поганой морде, знатный… Так что уплыл наш денди Шлабуковский на последнем пароходике!
– А Василий Петрович? – вспомнил Артём; он вовсе не держал зла на Василия Петровича, как, впрочем, и на Афанасьева – хотя про подброшенные святцы по-прежнему помнил; но мало ли как бывает в жизни – на всех не наобижаешься. – А владычка? – ему, конечно же, хотелось ещё и про Галю спросить – не уехала ли она, но как тут спросишь, Галя ж не ходила на Афинские вечера.
– Василия Петровича тоже взяли, посадили в карцер, вот только к приезду Ногтева выпустили… По-моему, сдал твой Василий Петрович. А владычка как мёл полы в больничке, так и метёт. Хотя, возможно, его тоже допрашивали, я не знаю.

– И Гракова? – спросил Артём – тут уже, конечно, безо всякого сердечного интереса, а просто за компанию.
– А Граков стукач, – легко, как нечто самой собой разумеющееся, сказал Афанасьев. – Он и на воле уже был стукачом и возле нашего питерского поэтического ордена вертелся – и все мы об этом знали.
– Отчего ж ты не сказал никому? – Артём и правда не мог понять такого поведения Афанасьева.
– Я? – искренне удивился в ответ Афанасьев. – Зачем? Разве я похож на юродивого, чтоб тыкать пальцем и кричать: смотрите, бес!.. А потом – у вас же были Афинские вечера. А я не из Афин. Я в Питер приехал из ма-а-аленького городка, где ни одного ровного забора не было, и все нужники – деревянные. И учился я только три года – я ж пишу с ошибками.
– Там ничего такого не было, – быстро ответил Артём. – Никаких Афин.
– Было-было, – стоял на своём Афанасьев. – Ты москвич, ты гимназист, ты вырос, глядя на Московский кремль, в театр бегал с пяти лет, у тебя особая природа, ты по праву входил туда, а я дворняга…
– Ерунду какую-то говоришь, и всё, – повторил Артём чуть раздражённо: в его понимании это действительно была несусветная ерунда.
Афанасьев хмыкнул.
– Раз ты такой умный, Тёма, поясни тогда мне мой фарт, – сказал он вкрадчиво. – Четыре… да, четыре дня назад пригоняют мне парашу: наши с тобой венички, всю партию, вернули назад в монастырь. С требованием разобраться и наказать. Помнишь, мы с тобой заготовили вкусных веничков с колючей проволочкой? Веничек чекистский, веничек соловецкий, окровавленный веник зари?
Артёму бросило жар в голову: час от часу не легче! Что ж они за дураки были, как такая блажь вообще могла в голову взбрести! Ещё не оброс толком с тех пор, как побрили, а уже готов поседеть с такими новостями.
– Ну, думаю, – рассказывал Афанасьев, – амба. Прощайте, театральные подмостки, я пошёл на Секирку!.. Проходит ночь, и узнаю́, что за эти венички взяли в двенадцатой роте Авдея Сивцева и ещё одного, Захара, из-под Липецка… Помнишь такого?
– Да помню, помню, – ответил Артём, в том смысле, что: продолжай, не тяни.
– Может, они тоже имели наряд по веникам, я не знаю, – сказал Афанасьев. – Хотя вряд ли им пришло бы в голову, как и нам, вязать их колючкой… Не похоже на Сивцева нисколько. Но сидят теперь в карцере за наши забавы именно они.
– Бля, я убью её! – против воли вырвалось у Артёма; он, конечно, всё понял: история эта пошла через Галю, она быстро выяснила, кто виноват в заготовке весёлых веничков, и снова прикрыла Артёма – потому что одного Афанасьева наказывать за такое дело нельзя. Пришлось и поэта тоже с глаз долой упечь – тут как раз вовремя подвернулся покусанный лисами лагерник на их острове, и место освободилось.
Хотя история, конечно, была ещё сложней: Галя могла бы отправить Афанасьева на любую дальнюю командировку, на баланы или на торф – но послала его к Артёму как привет: смотри, тварь, помню про тебя.
Порадоваться во всей этой истории можно было только одному: Галя не уехала.
– Кого убьёшь-то, Тём? – спросил Афанасьев, снова взяв себя за чуб и придерживая, чтоб голова, если что, не укатилась.
“Но разве нельзя по-другому меня было прикрыть, Галя? – спрашивал Артём; слёзы у него на этом ветру были близко, и он несколько раз вдохнул, чтоб остудить заполошное сердце своё. – Галя!” – ещё раз позвал он мысленно, вглядываясь в море.
Ответа ему не было, зато Афанасьев всё смотрел на Артёма.
– Лису Глашу, – сухо ответил Артём, вставая. – Видел, какая стерва?
…Афанасьев нагнал его через минуту, шёл следом как ни в чём не бывало – Глашу так Глашу – и плёл свои привычные словесные узоры.
– Тём, я знаешь что заметил? В Москве солнце заходит – как остывший самовар унесли. В Питере, – и Афанасьев махнул рукой куда-то в сторону, – как петровский пятак за рукав спрятали. В Одессе, – здесь рука взлетела уже в другую сторону, – как зайца на барабане прокатили… В Астрахани – закат такой, словно красную рыбу жарят. В Архангельске – как мороженой рыбой угощали, да мимо пронесли. В Рязани – как муравьями поеденная колода. В Риге – будто таблетку под язык положили. И только тут – как бритвой, – Афанасьев быстро чиркнул указательным пальцем возле шеи, по горлу…
Артёму не было дела до всех этих стихов.
Нет больше никакой поэзии на свете.
Сделав два нагоняющих шага, Афанасьев тихо взял его за рукав и с улыбкой в голосе сказал:
– Я всё равно убегу.
* * *
К запаху надо было привыкнуть.
Лисий смрад висел над островом, иногда солёными сквозняками его угоняло в море – но тут же будто бы приносило обратно: нет, такого нам не надо, живите сами со своим звериным духом.
Афанасьев явно был парень небрезгливый, даром что поэт: ему сразу оказалось всё равно.
И Артём тоже привык в своё время.
Небольшой остров был обставлен щитами, чтоб лисы не убежали к морю.
Людей никто не стерёг – надзорных тут не было вовсе.
В лисьем питомнике каждая лиса имела свою квартиру на ламповом отоплении и небольшой, огороженный земельный участок, за что Крапин, оказавшийся разумным, дельным мужиком, шутливо называл их “мелкими землевладельцами”.
Гулять выпускали только Фуру – одну из лис, любимицу Крапина, в награду за почти домашний нрав; Артём её, естественно, называл Фурией. Дружбы у Артёма с ней не было, хотя он исправно прикармливал её рыбой, зато Крапину лиса едва не бросалась на шею, когда он появлялся.
Приросшие мочки ушей Крапина теперь уже не казались Артёму, как то было раньше, признаком ограниченного ума, но служили теперь доказательством надёжного характера. И ещё – его красный широкий затылок, такой красный, словно его вынули из борща.
Крапин с Артёмом показывали Афанасьеву питомник, готовя его к новой работе.
Пожалуй, Крапин к Афанасьеву по старой памяти относился не очень душевно, памятуя его дружбу с блатными и неустанные картёжные забавы. Но тут, на Лисьем, блатных не было, и Крапин был готов присмотреться заново к рыжему жулику.
– Семьдесят три лисы старых, семьдесят шесть молодых, двадцать голубых песцов и пять соболей… – рассказывал Крапин, сурово цедя слова. – И дюжина кошек.
– Коты на варежки? – спросил Афанасьев.
Крапин не ответил, словно не расслышал.
– Когда у лис пропадает молоко, кошки докармливают, – негромко пояснил Артём.
– А котята на прикорм лисам идут, – пояснил Крапин, который, конечно, всё слышал, и подытожил: – Хозяйство!
Питомник был разделён на улочки.
Вход в каждую лисью квартиру был сделан в виде трубы, чтоб напоминать лисе нору, иначе звери беспокоились и боялись спать.
Лисы, как и люди, стараются жить постоянными парами, но на острове самцов не хватало, отчего пришлось вступить в некоторое противоречие с природой: чужих черно-серебристых мужей гоняли по разным квартирам.
Лисьи случки на Артёма, стыдно признаться, действовали так, что сводило дыхание.
– Вот бы нам так с женбараком устроиться, – вслух мечтал товарищ Артёма. – Почему лис хотят разводить, а поэта Афанасьева нет?
Крапин снова делал вид, что не слышит лукавого говорка нового работника.
Он был из тех людей, что пустых словесных шуток и выкрутасов не любят – хоть и умеют на них отвечать, иногда на удивление точно, – зато Крапин хорошо видел юмор самой жизни.
– …Чем кормим? – отвечал он Афанасьеву, который наглядно завидовал лисьему быту. – Рыбой кормим, бросовый овощ завозят с монастырской главкухни. А поначалу была задача трудная: чем кормить. Отчего-то решили – воронами будем. Ворон много, надо только лов наладить. А ворона знаешь какая умная птица – охо-хо! В общем, на пробу сделали фантик с приманкой, по бокам фантика клей. Ждать не пришлось, ворона тут же прилетела, клюнула, фантик прилип. Ну, думаю, поймаю сейчас. Тут прилетает другая ворона – раз за фантик – и сняла его с носа своей подружки. И обе улетели, прохиндейки.
Крапин скрутил себе самокруточку, ловко работали здоровые пальцы в коричневом от махорки и жира глянце.
Что-то было домашнее в подобных, нередких здесь разговорах, и Артём не первый раз ловил себя на этой мысли. Иной раз просыпался ночью: где Ксива? где Шафербеков? – заглядывал вниз со своих нар – а перед глазами – пол.
…В каждой лисьей квартире была установлена гордость Крапина и его выдумка – лисофон. Чтоб не обегать полторы сотни дворов, Крапин выпросил в кремле оборудование – сделать прослушку для каждой лисы.
– Сидишь в конторе, – пояснял он Афанасьеву, – решил узнать, как дела у Глаши. Включаешь номер её квартиры и слушаешь по лисофону. Если лисята её полаивают и шебуршатся – значит, всё в порядке. Если скулят – значит, у Глаши молока не хватает.
– А если тишина – значит, все подохли, – в тон Крапину закончил Афанасьев; за время работы в театре он немного подрасслабился; хотя и раньше излишним послушанием не отличался.
– …Все подохли, – в тон ему продолжил Крапин, – и ответственный работник питомника, то есть ты, едет на Секирку. Иначе сказать: в погоню за подохшей лисой. И лиса от него далеко не уйдёт.
“О как!” – подумал Артём и подмигнул Афанасьеву: слыхал? А ты думал, ты один тут шутить умеешь, рыжий поэт?
Крапин даже книги читал – что было для Артёма серьёзным удивлением. В монастыре Крапин никогда б себе такого не позволил, а на острове лишних глаз было мало – чего бы и не почитать. Хотя Крапин и здесь старался делать это в одиночестве, и Джека Лондона в руках бывшего милиционера Артём заметил случайно, когда примчал в его домик на прошлой неделе доложить, что Глаша принесла сразу восьмерых лисят – дело небывалое.
Никакой лисофон, естественно, толком не работал – и по лисьим квартирам ходил с проверками Артём. Зверей этих он, признаться, не очень любил и побаивался.
“Лучше б мы коз разводили, – посмеиваясь, жаловался на судьбу Артём. – Надо Галю спросить, нет ли тут козьего питомника… Молочком бы отпоился, похорошел бы…”
– Тут у нас амбулатория, – степенно показывал Крапин; Афанасьев не переставал удивляться, что Крапину, кажется, втайне даже нравилось.
Амбулатория представляла собой одну комнату. В комнате имелся шкаф, полный заграничных лекарств и всяких склянок, стол для записей, над которым висела картонка с изображением лисы в анатомическом разрезе, посреди комнаты стояла мягкая, широкая лавка, уснащённая ремнями, для осмотра лисиц.
…Галя приезжала на остров лишь однажды, две недели назад. На той же лодке, что её привезла, Крапин, наскоро побрившись, отправился докладывать в монастырь о своих достижениях, Галя поговорила с его заместителем по всякой бумажной работе и, пока работники питомника сели обедать, пошла с Артёмом на осмотр лисьих квартир.
На этой лавке они и сцепились друг с другом, как одуревшие. Впрочем, Артём знал, конечно, что медицинская комната была единственной, что закрывалась изнутри.
Посреди их встречи в окно постучали…
…Оборвав дыхание, Галя расширенными глазами смотрела на Артёма, он чувствовал её бешеные ногти в спине…
…Оказалось, чайка прилетела и требует хлеба – это была обычная их соловецкая привычка: тук да тук, угощайте.
Но смешно было только потом, поначалу – совсем нет. Артём до сих пор смотрел на лавку эту с томлением и тихой тоской.
– Микроскоп даже… Рейхерта есть, – продолжал Крапин. – Умеешь пользоваться? – спросил он, не глядя на Афанасьева.
– Рейхертом нет, но… – поспешно, хотя и тут несколько валяя рыжего дурака, отвечал Афанасьев.
– И не надо, – оборвал его Крапин, – будешь пользоваться этой штукой, – он развернулся и направил в лоб Афанасьеву натуральный пугач.
Афанасьев скосился на Артёма: что, мол, такое? Артём пожал плечами: и такие здесь шутят шутки.
– Сдаюсь, – сказал Афанасьев, но руки вверх не поднял.
– Глисты у всех лис, – пояснил Крапин. – От глистов помогают американские облатки. Только лиса не знает, что ей нужно их глотать, поэтому приходится использовать этот инструмент.
Крапин повернул пугач в сторону и выстрелил в картинку с лисой. Отскочив от стены, на стол упала белая облатка.
– Главное, приспособиться к этой работе, – объяснял Крапин, по-прежнему не глядя на Афанасьева. – Бывший наш напарник был опытным домушником, поэтому ходил с пугачом по лисьим квартирам. Стучался и на вопрос “Кто там?” стрелял в рот появившейся хозяйке. Но Глаше такое обращение надоело, и она его укусила… А меня тоже третьего дня покусали, – поведал Крапин, обращаясь исключительно к Артёму. – Везли на самолёте из Кеми трёх молодых лисиц… Тряска, бензин – видно, одна очумела совсем. Стал выгонять их, уже на острове, – она меня хвать за руку. Боялся, загноится, – но вроде ничего, – Крапин засучил рукав и показал сухо подживающие следы лисьих челюстей. – Так что ты продумай, как тебе половчей выполнять свою работу, – сказал Крапин, наконец повернувшись к Афанасьеву и передавая ему пугач.
– Можно рыбу бросать лисе, она рот раскроет, и тогда ей в пасть: бах! – предложил Афанасьев крайне серьёзно.
– Можно, – не менее серьёзно отвечал Крапин. – Но за одну потерянную облатку работник получает дрыном по хребту, я дрын с острова привёз, не забыл… А за вторую – уезжает на обозначенную ранее Секирку, сидеть на жерди и запоздало раскаиваться.
Афанасьев наскоро сложил понимающую физиономию, подогнав одну бровь ко второй уголком и огорчительно поджав свои всегда розовые, будто чуть вспухшие, далёким девкам на радость, губы.
– Тут у нас зубной кабинет, – толкнул следующую дверь Крапин. Афанасьев присвистнул. – Только лисам лечат не плохие зубы, а хорошие – самые острые резцы…
В отдельной, крытой сарайке располагалась ещё и фотография: специально для лис. Фотографировал сам Крапин: у бывшего милиционера обнаружилось множество полезных навыков.
– Щёлкните меня, гражданин начальник, – запросился Афанасьев, зачем-то подтягивая свои новые хлопчатобумажные штаны. – Не помню, когда последний раз фотографировался.
– У нас после того, как фотографируют, – снимают шкуру, – без улыбки ответил Крапин, сворачивая новую самокруточку.
Возле фотографии лиса играла с местным молодым псом, родившимся в тюрьме, о чём он вряд ли догадывался.
Собака наскакивала и вроде бы брала силой и задором, но всякий раз лиса бесшумно выворачивалась. Красивый хвост свой при этом она держала палкой, чтоб не запачкать: кокетка, да и только.
– Пёс радуется, что он сильней, – сказал Крапин. – Пёс – дурак. Он только думает, что может укусить. А она от природы – убийца. И если что не так – сразу же убьёт.
Артём незаметно всё поглаживал большой палец о средний и указательный, словно пытаясь вспомнить то ощущение, когда он, пальцами вцепившись в лавку… смотрел на Галю и дышал.
* * *
Ночью лиса ходила по крыше.
Дом несколько дней как топили. Потрескивало не только в старой печи, но и стены отзывались – кряхтя, и потолки – удивлённо, и полы – с укоризною.
Ночи вернулись тёмные, словно прокопчённые и промёрзшие до самой сердцевины за то время, пока их всё лето держали взаперти.
Пахла ночь то лисьим, то селёдочным хвостом, и, если приходилось выйти во двор по нужде, – сырой, отдающий смрадом ветер толкал в затылок.
Появились звёзды – всё лето их не видел, веснушчатые, как рука владычки, но и они тоже будто отдавали селёдкой.
С улицы неизменно хотелось в избу, в тепло; жаль, чая совсем не было, и ягод тоже – а то как чайку хорошо, когда звёзды в окне и мутный, пересоленный ветер, подвывая, носится туда-сюда, словно потерял свой ошейник.
Афанасьева заселили в одну комнату с Артёмом, и они заняли общую, на полу застеленную, лежанку.
– …Возле Йодпрома, – рассказывал Афанасьев, которому не спалось, – поймали, не поверишь, Тёма, дедка одного. Оказалось – монах, жил в какой-то норе, питался корешками и ягодками… Может, и прикармливал кто – но сам он сказал, что жил молитвой.
Артём, который уже готовился спать, открыл глаза и увидел в свете уличного фонаря растрекавшийся, давно не белённый потолок.
– Говорят, дед и не знал про то, что теперь тут лагерь, и семь лет к людям не выходил, – тихо засмеялся Афанасьев. – Его подержали три дня в ИСО, ничего не добились и отправили в Кемь: иди работай, дедушка, антихрист пришёл, от него в лесу не спрячешься… Так он, неведомо как, опять вернулся на остров с целью залезть в нору поглубже и больше уже не вылезать… Но тут его уже быстро поймали и определили на этот раз в четырнадцатую роту.
Рассказ свой Афанасьев вёл, опираясь рыжей башкой на руку, но рука затекла, и он повалился на спину.
– И что? – спросил Артём, повременив.
– Дед? – беззаботно отозвался Афанасьев. – Доходит уже. В норе оказалось проще выжить, чем в четырнадцатой роте.
“А я знаю этого отшельника”, – подумал Артём, но ничего не сказал.
Вместо этого спросил:
– А твои друзья как? Не передохли?
Афанасьев притих, раздумывая.
– Какие друзья? – спросил так, вроде бы и не догадавшись.
– Да блатные, – ответил Артём; он втайне мечтал, чтоб однажды набежала одичавшая резвая волна и всех его неприятелей разом унесла в море.
Афанасьев вздохнул.
– Нет, Тёма, они мне не друзья. У вора вообще не может быть друзей. Может, ты думаешь, что блатной – это привычка брать чужое, подлый характер и гнусные повадки? И ещё речь – ну да. Слышал, как они разговаривают? – Артём слышал, но забыл; Афанасьев с ходу напомнил, чуть, в меру, подгнусавливая: – “Из-за стирок влип: прогромал стирочнику цельную скрипуху барахла. Но тут грубая гаца подошла, фраера хай подняли. Чуть не ступил на мокрое!” Я, Тёма, все эти слова знаю, и повадки их запомнить смогу, и характер себе испортить, и заиметь привычку брать чужое и не раскаиваться о том. Но, Тёма, перекрасить свою фраерскую масть я не смогу всё равно! Вор – это другое, чем мы с тобой, растение! У него на месте души – дуля, и эта дуля ухмыляется и показывает грязный язык. Вором нельзя стать на время, поиграть в него тоже нельзя, вор – это навсегда. Они воры не потому, что ведут себя, как воры, а потому, что больше никак себя вести не умеют… Я для них в самом лучшем случае – порчак. Знаешь такое слово, Тёма? Порчак – это и не фраер, и не вор, а так, подделка. От фраера ушёл, вором не стал – такого колобка съедают первым… Лучше уж фраером оставаться и не строить из себя.
Афанасьев, видимо, что-то вспомнил важное и занимательное, отчего привстал на локте.
– Тебя, Тёма, знаешь как назвали они однажды? Я слышал случайно! “Битый фраер!” Вот как! Битый фраер, Тёма – это хорошо, это почти уважение. Они и тебя зарежут, причём с большей охотой, чем обычного фраера, – но в твоём случае им уже будет чем похвастаться… Заслужил, Тёма, точно тебе говорю. Я сам, брат, – тут Афанасьев понизил голос, – не ожидал, что ты так долго проживёшь… Хорошая у тебя звезда. За пазухой её носишь, наверное?
Артём, сам не понимая своего движения, положил руку на грудь, будто под рубахой у него действительно что-то было.
По крыше опять прошла лиса, словно выискивая лаз в тёплые комнаты, к запахам съестного.
Афанасьев посмотрел наверх и спросил:
– Ты, поди, и смерти не боишься? Думаешь, и нет её?
В полутьме Артём заметил, что его товарищ даже кивнул головой вверх, словно это не лиса, а самая смерть там и бродила.
– А что, есть? – спросил Артём.
Он-то наверняка знал, что лиса.
Рыжий поэт снова упал на спину, но вытянул обе руки перед собой, растопырил пальцы и стал их рассматривать.
– Мне тут Кабир-шах… или Курез-шах?.. кто-то из них рассказал, что смерть – путешествие. Самое любопытное в жизни. Настолько любопытное – что только сиди и радуйся, как перед спектаклем… – Уронив руки, Афанасьев помолчал, собираясь с мыслями; выдохнул и сказал: – Ждёшь его, ждёшь, этого путешествия, высунул голову за кулисы, а тебе щ-щёлк! – и голову ножницами отрезали – огромными такими, ржавыми. Башка упала, вот тебе и всё путешествие. Только из безголового тела разная жижа льёт напоследок, и спереди, и сзади.
Неожиданно Афанасьев начал чесать щёку – частым собачьим движеньем, разве что искры не летели из-под когтей от такого хруста.
Артём посмотрел на это как на привычный афанасьевский финт; собственно, так оно и было.
Что до слов, сказанных Афанасьевым, – Артём вроде бы понимал их смысл, но оценить мог только красоту слога, потому что – его товарищ был прав – никаких ножниц он не чувствовал и представить их перещёлк под собственным подбородком так и не научился, хотя возможности для этого в последнее время ему были предоставлены не раз. Должно быть, знать о своей смерти – не самая важная наука на земле.
– …В общем, такие путешествия не в моём вкусе, – досказал Афанасьев, начесавшись. – У меня есть другое предложение из области географии. Готов меня слушать, Тёма?
– Говори, Афанас, – сказал Артём; хотя откуда-то знал заранее, что сейчас сказанное ему окажется ненужным и лишним.
Афанасьев, перевалившись на грудь, встал и, скрипя половицами, подошёл к окошку – долго вглядывался, даже рамы потрогал.
Потом вернулся назад и постоял у дверей, прислушиваясь.
– Здесь точно никого нет? – спросил он.
– Разве что лиса, – сказал Артём.
– А этот ваш… лисофон – сюда не мог Крапин провести?
– Всё, что ты сейчас скажешь, сразу идёт радиограммой в информационный отдел, – ответил Артём. – Утром по соловецкому радио перескажут вкратце.
Афанасьев ещё покружил с минуту, в полутьме натыкаясь то на стул, то на собственные ботинки, которые по лагерной привычке принёс в комнату, а не оставил, как его товарищ, у порога.
Потом наконец уселся рядом с Артёмом и задыхающимся то ли от восторга, то ли от волнения голосом поведал примерно следующее.
Бурцев уже месяц как назначен старостой Соловецкого лагеря.
Услышав это, Артём только покрутил головой: стоило уехать, как в лагере началось чёрт знает что. И неясно, радоваться или огорчаться тому.
Пока Эйхманис собирал дела, а Ногтев ещё не вступил в должность, Бурцев успел высоко подняться. Работая в ИСО, он исхитрился собрать материал на чекистское руководство, которое, как выяснилось, состояло наполовину из кокаинистов и сифилитиков. Пользуясь этим материалом, Бурцев получил серьёзную власть и разнообразные полномочия.
Дело доходило до того, что он сажал чекистов среднего звена в карцер – и никто на него пожаловаться не мог, потому что все жалобы шли через его бывший отдел в ИСО, где Бурцев оставил своего человека, тоже из бывших колчаковских офицеров.
“Самым интересным на берегу не угостил, – мельком подумал Артём про Афанасьева, от таких вестей по примеру товарища начавший поглядывать то в окно, то на двери. – Припас до ночи… дичь свою жареную…”
Красноармейцев из надзора Бурцев держит в натуральном страхе: ввёл палочные наказания за пьянство и грубые дисциплинарные нарушения. Заодно Бурцев давит всех, кто попадается под руку – и блатных, и каэров, и бытовиков, и бывших социалистов, которых не терпит с особо мстительным чувством.
Случай с Мезерницким Бурцеву был даже выгоден: он сам занялся допросами, чтоб его смутные дела оказались в тени; к примеру, зубы Шлабуковскому именно наш Мстислав и выбил.
Шлабуковского Эйхманис спас, но в целом всему происходящему не препятствовал. Собственно, никаких причин для того и не было: надзорные перестали насиловать девок из женбарака, а чекисты больше не устраивали громких кутежей, показательных пыток – вроде комариной на берегу Святого озера, и пьяной стрельбы по-над головами во время общих разводов.
Но главной затеей Бурцева был отбор боевой группы для побега. Из кого она набрана, Афанасьев не знал, но догадывался, что это в основном бывшие белогвардейцы и несколько портовых мастеровых. В ближайшее время, пока не закончилась навигация, в течение одной ночи эта группа обезоружит конвойную роту, взорвёт маяк, разрушит радиоточку, разорвёт телефонную связь, захватит пароход “Глеб Бокий” и уйдёт в Кемь. А оттуда – в Финляндию.
Артём молчал.
“Ну и кто на этот раз клоун?” – спросил он сам себя. Ему показалось, что он даже думает шёпотом.
Афанасьев сидел, не шевелясь, выжидательно глядя на Артёма.
Лиса наверху нашла самое тёплое место возле трубы и тоже утихла.
– Я не побегу, – сказал Артём.
Они ещё помолчали.
– Не побежишь? – переспросил Афанасьев, словно что-то могло измениться за минуту.
– Нет. Зачем ты это мне рассказал?
– Ну, раз не побежишь, то… – начал Афанасьев, но споткнулся… подумав, продолжил: – Тёма, я знаю наверняка: у тебя есть блат. Меня отсюда надо вывезти. Чем скорей, тем лучше. Я сам ничего не могу придумать, чтоб уехать, – Крапин меня не послушает. Разве что саморуб сделать… или самолом – но куда я потом побегу со сломанной ногой или без пальцев на руке?.. Выручи, Тём. Переправь меня, пожалуйста. За лекарствами, за чем угодно. Пусть меня даже в карцер посадят на большом острове, перетерплю. Когда всё это затеется – меня освободят… Тём?
“А пусть тебя лисы покусают, Афанас – и поедешь в больничку”, – хотел пошутить Артём, но не стал – какие тут шутки: всё стало несмешное вокруг.
– Спим до завтра, – сказал он и решительно полез под одеяло.
Накрылся с головой, отвернулся к стене и заснул быстро.
Почивал крепко: ему отчего-то нравилось, что лиса свернулась у трубы и сторожит их утлый домик. Хотя бы в трубу теперь точно никто не заберётся.
* * *
Утром Артём, надевая штаны, выронил из кармана сложенную вдвое пачку соловецких денег – на Лисьем острове он получал самую высокую за всё его соловецкое житьё зарплату, а тратить её было некуда: магазины все остались на большом острове.
– Я тебе три рубля должен, Афанас, – сказал он весело; Афанасьев ещё дремал, но уже жмурился на звук человеческого голоса и пытался зарыться глубже в одеяло. – Помнишь, в больничке мне давал? – не отставал Артём.
– Помню, – бормотнул Афанасьев в подушку.
– На, держи, – сказал Артём; дождался, пока Афанасьев развернётся, откроет глаза и протянет руку за деньгами. – Во-от. И больше со мной на вчерашнюю тему не говори, – отчётливо и доброжелательно попросил он.
Афанасьев потёр глаза и уселся, исподлобья поглядывая на товарища. Артём два раза встряхнул свой потрёпанный, лисами пропахший пиджак и, не без изящества взмахнув им через плечо, тут же попал в рукав.
– В монастырь смогу уехать? – спросил Афанасьев глухо.
– Будет возможность – поедешь, я помогу, – ответил Артём легко, словно речь шла про кружку чая, которую обещал налить, – а нарочно ничего придумывать не стану, прости, Афанас.
Тот кивнул и ещё раз протёр кулаками глаза.
– Сколько времени? – спросил Афанасьев. – Ни колокола, ни гудка не слышал…
– Восемь уже, милый, ты своё переспал давно, – ответил Артём. – Тут ни колоколов, ни гудков – здесь свобода, равенство и тунеядство! Пойдём лис кормить, а потом и себе стол накроем… Сегодня банный день – надо до вечера как следует измазаться, чтоб воду попусту не переводить.
– Здесь и баня есть? – наконец проснулся Афанасьев.
– А то, – посмеивался Артём. – Крапин с дрыном знаешь как пропаривает.
– Надо бы нам наши венички из монастыря запросить, – пошутил Афанасьев.
Артём тоже засмеялся. Утро начиналось весело. Бежать куда-то было совершенно незачем.
С тех пор как погонщина – работа из-под палки – прекратилась вовсе, Артём почувствовал, что сильно повзрослел, разросся душой, всё внутри стало будто на два размера больше. Он помнил, как в юности, лет в четырнадцать, поймал себя на мысли, что, заходя в кладовку, ему нужно чуть-чуть нагибаться – дорос наконец. Теперь он ходил по свету с твёрдым чувством, что где-то надо бы немного преклонить голову, а то снесёт до самого затылка, или пройти боком, потому что всей грудью в проём не помещаешься – но где преклонить, где посторониться?
Оказалось, что дурная, на износ работа расти не помогает, но, напротив, забивает человека в землю по самую глотку. Человек растёт там, где можно разбежаться, подпрыгнуть, спугнуть птицу с высокой ветки, едва не ухватив её за хвост.
Под утро прошёл дождь, неопрятный и многословный, согнал лису с крыши, взмесил грязь, запах поднялся ещё гуще – но Артёма всё это забавляло; у него уже имелись калоши, он раздобыл пару Афанасьеву, и они вдвоём чавкали, увязая и матерясь, до лисьего питомника, откуда уже раздавался нервный лай: жрать! жрать!.. Никакого лисофона не надо.
Лис кормили раз в день, в обед, но кормящих самок и подрастающих лисят прикармливали ещё и с утра.
Завтрак готовили им загодя и потом разносили. Лисята жили на верандах, покрытых проволочной сеткой, – чтоб гулять на солнышке, а не только сидеть в норе.
Солнышко, правда, сегодня было совсем далёкое и будто подостывшее, в мурахах простуды.
Беспечно переругиваясь с Афанасьевым, который вооружился пугачом и предлагал для начала испробовать его хотя бы на Артёме – “…у тебя ведь тоже могут быть глисты?” – Артём старался не думать про Бурцева, потому что даже мысленное произнесение этого имени тревожило, наводило смуту, хоть и замешенную на уважении: вот он какой оказался – бесшабашный офицер, гордец, упрямец, лихач – но лихач организованный, импровизаций не терпящий, железный, как машина.
“Я бы так не смог”, – вот всё, что понимал Артём; и понимал он это, наверное, впервые в жизни – потому что, видя остальных людей и зная их поступки, он догадывался, что либо умеет, как они, и даже лучше, чем они, либо и не хочет вовсе на них походить.
…Из этого ряда, безусловно, выпадал Эйхманис. С Эйхманисом Артёму и в голову не пришло б себя сравнивать – с тем же успехом он мог сравнить себя с Цезарем или с Робеспьером.
Эйхманис был старше Артёма лет на пять или семь – стоило бы сказать, что эти годы выпали на Мировую и Гражданскую войны, – но суть располагалась где-то ещё глубже… Артём втайне догадывался, что Эйхманис был старше – навсегда.
Что таилось в столь звучном слове, понимать было не обязательно: навсегда, на целую жизнь, на одну ампутированную душу, на один, в конце концов, ад… Но и эти слова тоже, по совести говоря, ничего для Артёма не значили, и смысл их он взвесить не мог: ну, душа, ну, ад – положил одно слово на одну ладонь, второе на другую – веса никакого нет в них, ладони – пусты и мёрзнут.
Картошка с треской весит больше, чем совесть, а клопы наглядней ада.
…Однако неистреблённое даже здесь, в этих стылых местах, мальчишеское чувство царапалось внутри с вопросом: а кто оказался бы сильнее, сойдись они – взвод на взвод или один на один – Эйхманис и Бурцев? Не то чтоб в элементарной драке, а в каком-то другом поединке, где было бы задействовано всё: и штык, и дерзость, и ум, и сумрачное прошлое каждого из них.
Артём улыбнулся и покрутил головой – вроде бы заматерел, покрылся новой кожей, толще прежней, а дурацкая, детская мысль – нет-нет да и плеснёт хвостом.
Он даже не мог бы признаться себе, кому б в той схватке желал поражения, а кому победы.
“…Может, Троянский прав и ты стал рабом, полюбившим своё рабство?” – спросил себя Артём.
“…А если бы Мстиславу Бурцеву потребовалось сейчас меня расстрелять – ни за что, а просто во имя исполнения своей великолепной затеи – он сделал бы он это?” – размышлял Артём дальше.
Поймав себя на крючок этим вопросом, Артём даже поёжился, потому что ответ был ясен: конечно, расстрелял бы.
“…Отчего же я тогда должен желать Бурцеву удачи?” – продолжал себя пытать Артём.
“…Оттого, что Эйхманис тебя на минуту пригрел, и твоя жалкая человеческая душа сама себе вставила кольцо в губу – и бегает за тенью хозяина, который к тому же уехал, оставив тебе в подарок свою бывшую шалаву…” – издевался над собой Артём; и снова гнал от себя все эти мысли, потому что жизнь его не нуждалась в них нисколько, жизнь его нуждалась только в продолжении жизни.
“…Не говори так о Гале”, – попросил он себя: за Галю ему отчего-то было куда больней, чем за всё остальное – в числе остального значился и сам Артём.
Афанасьев, которого Артём уже минуты две как вроде слышал, но не слушал, продолжал дурачиться, спрашивая про всё подряд, как рыжий переросток, оставленный на третий год доучиваться.
Наверное, поэта именно потому душевно тянуло к Артёму, что с ним он мог побыть самим собою – дурашливым дитём, – чего в лагере себе ни с кем не позволишь.
И не за то же ли самое и Артём ценил Афанасьева?
– А что это у вас лиса трёхногая? – с деланым испугом любопытствовал Афанасьев. – Съели с Крапиным одну ногу? Думаете, никто не заметит? Решили, что чекисты только до трёх умеют считать?
– Это Марта, – отвечал Артём, благодарный за то, что Афанасьев всё-таки избавил его от занудных размышлений. – Она убежала в прошлом месяце, – здесь Артём со значением посмотрел на Афанасьева, – и попала в капкан. Отгрызла себе ногу, чтоб дальше бежать. Представляешь, какая сила воли?
Афанасьев ненадолго стал серьёзным, впрочем, серьёзности сомнительной – потому что, оценивая, он осматривал свою руку, как бы прикидывая: а если мне попадётся капкан? как тогда я?
К Марте недавно привели самца – они зажили вдвоём, и дело у них шло на лад: Артём вчера видел, полюбовался с минуту, до лёгких спазмов в груди.
– А самцу – то, что у неё три ноги, не мешает? – с интересом и сомнением спросил Афанасьев.
– Нет, – ответил Артём.
Афанасьев ещё подумал и впервые без малейшей улыбки сообщил:
– Я б не смог.
– Ну да, – согласился Артём, – …хотя сейчас редко встретишь женщину с тремя ногами.
…Так хохотали по поводу трёх ног, – Афанасьев с его фантазией, похоже, отлично себе это представил, – что сначала напугали и Марту, и её самца, а потом не заметили Крапина.
– Здра, гражданин начальник! – по привычке большого лагеря заорал Афанасьев – на Лисьем так кричать было не принято.
Крапин сморщился и сделал такое движение, словно собирался Афанасьева скомкать и спрятать в карман, чтоб потом выбросить в печку.
– Артём, как думаешь, кто там? – спросил Крапин, показывая на море.
По морю шла моторная лодка. Люди в лодке пока были неразличимы.
Афанасьев, заметил Артём, обрадовался так, словно это Бурцев за ним послал: ну, мы плывём в Финляндию или нет?
Крапин же был немного встревожен: он недавно отчитался за всех лис, фотографии отвёз, что ещё? Может, новый начальник лагеря Ногтев требует его теперь?
Все трое вглядывались, и хоть глаза у Афанасьева с Артёмом были помоложе, бывший милиционер всё равно первым разглядел гостью.
– Галина к нам, – сказал Крапин. – Что-то она зачастила. Наверное, решила себе шубу заранее присмотреть, стерва.
Афанасьев скосился на Артёма и смотрел не отрываясь, чуть подрагивая губами.
Артём сначала терпел этот взгляд, потом повернулся и без особого расположения спросил:
– Чего смотрим, Афанас? Глаза застудишь.
– Хотел тебе сказать, Тёма, – добродушно, нисколько не обижаясь, прошептал Афанасьев, переведя взгляд на спину уходящего к маленькому деревянному причалу Крапина. – Знаешь что ещё было в лагере – сдуреть, и только.
– Говори быстрей. – Гости уже причаливали, а Галя встала, но лодка начала раскачиваться, и она снова присела на лавку в лодке.
– У твоего Троянского есть коллега в Йодпроме, – весело щурясь, рассказывал Афанасьев, – такой же высоколобый. К Троянскому приехала мать, а к тому на том же пароходе – дочь, на свиданочку. Я её видел: нечеловеческой красоты, как весенним цветком рождённая…
Артём вздохнул: ну, быстрей же рассказывай, зачем мне этот Троянский вообще, и эта дочь из цветка.
– Через две недели, – размеренно продолжал Афанасьев, отчего-то уверенный в том, что Артёму это нужно услышать, – гражданин Эйхманис девушку к себе вызвал и говорит: “Выйдешь за меня замуж – отца немедленно отпускаю!” А отец только три месяца отсидел из пяти своих лет. Она тут же отвечает: “Выйду, согласна, только отпустите папашу!”
Артём вздрогнул и, не веря, вперился в Афанасьева. История эта, на первый взгляд, Артёма не касалась вовсе – но с другой, не до конца понятной стороны – ещё как касалась. И Афанасьев, сволочь, откуда-то знал об этом.
– Дальше что? – спросил Артём, поглядывая то на сходящую Галину и встречающего её Крапина, то на Афанасьева.
– И отпустил, – сказал Афанасьев.
– Врёшь, – сквозь зубы процедил Артём.
– Весь лагерь про это знает, – спокойно ответил Афанасьев. – Отец этой красавицы уехал вместе со Шлабуковским, на одном рейсе, а она – уже с Эйхманисом, вот на днях. И говорят, они уже поженились, прямо в Кеми, чтоб до Москвы не тянуть…
Артём пальцами надавил себе на виски, наскоро соображая, как бы отнестись к очередной обескураживающей вести с острова.
– Ох, Афанас, – почти застонал Артём. – У тебя, надеюсь, больше нет новостей? Союзники в монастырь не прилетели на дирижабле? Ленин не ожил? Тунгусский метеорит обратно не улетел на небо?
Афанасьев подумал и ответил:
– Нет, такого не было.
* * *
“Моё закружение. Моя тёплая. Милая моя, сердечная. Как ты нужна мне”, – повторял Артём целый день. Никогда и никому таких слов он не говорил.
Но и Гале не мог сказать. Крапин взял её в оборот и вообще не отпускал – один раз только отлучился на минуту, забежал в свою отдельную избушку, вернулся оттуда в начищенных сапогах и наодеколоненный.
Ему ужасно польстило, что он разгадал причины её приезда – видимо, Галя сразу, ещё на причале, шепнула Крапину про шубу. Улучив минутку, он насмешливым шёпотом похвалился Артёму: “Насквозь вижу – так и есть: приехала себе зимние наряды выбрать, стерва…”
“Эх ты, Пинкертон, – подумал Артём. – Столько жулья поймал, а одна баба тебя сбила с панталыку…”
Галя была в красиво повязанной косынке. Ей очень шло. От Гали, верно, исходил такой женский ток, настолько полна была эта женщина готовностью к человеческим горячим забавам, что и все остальные работники питомника – и лисий повар, он же снабженец – один из бывших содержателей подпольного притона, и матёрый советский казнокрад, зам Крапина по бумагам – он же заведовал радиосвязью с островом, которая, кстати, ни черта не работала, и водитель моторки, который Галю привёз, – совершенно уголовного вида, с двумя выбитыми зубами в хищной пасти, как она не боялась с ним ездить, и, собственно, грудь расправивший Крапин, – все заметно повеселели и стали словно подшофе.
Один Афанасьев держался поодаль, хотя на проходящую мимо юбку всё равно косил, изучал, как она сидит да на чём. “Танцы, что ли, объявили на вечер?” – сердился Артём, с неприязнью рассматривая мужиков.
“Никто не догадывается, – безо всякого удовольствия думал он, – что всё это… мне привезли… Так что утритесь!”
Он вспоминал, как Галя через голову, суматошно, почти с яростью снимает свою гимнастёрку – и открываются её белые, чистым мылом мытые, но всё равно чуть пахнущие по́том подмышки, и будто всплёскиваются – как свежайшая простокваша в огромных плошках – её груди, и своей жадной, цепкой, злой рукой она тянет Артёма к себе, и быстрыми движениями трогает его другой рукой по спине, по шее, по затылку, по бедру – даже не гладит, а словно бы обыскивает: где?.. где у тебя?.. где у тебя там было это?
…у Артёма начинало сводить сердце, он останавливался ненадолго, смотрел по сторонам, как прибитый солнечным ударом. Афанасьев тоже вставал и молча дожидался, иногда продолжая трепаться ни о чём, привычно пересыпая слова красивые со словами корявыми и любуясь получившейся картинкой, а иногда замолкая и Артёма разглядывая с ироничной нежностью.
“…как же, никто не догадывается, – поправлял Артём сам себя, – когда Афанас знает всё! Откуда он знает, собака такая?”
…и снова отвлекался на Крапина: Артём впервые в жизни испытал чувство ревности – вот ведь оно какое, и не знал за собой. Разве что зубами не скрипел, а так – и в жар бросало, и в холод, когда Галя ушла в домик Крапина попить чаю. Весь извёлся, когда Крапин повёл её в амбулаторию… там же эта лавка… кто знает эту сумасшедшую стерву?.. Впору было бежать по кустам к окошку и, как чайка клювом, стучать в стекло.
Весь день ходил сам не свой. Обедать не стал.
– Не будешь? – спросил Афанасьев, кивая на его миску с пшёнкой и рыбьим жареным хвостом. – И правильно, – и сам доел.
“Неужели она так и уедет ни с чем?” – повторял Артём, выходя на улицу, втягивая живот и с трудом глотая слюну.
К вечеру поднялся тяжёлый, сумрачный ветер, щиты, ограждающие остров, трещали, несколько повалилось. Их заново подняли, закрепили, от души промёрзнув, пока работали… лисы попрятались по квартирам…
Море подпрыгивало, словно заглядывая: а что там за щитами, есть ли что живое?
Водитель моторки сказал, что возвращаться опасно – можно перевернуться.
Галя дождалась, когда Крапин предложит остаться – а сделал он это немедленно – и, вроде как подумав, согласилась.
“Спасибо, Господи!” – воскликнул Артём, чуть не клацнув зубами на радостях – этот бешеный ветер: он бы обнял его, если б мог ухватить.
Посмотрел на Крапина и понял, что этот немолодой волчара думает то же самое, только без Господа – кого там, интересно, благодарят бывшие милиционеры?..
– То верное решение, разумное, – громко приговаривал он, ласково щурясь. – Оттого, что нынче у нас баня. Цените баньку? – и заглядывал Гале в глаза с таким видом, словно вопрос о том, кто будет её банщиком и как следует пропарит, был уже наполовину решён. – Мы и венички наделали загодя, – добавил Крапин; звучало это как: я давно тебя ждал, приготовился.
Артём подумывал – а не броситься ли Крапину на плечи, чтоб вывернуть эту его красную, плешивую башку на широкой, в борще проваренной шее.
Про баню Галя, как положено молодой воспитанной женщине, к тому же чекистке, ничего не сказала… но отправилась туда первая – не по деревенскому уставу, где бабы всегда ходили последними.
Ветер ещё не стих, но мужики всё равно сидели на крытом крылечке амбулатории, ровно напротив бани. Крапин вышел было покурить на улицу, но на таком ветру его самокрутку, как ни прятал в руке, выдуло за полминуты, и он вернулся назад.
Остальные по очереди оглядывали баню в надежде, что то ли Галя забудется и выйдет голой на крыльцо подышать, то ли вдруг обнаружится ранее не замеченная расщелина в стене, то ли целый угол баньки на ветру вдруг рассыплется… А что, разве такого не бывает?
Артём плюнул и пошёл на обход острова – может, опять щиты повалило.
Небо почернело, море варило свой свинец, холодно было по-настоящему – ветер на пустых пространствах будто пытался отобрать одежду: раздевайся догола, пацан, буду тебя рвать на части и по кускам рыбам бросать…
– Да пошёл бы ты ко всем своим солёным соловецким чертям! – вслух ругался Артём, еле шагая.
“Как же тут зимой выживают?” – впервые задумался он, отмахиваясь рукой.
Щиты стояли на месте, трепеща.
Возле причала вышел к морю: то всё больше впадало в буйную, чернеющую истерику. Поймал себя на лёгком страхе – что остался совсем один перед этой громадой. Стоял поодаль, зачарованный и застывающий.
…В пенящихся водах неожиданно увидел здоровое бревно. Через полминуты его легко выбросило на берег.
В бревне было сажени три.
Артём с опаской приблизился, поглядывая в море: кто его бросил – ведь он где-то там.
Бережно потрогал бревно рукою – как будто могло ожить, вскрикнуть.
Заметил на нём выбитую топором надпись. Уже уверенней счистил рукою налипшие водоросли и прочитал: “Спасите нас. Соловки”. Каждая “с” была острая, как наконечник стрелы.
Подумал немного и с неожиданным остервенением покатил бревно обратно к воде, как будто кто-то его мог приметить за этим чтением и надо было скорее избавиться от улики.
“Я не умею читать, – пришёптывал он. – Значит, это не мне…”
Столкнул бревно в воду и, не оглядываясь, быстро пошёл. Сначала чувствовал, что бревно, заново брошенное в море, может нагнать и ударить концом в спину… потом прошло.
Нет ни моря, ни ветра, ничего, а только маленькое окошко в бане.
Как было б хорошо, когда никого б тут, на Лисьем острове, не было, – мечтал Артём: и он один встречает Галю на берегу, и они сразу целуются в губы – ах, как прекрасно любимую женщину поцеловать в губы – разве что-то может быть лучше на свете?
Поцелуй был бы сначала солёный от моря, потом чуть пресный от долгого ожидания, и затем сразу сладкий, и сладкий, и снова сладкий от счастья.
…В баню Артём ввалился готовый к жару и порке соловецкими вениками безо всякого снисхождения.
Там уже грелись мужики.
Крапина Галя так и не позвала, поэтому он попытался сорвать душу на лисьем поваре – тот вскоре заголосил, сбежал остужаться. Казнокрад минуту-другую крепился, но, когда разозлённый его стойкостью Крапин щедро плеснул на каменку и повёл веники по новому пылающему кругу, тот тоже, выпучив глаза, поспешил в сторону кадки с холодной водой, куда сразу уронил голову в надежде, что не даст довариться вкрутую мозгам…
И только Афанасьев вытерпел пытку – он, догоняя свой чуб, порыжел всем телом, но даже не вскрикивал, терпел, закусив руку и зажмурившись…
Пошатываясь и хватаясь за почерневшие стены, вышел голый прямо на улицу.
– Куда ты, там же эта… баба, – попытался остановить его лисий повар, но Афанасьев ничего не слышал.
На Артёма у Крапина сил уже не хватило.
Артём забрался на верхний, усыпанный берёзовыми листьями полок и запропал в своём блаженстве, вытянув ноги, накрыв голову руками, выдыхая так, словно бы плыл в кипячёной реке… вдруг поймал себя на мысли, что он всё равно счастлив – в этой соловецкой дали, в несвободе, окружённый людской болью, на маленьком, пропахшем лисами островке, неподалёку от сумасшедшей женщины, которую полюбил – ведь полюбил же?.. – а она лежала здесь, сейчас, на этой лавке, голая… найти бы хоть каплю, с неё скатившуюся…
Счастлив даже от Афанасьева, который пришёл с улицы, нахлёстанный теперь уже ветром, завалился в парилку и холодной, мокрой рукой стукнул Артёма по ляжке:
– Ну-ка, подвинься!
Артём перевернулся на спину, потом уселся, свесив ноги, время от времени растирая правой рукой пот и грязь по груди и слушая уверенное биение своего сердца.
Афанасьев поддал.
Каменка зашипела, что твой Змей Горыныч, пойманный на цепь и мучимый людьми, которых он, дай ему волю, поприжарил бы. Дыханье этого Змея было пряное, ароматное, потому что кормили его с тех пор, как забрали в плен, только травкой да корой.
Ожгло затылок, Артём чуть пригнулся, перетерпел и через краткое время почувствовал, как сердце побежало быстрей, словно пробивая себе путь наружу из грудной клетки. Пот полил в новые четыре ручья, и счастье стало гуще и горячей.
– Душа спеклась, как картошка-пеклёнка, – сипло сказал Афанасьев. – С такой душой жить проще будет теперь…
* * *
Вечер получился вовсе удивительным.
Ужин повар накрыл в административной избе, за большим столом – наверное, Крапин велел, да и можно было это понять: не к себе же ему звать Галину ужинать? А одну отправлять в пустую избу пить чай – тоже как-то негостеприимно.
Вина на столе не было – Крапин, кажется, и не пил, и другим бы не дал, – но после бани все были в славном, отмытом состоянии духа, улыбчивые, добрые.
Артём зашёл, когда друзья-товарищи уже собрались, и Галя сидела непривычно улыбчивая, а лисий повар суетился возле неё с пирогами – и с яблоком, и с капустой, и с рыбой, и один даже с сыром – ошалеть и только.
“А это мой дом, – вдруг представил Артём. – И она – моя жена. Я могу не ревновать её ни к кому и не болеть об этом, потому что, когда все напьются чаю и наговорятся, она останется со мной, и всю ночь я буду дышать её тёплым затылком…”
“…Неужели так бывает?” – спросил.
“…Бывает – и будет, – ответил. – Только черничного чая из соловецкой ягоды больше никогда не буду пить”.
И отодвинул пустую кружку.
И как-то по-новому вгляделся в беспечно говорящего Крапина, у которого даже глаза просветлели и стали ясней.
– …А позавчера, – хрипло засмеялся, а следом закашлялся, но тоже как-то весело, продолжая им самим начатый разговор. – Пошёл с удочкой рыбку половить себе на жарочку. Со мной – Фура, лису так зовут, – пояснил Крапин специально для Гали. – Вытаскиваю первую. Фура крутится рядом: угощай. “Нет, – говорю, – ты отобедала уже”. Она потявкала, но я дальше ловлю, не о чем нам с ней разговаривать. Хоп, вторая. Фура опять за своё. Мой ответ прежний. Она говорит: ах, так! – хвать мой кисет и побежала до кустов. Я удочку оставил, и за ней. Погоняла она меня, кисет сбросила в кустах – и пошла по своим делам. Благо видел, где уронила кисет, – нашёл скоро. Самокруточку сделал, иду обратно, посмеиваюсь. Вернулся на берег – а она, ты подумай, мой улов сожрала. Заранее знала, пока кисет несла, что вернётся и отомстит мне! И ведь что характерно: легла поближе – полюбоваться, как я буду топотать от бешенства. Но расстояние выбрала такое, чтоб, если я вздумал камнем в неё бросить – была возможность убежать… А? – И Крапин снова посмотрел на Галю: – Такой финт и человек не догадается выкинуть!
Он рассказал ещё дюжину историй про лисий характер, повар подыгрывал и вставлял иной раз меткое словцо, Артём вдруг разглядел в его маслянистых глазках отсветы прежней, нэпманской, в московских злачных местах, жизни; бумажный зам разговаривать не умел, однако общей милейшей картины не портил. Было по-настоящему забавно слушать Крапина, Галя смеялась в меру, будто соблюдая чин, даже баней и послебанным чаем не отогретый, – но всё равно от души, зато Афанасьев заливался до слёз и, кажется, проникся к гражданину бывшему милиционеру нежнейшими чувствами – он и не ожидал от Крапина такой наблюдательности и доброты. А кто зверя видит и знает – тот неизбежно мудрый и в человечьих делах человек.
Пироги доели, посуду прибрали – Галя, конечно, к пустым чашкам и не притронулась, и не разрешила Крапину подать ей кожаную чекистскую тужурку: сама, спасибо.
Спать Галю определили в домик Артёма – где он раньше ночевал с тем лагерником, которого покусали, а теперь вот делил крышу с Афанасьевым. У снабженца нашлись чистые простыни и наволочки для гостьи.
Водитель моторной лодки лёг в бане. Крапин в своей избушке, где, на правах старшего, проживал один.
Что до Артёма и Афанасьева – то их Крапин отправил в третий жилой домик на острове, где обитали его заместитель по всяческой отчётности и повар, он же снабженец.
В этом домике был чердак, запылённый, но для разового сна пригодный.
Насмеявшийся и пирогов наевшийся Афанасьев сразу завалился и засопел.
Артём изо всех сил старался не шевелиться и всё прислушивался, как там внизу. С чердака можно было бы спуститься через избу, а можно и по лестнице через чердачное окно. Но он всё равно хотел дождаться, когда всё успокоится, чтоб не волноваться за возможный шум, который неизбежно случится. Повар, как у поваров водится, захрапел сразу, а бумажный зам жёг лампу целый час – что-то, вдохновленный приездом Галины, рисовал там, чертил таблицы и считал лисьи хвосты.
Наконец и этот затих, потушив лампу.
С тяжестью в груди – словно лежал под мешком с мукой – Артём выждал ещё какое-то время, пытаясь читать про себя стихи – но бросил на полпути, не добравшись после первых строк ни до палача с палачихой, ни до чёрта, хрипящего у качелей, ни до кроличьих глаз, ни до балующего под лесами любопытного…
…Надеялся, что прошло полчаса с лишним, но скорее ограничилось всё пятнадцатью тягучими минутами.
Стараясь не шуметь, Артём поднялся и двинулся к чердачному окну… естественно, полы заскрипели так, что дом, казалось, сейчас развалится… Артём замер и решил сделать два твёрдых шага, так в итоге тише получится – и тут же влетел лбом в балку – едва не заорал от боли… присел и минуту любовался на золотые россыпи в глазах… трогал лоб, облизывал руку – был уверен, что раскроил полголовы и всё уже в крови… но нет, рука была сухая…
Толкнул окно с чердака – оно истошно прорыдало в темноту – хорошо ещё, дождь сыпал понемногу – его лёгкий перестук и перехлип хоть что-то скрывал.
А может, и не очень…
Из окна повеяло не осенним холодком.
Плюнул на всё: “А если мне по нужде надо – чего, я обязан красться, что ли?” И решительно слез вниз, едва ли не нарочно громыхая.
Пока спускался по лестнице, лицо запрокидывал, чтоб на битый лоб попадали капли – дождь был почти белого цвета – но в месте ушиба ничего не чувствовалось, словно влага испарялась на подлёте.
Ступив на землю, почувствовал себя, как сбежавший из клетки зверь – воля, и нет больше ничего.
Не оглядываясь, поспешил к избе, где ночевала Галя.
Она тут же, едва стукнул пальцем, выглянула в окно.
“Не спала!” – ёкнуло в сердце.
– Крапина не видел? – спросила она, улыбаясь; голос был хорошо слышен через стекло. – Приходил час назад, просился с отчётом.
– И что ты сказала? – спросил Артём, стоя у окна и словно бы не торопясь в дом.
– Что-что… Спросила, не хочет ли на Секирку – там и отчитается по всем вопросам.
* * *
…Такой ужас творила: всё просила трогать, и царапать, и мять, и сама царапала, и стыда не знала ни в чём, словно никогда не встречала человека с другой анатомией и хотела запомнить её навсегда, в самых немыслимых подробностях…
Она впервые была с ним совсем-совсем голая: он совершенно одурел от этого.
“Как же так, – думал после Артём, без печали, но лишь в трепетном и благодарном удивлении, – в телесном общении женщина поначалу приникает куда ближе, чем в душевном. И проникается телесным куда раньше, чем душевным. Разве не должно быть наоборот?”
“А как бы здесь было наоборот, – посмеялся над собой Артём. – Ты бы месяца три подряд под руку водил её гулять к морю?”
Возможность сделать наоборот отсутствовала. Чтобы узнать друг друга, пришлось раздеться донага.
Лиса снова перебегала по крыше, часто меняя место – подобного шума и барахтанья она ещё не слышала.
– Кто это? – запоздало приметила лисьи шаги Галя: до этого слышала только то, что происходит у неё внутри.
– Да лиса это, лиса.
– А почему она на крыше?
– Там тепло.
– …Да, Крапин натопил… – и сбросила одеяло с себя.
Лежала – тихо, как святая. Только чуть смешливая – и в глаза старалась не смотреть. А святые смотрят ведь – и всегда в глаза.
Артём привстал на локте и погладил её по животу.
Кроткая моя. Услада моя.
Она улыбнулась – губы чуть слиплись, и наконец глянула на него, чуть щурясь в темноте, словно была близорукой – и Артём ощутил такую ужасную нежность к этим глазам и к этим губам, такую боль, такую жизнь внутри.
Она знала, о чём он думал.
– Когда ты снимаешь с меня одежду, я как будто выхожу из моря, я очищаюсь, – сказала Галя. – Мне не стыдно. Я сейчас такая чистая, какой никогда не бывала.
– Да, – сказал Артём: не о том, что он согласен, а о том, что слышит её.
Потом подумал и наклонился к самому её лицу, и на ухо прошептал – потому что вслух такое стыдно было бы сказать:
– Не-вы-но-си-мое… счастье… хотя я внутри… тебя… – и дальше скороговоркой, – только одной малой частью себя… – потом помолчал и закончил: – А если б было такое возможно, чтоб внутри тебя – быть всему? Всей своей кровью через тебя течь, всем… Там же рай!
– …Глупость, глупость, глупость… – подумав, словно прислушавшись к температуре внутри, ответила Галя, слегка хмурясь, но совсем по-доброму. – Там не рай. Там такая температура, что только я могу её выдержать…
Артём бесшумно засмеялся и подышал ей чуть выше груди, ртом приникая почти к самой коже – так в детстве он дышал на окно, пытаясь разглядеть улицу, извозчика, тумбу с афишами на углу.
– Почему ты спрашивала тогда про Есенина? – вдруг вспомнил он тот день, когда Галя его вызвала и напугала.
– Люблю, – просто ответила Галя. – Ещё Уткина, Мариенгофа, Луговского… Тихонова.
– Правда? – переспросил Артём.
– А почему нет? – сказала она с некоторой, едва ощутимой обидой. – А что ещё можно любить?
Он смотрел на неё удивлённо и радостно, словно всякий раз снимал с неё не одну и ту же одежду, а новую, потом – вроде бы и так с голой – ещё одну, – а следом – опять с голой – какой-то третий незримый покров – и везде оказывалась снова она, только ещё лучше.
Галя нашла свою гимнастёрку и попросила его отвернуться.
Он послушался, а сам думал: “Только что лежала без всего и отворачиваться не просила, а начала одеваться и – «отвернись!». Смешная”.
Теперь Галя сидела в гимнастёрке – и больше без всего, и это ей отлично шло.
Но, поискав глазами и ничего возле себя не найдя, она по пояс укрылась одеялом – видимо, что-то такое собиралась сказать, о чём раздетой говорить не пристало.
– У меня для тебя очень хорошая весть, – сказала Галя торжественно и совсем незнакомым голосом, не женским, задыхающимся и всхлипывающим, не начальственным, невыносимым и стылым, а каким-то третьим, – …к тебе мама приехала. Она писала прошение на свидание – и я дала ей. – Галя заглянула Артёму в глаза.
Артём моргнул и отвернулся.
– И она сразу приехала, – повторила Галя; и, не дождавшись ответа, спросила: – Ты что?
– Да, хорошо, – сказал он, но ложь его была слишком слышна, тем более что внутренне, с тоской и неприязнью, Артём повторял: “…Зачем это всё? Чего ж ты делаешь всё время, Галя! А я ещё не спросил с тебя за Авдея Сивцева и Захара – едва дорвался до твоих белых сисек – скот я, скот!..”
– Ты что? – уже в другой интонации, куда громче, пытала его Галя. – Не хочешь мать видеть? – Артём поднял глаза и смолчал. – Я нарочно взяла лодку и поехала за тобой – чтоб тебе сделать… радость! Тебя мать ждёт! А ты не хочешь ехать? – словно никак не умея поверить в происходящее, всё переспрашивала она, но вместо ответа Артём погладил свою щёку, щека его была щетинистой, жёсткой, зато горячей, нацелованной. – Ты что, урод? – с бессильной злостью спросила Галя, и даже руки её – готовые мгновение назад ударить его по щеке – словно ослабли.
Вопросы её звучали так, будто он ей – Гале – а не матери отказывал в свидании. Будто она что-то узнала про него, напрочь отрицающее возможность их близости – какое право после такого своего поведения он имеет на то, чтоб видеть её и дышать в самую кожу?
“Сейчас всё опять плохо закончится… – понял Артём. – Почему ж у меня всякий раз всё так плохо заканчивается… Только порадуюсь, что всё хорошо, – и сразу всё плохо”.
– Я поеду-поеду, – сказал он торопливо, хотя смутно понимал, что ехать никуда не надо, кто-то ему подсказывал, что делать этого нельзя, но он подсказки не услышал и ещё раз повторил: – Поеду-поеду-поеду. Я просто удивился очень. Я не ждал совсем. Как ты не понимаешь – это же удивление. Я здесь – и вдруг мать. – Артём заговаривал Галю, и даже сам начинал верить в свою скороговорку: а как же ему было не удивиться, но теперь он всё осознал, и благодарен ей – свидания позволяют далеко не всем, а она взяла и придумала ему праздник – хорошая, хорошая, хорошая Галя, добрая и ласковая, надо сделать всё, чтоб её не огорчить.
Она сначала совсем не верила ему, потом поверила немного, самую малость, потом ещё сдалась и поверила чуть больше, а после даже дала себя поцеловать, нехотя, полуотвернувшись… но следующий поцелуй уже выпал в самые губы, и губы раскрылись, и рот был уставший, но горячий… Артём скинул это надоевшее уже одеяло и обнаружил, что и у неё всё горячее и плывущее – лишь одни глаза застыли, но мы эти глаза зацелуем сейчас, зацелуем и отогреем, только одеяло… одеяло совсем не нужно, даже на ногах.
* * *
Пока был у Гали – нежданный, выпал снег, – видимо, падал непрестанно, пока они там царапались, – не пышный, но ровным, хрупким слоем.
Выпал и пошёл себе дальше, на большой остров.
Всё вокруг было новое, ни разу не виданное.
“А что, неплохо, – решил Артём, полюбовавшись. – Звёзды сверху, снег внизу”.
“Хорошо!” – повторил он, решив оставить мысли о матери до завтра, и поспешил к себе.
Через полтора десятка шагов оглянулся в надежде: может, Галя смотрит на него – и тут же в ужасе ёкнуло сердце: его отчётливые следы вели прямо от избы, и он стоял на конце своего пути, как восклицательный знак.
– Чёрт. Чёрт меня задери! – вслух выругался Артём.
Сметая ногами натоптанное, вернулся обратно.
Позади осталась чёрная растрёпанная полоса, ведущая к избе. Как будто Артём пролетал мимо на помеле, соскочил возле дома и остаток пути добирался ползком: прими холопа, боярыня, отогрей в своих юбках.
“Что, что делают в таких случаях? – размышлял Артём, пьяный от своей несусветной радости и юности, ещё уверенный, что сейчас придумает, как быть. – Может, запутать следы? Допустим, я пойду спиной назад…”
Артём попробовал – получилось ещё хуже – как будто он пришёл к Гале – и обратно решил не возвращаться.
“Выйдет утром Крапин, он тёртый милиционер – сразу по ботинкам определит, кто у Гали ночевал. Спросит: «Чего твои следы там делают?». «Откуда я знаю? – отвечу. – Вон, может, Афанасьев в моих ботинках гулял…»”
“А точно! – обрадовался Артём. – Он же крепко спит, натяну ему свои ботинки. Вот тебе, Афанас, месть за святцы!..”
“А как же Галя? Галя оказывается под подозрением, что к ней ночами ходят рыжие поэты”.
Попробовал снова пойти, как все люди ходят, лицом вперёд – получалась прежняя картина: неведомо как он оказался у Гали и оттуда ушёл на чердак. Весь питомник утром будет наблюдать этот путь.
“Может, увести следы к морю? – размышлял Артём. – Все подумают, что я утонул. А я – раз! – и лежу себе, сплю. «А в чём дело?» – спрошу удивлённо, когда утром на чердаке объявится крапинская огромная башка. «А ты почему не в море?» – спросит Крапин, у которого его милицейские концы не сойдутся с концами. «А почему я должен быть в море, что я, пароход “Глеб Бокий”?»”
…Нет, так тоже не годилось.
Артём схватил стоявшие возле порога грабли и пошёл понемногу в сторону своего чердака, тут же за собой сгребая снег.
Получилась вообще несусветная ерунда. Везде снег как снег – лежит, не шелохнётся, – а возле домика, где спала Галя, – как на тракторе прокатились.
“…Вот пусть разбираются, кто к ней на тракторе ночью приезжал…” – пытался себя развеселить Артём, но становилось уже не смешно. Трактор всё равно имел путь ровно от лестницы с чердака до её избы.
“Может, на всём острове снег разгрести? – прикинул он. – Как раз до утра забот… Или хотя бы возле Галиного дома. Выйдет Крапин, скажет: вот чудо, на весь остров снег выпал, а этот дом как куполом накрыли… Может, в Бога уверует наш милиционер…”
…Деваться было некуда – Артём решил переворошить граблями как можно больше снега и возвращаться кривыми, через амбулаторию, путями – главное, чтоб никто не появился, а то придётся объясняться: да вот, мол, решил прибраться, а то снег везде – неопрятно.
Привлечённые суетой, к Артёму сбежались три вечно голодные кошки, пёс – в надежде, что с ним собрались поиграть, вот и грабли для этого взяли, заодно и Фура слезла с крыши, облизывая с лап снежок… Артём стоял посреди зверья как молодой, пути попутавший, Дед Мороз. Попробовал пугнуть – не тут-то было, пёс, например, только развеселился и стал подлаивать, кошки не теряли веры в то, что Артём достанет рыбку из кармана, а Фура вообще ничего не боялась и только с тайной мыслью посматривала на кошек – а то всё рыбка да рыбка…
Раздался звук открывающегося окна, и, ошарашенная, выглянула Галя в гимнастёрке.
Артём поднял грабли и поприветствовал её, попытавшись улыбнуться. Надо было что-то сказать, но что?
– Ты что, рехнулся? – спросила она в бешенстве, глядя на зверьё и своего любезного посреди. – Ты что тут делаешь с граблями?
Ответить было нечего.
* * *
К утру весь снег размело: точно вчера сорок вёдер снега доставили на заблудившейся штормовой туче, а сегодня и след его растаял.
Никто ничего не заметил. Отпечатки кошачьих и собачьих лап в леденеющей грязи, вот и всё.
Только ель возле амбулатории стояла, как дура, в неподтаявшем грязно-белом чепчике и затасканном фартучке.
– Надо ехать, а то вдруг опять шторм, – сказала Галя Крапину.
Они встретились на пятачке меж амбулаторией, баней и административной избой.
Артём с Афанасьевым сидели на крытом крылечке амбулатории. Афанасьев был молчалив и напряжён. Он очень ждал от Артёма разрешения своей просьбы.
– Конечно, – ответил Крапин Галине.
Похоже, ему было неудобно за вчерашнее – он и сам не мог понять, как такое могло ему в голову прийти: с отчётом… ночью… А всё объяснялось просто: сегодня от этой женщины не исходил вчерашний дурманящий ток.

Но чёрная её маленькая голова на фоне мутного неба тревожила Артёма.
– К Горяинову прибыла мать на свидание, он уедет на моей лодке, – сказала Галина.
Крапин улыбнулся и махнул рукой Артёму:
– Слышал?
Артём поднялся и чуть натянуто улыбнулся в ответ:
– Так точно!
– Что ж ты молчал! – крикнул Крапин; они вообще разговаривали громче, чем надо, – и так всё было слышно. – Вези посылку сюда, не съешь по пути!
Артём кивнул, на этот раз не потрудившись улыбнуться.
Собирать ему было нечего – он надеялся скоро вернуться – а что там делать, на большом острове, лучше здесь свою Галю поджидать. Взял только пропуск на проход через Никольские ворота и надел шерстяные носки, а то ноги мёрзли.
Его комната была прибрана женской рукой – в чём это выражалось, он даже не понял, но на сердце потеплело. На бегу, уже выходя, Артём схватил подушку и принюхался: пахнет! пахнет её волосами! – и сначала бросил подушку обратно на лежанку, но потом вернулся и перепрятал под одеяло: может, сохранит запах.
– Ну, бывайте, вашу отчётность я Ногтеву передам, – сухо сказала Галя взявшемуся её проводить Крапину; Артём догадался, что ей не хотелось никаких проводов – к чему эти сантименты…
Крапин и сам тяготился происходящим, посему взял под козырёк, развернулся и поспешил в сторону питомника. Навстречу ему бежала ласковая до подобострастия Фура.
“Хорошо, что она разговаривать не умеет, – порадовался Артём. – А то б растрепала сейчас…”
До причала они шли молча, Артём держался чуть позади.
Рулевой уже сидел в лодке.
Наконец Галя, не оглядываясь, в строгости своей скрыв явное удовольствие, сказала:
– Иди вперёд. Ты меня разглядываешь.
Артём, усмехнувшись, обогнал её и быстро обернулся, чтоб заглянуть в Галино лицо. Заодно и Афанасьева увидел. Тот брёл поодаль, без шапки, расстёгнутый, не решающийся окликнуть – как брошенная собака.
До причала оставалось два десятка шагов. Уже на мостках Артём встал спиной к морю и как ни в чём не бывало сказал так громко, чтоб его товарищ, почувствовавший что-то и прибавивший ходу, услышал:
– Афанасьева надо захватить! – и указал Галине рукой: вот этого. – Гражданин Крапин послал его за лекарствами в монастырь.
– Бумаги при тебе? – спросила Галина, оглядывая расхристанного Афанасьева с ног до головы, но минуя его заискивающий взгляд.
Афанасьев, улыбаясь во всё лицо, хлопнул себя по карману: вот!
Ничего не сказав, со своей привычной отстранённой миной, Галя уселась вперёд.
Никакой бумаги у Афанасьева, конечно же, не было.
Когда уже тронулись, мотор взревел, на берег выбежал Крапин, замахал руками, но видел его только Артём, сидевший лицом к берегу, да и тот сразу отвернулся.
На берегу снова лежало вчерашнее бревно, в ожидании человека, обученного грамоте.
…Плыли недолго, но Артём успел промёрзнуть до посинения.
Галя так ни разу и не посмотрела на Артёма, всё мимо.
“Неужели ж так и сердится… за мать? – гадал Артём, подрагивая. – Да нет… Просто не хочет, чтоб Афанасьев заметил… Проклятый берег, когда ж он настанет”.
Кремль появился в тумане, как угроза.
На причале Галина, ни с кем не прощаясь, молча ушла, будто и в моторке была одна; если и лежало там что – то какие-то тюки с грязным барахлом, пусть другие с ними разбираются.
Артём всё понимал, конечно, но всё равно поёжился – от набранного в пути холода, от нелепой своей обиды.
“Страсть делает человека мнительным”, – впервые в жизни сформулировал он мысль не взятую с потолка, а оплаченную хоть малым, но опытом.
По дороге к Никольским воротам Афанасьев тронул его за плечо и остановил, встав на пути.
– Ты меня взял, я тебе должен, Тёма, – сказал он.
Артём пальцев ног не чувствовал совсем. Вот бы во вчерашнюю баню опять забраться.
– Ерунда, – с трудом разжимая губы, сказал Артём, поглядывая на красноармейцев, топчущихся на посту – ботинки у них были ещё летние. И махнул головой: пошли скорей, Афанас.
Тот сморщился: погоди, слушай, это важно.
– Тёма, тебе надо знать, – сказал Афанасьев, глядя в сторону. – Когда меня сюда направили… Бурцев велел мне ненавязчиво попытать тебя насчёт Галины. А если она приедет на Лисий остров – а Бурцев откуда-то знал, что Галина приедет, – он приказал мне присмотреть за вами.
Артёма слегка качнуло – и сразу, будто его перевернули ногами вверх, а потом резко поставили на землю, закружилась голова.
– Присмотрел? – спросил он и вдруг понял, что Афанасьев вчера не спал, а нарочно сразу умолк и отвернулся, чтобы дать Артёму уйти.
– Он всё знает про вас, Тёма, – сказал Афанасьев, продолжая смотреть в сторону. – Вам бы надо поостеречься. Особенно тебе. Её разве что погонят отсюда, а тебе ещё лет пять накинут и сразу усадят в такой карцер, что… убьют ведь, Тёма.
– Не твоё собачье дело, рыжий, – сказал Артём и сжал сизые челюсти до боли в дёснах.
– Не моё, – согласился он без обиды.
Артём, чуть подтолкнув его плечом, пошёл к Никольским деревянной походкой.
Афанасьев тут же тронулся следом, бубня негромко, внятно, но словно без знаков препинания:
– Оказался бы ты на воле – и не взглянул бы на неё. Она ж самая обычная. Она красивая, потому что – власть. Была бы вагоновожатой – отвернулся бы и забыл. Остерегись, Тём.
Артём резко оглянулся, но Афанасьев, сразу обо всём догадавшись, резво сделал два шага назад, хоть и без страха в глазах:
– Я знаю, знаю – ты можешь. Видел. Не надо, брат. Я же тебя люблю.
– Любишь? – с нежданным хрипом переспросил Артём – как старый бинт с коркой оторвал. – Святцы ты мне подбросил, псина?
Афанасьев сморщился, словно у него на миг прихватило где-то под рёбрами, и не ответил.
– Вот и пошёл тогда на… – велел Артём.
В соловецком дворе, век бы его не видеть, вроде как случились изменения, но пока непонятные.
Да, чаек осталось совсем немного, и крик их был куда слабей. Да, подмели и прибрались – к приезду нового начлагеря. И праздношатающихся лагерников стало куда меньше, словно всем нашли работу.
Блэк был всё такой же и Артёма признал, а Мишка немного похудел и вроде бы замёрз.
Возле входа в ИСО стоял красноармеец из полка надзора, и рядом с ним Бурцев, рукой, будто сведённой судорогой, державший красноармейца за подбородок.
– Что у тебя за щетина, свинья? – повторял Бурцев. – Что за щетина? А, свинья? Может, ты служишь конкистадором?
Артём поспешил забежать в свой прежний корпус, поймав себя на том, что ему одновременно явились сразу две мысли: “Афанасьев был прав, этот хлыщ набрал большой власти – так отчитывать надзорных!..” – и: “…красноармеец наверняка убеждён, что «конкистадор» – это немецкая матерная брань…”
Было так холодно, что Артём забыл всё, о чём думал, ещё когда бежал по ступеням: главное, согреться, главное, согреться, а то заболеет, уже, кажется, заболел.
В его бывшей келье – о, чудо, – было натоплено почти как в бане, вымыто, радостно.
Мать Троянского недоумённо посмотрела на сына, его ответного взгляда или жеста Артём не заметил, потому что на ходу скинул ледяные ботинки и сразу рухнул на койку, лицом вниз.
– Вообще это кровать моей матери, – взбешённо сказал Троянский.
“Ударь меня подушкой по спине, мушкетёр”, – подумал Артём блаженно.
Он вдруг вспомнил, как дал Троянскому полтора месяца назад по губам – несильно, но с оттягом, так что у того чуть шея не надломилась.
Впрочем, судя по речи Осипа, рот его поджил.
– Мы всё равно уезжаем, Осип, – сказала мать негромко.
Артём почувствовал, что о нём говорят как о пьяном и нездоровом человеке.
“Куда это они уезжают? – подумал Артём. – Неужели его действительно отпускают в бесконвойную командировку?..”
– Ой, – неожиданно вскрикнул Осип.
Артём чуть напрягся, но оборачиваться всё равно не стал.
– Что там? – раздался голос матери.
– Булавка, – ответил Осип некоторое время спустя. – В кармане была.
– Ты так и не дал мне постирать свои брюки, Осип, – сказала мать с укоризной. – Откуда у тебя булавка в кармане, зачем?
– Это я ему купил, – сказал Артём, непрестанно пошевеливая оттаивающими пальцами ног и сладостно вдыхая запах чистого, не далее как вчера стиранного белья.
По молчанию Артём удивительным образом догадался, что и мать, и сын смотрят на его пошевеливающиеся пальцы в сырых носках. Осип с брезгливой неприязнью, его мать – с машинальным желанием снять носки и подсушить над печкой.
“Кажется, я научился видеть затылком”, – усмехнулся Артём.
Хорошо лежать лицом в подушку – можно даже язык людям показывать, а те ничего не увидят.
Через минуту Троянские ушли. Кажется, Осип направился попрощаться со своими коллегами в Йодпроме, а матери всегда найдут себе женские дела.
Артём повернул голову, скосил глаза и увидел огромный чемодан и холстинную котомку: а ведь и правда уезжают! Что творится…
…Никогда б потом не смог Артём расшифровать, как у него родилась эта простейшая и вместе с тем чудовищная мысль, что буквально подбросила его на кровати.
Наверное, началось с того, что он осознал факт отъезда Троянских, потом подумал, что сам остаётся, да и чёрт бы с Троянскими, а он и тут переждёт, следом вспомнил, что рыжая питерская сволочь готовится к побегу, и чёрт бы и с ним тоже, но тут же явственно увидел Бурцева, отчитывающего красноармейца, и выплыли слова Афанасьева про то, что при побеге будет захвачен оружейный склад… они же перебьют всех чекистов! – пронзило Артёма, – и наконец, самое главное: они же Галю застрелят! Галю застрелят наверняка! Все чекисты из ИСО живут в одном здании – в бывшей Петроградской гостинице за Управлением! Туда придут ночью и всех перестреляют!
Все эти размышления вместились в один миг, меньше, чем в миг – Артём успел ещё представить, как Галя на шум и выстрелы открывает свою дверь – она, наверное, привыкла к пьяным чекистским дебошам, но тут это форменное быдло разошлось особенно сильно, – и, впопыхах накинув на полуголое тело шинель, делает шаг в общий коридор, злая и невыспавшаяся, поворачивается на топот и шум, и её тут же бьют штыком в живот, потому что ошалевший, забрызганный кровью лагерник не успел перезарядить винтовку – а Галя не успела даже рассмотреть его лицо.
Артём схватил себя за голову, чтоб она не лопнула.
– Идио-от! – пропел он. – Идиот! Какой ты идиот! Твоя привычка ни о чём не думать и жить по течению – убьёт тебя! И ладно бы тебя – она убьёт её!
Что-то надо было делать. Это тебе не снег граблями разгрести. Вчерашние страхи показались дурацкими, детскими… Какие следы на снегу, когда затевается такое! Такое – что? Злодеяние? Но Артём не считал это злодеянием – он ни минуты не сомневался в том, что лагерники имеют право сбежать – их тут убивают – они бегут прочь, чтоб попытаться пожить – кто им запретит?
Но – Галя? Как же быть с Галей? Она же наверняка сделала тут много кому зла – её точно захотят убить. Те, кого она сделала сексотами, – они захотят. Те, кого она отдала своему… как его?.. Ткачуку, который выбивает зубы? Могло такое быть? Или она наврала Артёму про это?
Да какая разница – её всё равно застрелят, зарежут, заколют, затопчут.
“Как поступить? – в лихорадке думал Артём. – Сказать Гале, что затевается побег? Чтоб всех арестовали и расстреляли? Ужас. Это просто ужас. Об этом даже думать нельзя”.
Сказать Гале, что им нужно срочно вернуться на Лисий остров? И что, она послушает?
Сказать Афанасьеву, чтоб не смели убивать Галю?
– Ха! Ха! Ха! – вслух, отчего-то вспомнив Шлабуковского, ответил себе Артём.
Бурцева убить? Позвать его к себе в келью и задушить?
Бред, бред, бред, что за бред.
В дверь постучали, и она тут же отворилась. На пороге стояла мать Троянского.
– Извините, конечно, не моё дело, но к вам приехала мама, – сказала она. – Её сюда, в монастырь, не пускают, только мне Фёдор Иванович дал пропуск. А вы можете получить в Информационно-следственном отделе пропуск на выход к матери. Всех, приехавших на свидание, селят в бараке неподалёку от монастыря. Можно даже получить разрешение на то, чтоб переночевать с роднёй. У них там отдельные комнаты.
Артём несколько раз кивнул головой: хорошо, хорошо, хорошо. Понял, понял, понял. Хорошо-хорошо-хорошо.
Дверь закрылась.
“Ещё мать, ещё мать, ещё мать”, – подумал Артём, изо всех сил сжимая башку.
* * *
Когда объявили вечернюю поверку, он хотел затаиться и не идти, но явился незнакомый дневальный, наорал матом, даже порывался ударить. Артём смотрел на него чуть удивлённо: совсем, что ли, с ума сошёл?
“Сейчас поломаю его на части и засуну в ящик для съестных припасов”, – прикинул устало, ленивым движением уклоняясь от руки замахнувшегося дневального.
Про Галю Артём ничего не придумал – да и как бы он с ней поговорил: пойти в ИСО и приказать: “Позовите мне Галину”? Ему бы там точно дали в зубы.
К матери он тоже не пошёл; впрочем, он сразу знал, что их встреча не случится.
Построение было общим, для всех рот.
Лагерники томились. Благо, снова чуть затеплело, и вчерашний снег позабылся, как некстати приснившийся.
Над головами летали молодые чайки. Редкие старые чайки, которые должны были их сегодня-завтра увести на юга, подальше от сошедшей в этом году с ума соловецкой природы, ходили по двору и не тратили сил.
Артём никого толком не знал из той роты, в строю которой стоял, заняв наугад место во втором ряду.
…Да и в остальные роты вглядываясь, тоже видел много новых лиц – наверное, нагнали за то время, пока он был на Лисьем острове.
Попробовал найти в двенадцатой роте Василия Петровича, но сразу наткнулся на Ксиву – и Ксива тоже его видел, скалился…
Артём отвернулся.
“Зачем Галя меня вытащила сюда? Что мне делать тут?” – ещё раз спросил он себя, но совсем слабо, будто осипшим, севшим голосом и заранее зная, что ответа не будет.
Кто-то пытался разговаривать, тут же прибегали то отделенные, то взводные, взлетали дрыны – били от души, злобно, стараясь.
“Порядки стали построже”, – понял Артём: он видел всё это как бы со стороны и никак не мог поверить, что он такой же, как все остальные лагерники. Нет, он оказался здесь случайно, и место его на маленьком острове, с Фурой на крыше, с Крапиным и с лисьим поваром из притона… “Надо же, – часто вспоминал Артём, – Крапина посадили за то, что он целый притон перестрелял, а теперь вот… с таким же делягой живёт бок о бок”.
Артём вздрогнул, снова вспомнив, где он, и посмотрел в сторону Никольских ворот, до которых было так недалеко – минута. И езжай себе в свою избушку, только б лодку раздобыть.
Один раз вдоль строя прошёл Бурцев, надменный и ни на кого не смотрящий.
Галины не было.
Простояли они уже целый час. Многие пытались дремать на ногах, плечом привалившись к соседу. Но смотрящим за порядком и это не нравилось, снова кому-то досталось дрыном, и кто-то вскрикнул от неожиданности, и крик был такой жалкий, что в строю засмеялись: забавно же, когда человеку так неожиданно больно.
…Часа через полтора с лишним появился Ногтев, Артём никак не мог рассмотреть его – уже заметно стемнело.
Начлагеря громко поприветствовал соловецких лагерников.
– Здра! – проорали они вразнобой. Артём не кричал.
Ногтев, видимо, оказался недоволен приветствием, махнул какому-то чекисту, тот вместо него поздоровался с лагерниками ещё раз. “Здра!” – проорали они снова, получше, – два, – “Здра!”, – три, – “Здра!” – взлетели все чайки, что были на дворе, отделенные бегали вдоль строя, выглядывая, кто голосит без должного старания, Артём на всякий случай начал открывать рот и шёпотом выцеживать “Здра…” – а если сексоты рядом?.. плевать, всё равно он тут не задержится… но на десятый раз и Артём решил покричать, на двадцать какой-то у всех вышло совсем хорошо, ещё дюжину раз гаркнули для закрепления и с приветствием закончили.
Так устали, что хоть спать ложись на площади.
Пошёл третий час поверки.
Ногтев вразвалку двигался вдоль рядов, время от времени указывая нагайкой на кого-то: тогда лагерников за шкибот вытаскивали из строя и сразу уводили. Видимо, кому-то немедленно полагался карцер за проступки, ведомые одному начлагеря.
– Выше бороду, поп, скоро Бога увидишь, – напутствовал Ногтев батюшку Зиновия, отправляемого на общие работы.
Зиновий часто моргал и что-то пришёптывал.
Дошла очередь до второй роты.
Артём решил не смотреть на Ногтева. Смотрел в затылок стоящего впереди лагерника.
– Кто здесь едет в бесконвойную командировку? – басовито спросил Ногтев.
Троянского вытолкнули из строя. Потом больно ткнули в спину, и он, наконец, сказал:
– Я.
“Ай ты, и Осип здесь…” – только узнал Артём, но на бывшего соседа по келье смотреть тоже не стал. Застыл недвижимо и не дыша, чтоб его никто не заметил, не различил, не запомнил.
– Не вернёшься к седьмому ноября – расстреляем в роте каждого десятого, – сказал Ногтев Троянскому прямо в лицо. – Осознал?
Троянского снова ткнули в спину, но он никак не мог вспомнить, на какую букву начинается положенный ответ, и они высыпались из него вперемешку, перепутанные и очень быстрые:
– Вы… бз… Да!
Ногтев пошёл дальше, от роты к роте, с прибаутками и матерком, но вместе с тем скучно и муторно верша свой суд – от всего этого веяло тоской и душевным блудом.
Покорный и прибитый вид лагерников говорил о том, что подобные сегодняшнему осмотры и перетряски лагерного состава случаются уже не в первый раз.
“…Такой наверняка может стрелять из нагана по только что прибывшему этапу”, – вдруг вспомнил Артём.
На четвёртом часу к охвостью ногтевской свиты присоединился встревоженный пилот, при первом же случайном взгляде начлагеря стеснительно показавший на часы.
Скомандовали расходиться.
Некоторое время все ещё стояли: не шутка? Обратно в ряды дрынами не погонят?
Наконец, не узнавая свои ноги, лагерники, путаясь и толкаясь, пошли по своим ротам.
Артём тоже, пытаясь быть незаметным и торопясь, двинулся в сторону кельи: видеться с Ксивой и Шафербековым он не имел ни сил, ни желания, но ещё не знал, как будет разбираться с Троянскими – придут они последнюю ночь ночевать или нет.
На входе в роту его поймал дневальный за рукав:
– Горяинов? Тебе велено идти в ИСО, – информационно-следственный отдел он называл – “исос”, подцепляя последнее “с” со стеснением, будто догадываясь, что эта буква там не нужна, но не зная, как закончить слово на гласную.
“Что там ещё? – слегка передёрнуло Артёма. – Ведь не Бурцев же?.. Ведь ни в чём я не провинился?..”
“Ни в чём, конечно, – по привычке отвечал сам себе, – разве что давно заработал остаток срока досидеть на Секирке…”
В ИСО, против обыкновения, горели несколько окон: то ли въедливость Бурцева заставила его новых коллег работать больше, то ли новый начлагеря по-новому спрашивал; а может, и то и другое.
Назвался дежурному; от волнения чуть мутило.
Вышел красноармеец проводить лагерника наверх.
Второй этаж, третий. Всё, Галин кабинет.
Открыли дверь, спросили: “Разрешите?” – и втолкнули Артёма.
Галя сидела за столом.
Глядя сейчас на неё, он снова забыл и думать о том, что это всё та же женщина, которая…
В комнате было тускло: белые ночи и белые вечера закончились, одной слабой лампочки на помещение не хватало.
Артём никогда не был тут так поздно.
– Тварь, ты почему не идёшь к матери? – сразу раздался вопрос; говорила Галя сквозь зубы, словно с трудом выпуская слова на волю. – Шакал! У тебя совесть есть?
“Что ты рот-то не можешь раскрыть, – думал Артём, щурясь. – Я ведь знаю, как он у тебя открывается…”
Он по-прежнему стоял у дверей.
– Сядь на стул, – сказала Галя и сама встала при этом.
Он прошёл к её столу и заметил, что под стеклом теперь не было ни одного портрета вообще – только какие-то бумаги с записями. Почерк у неё был красивый и очень понятный.
“Жаль, не могу прочитать кверху ногами, – почти всерьёз огорчился Артём. – Вдруг там написано: «Уточнить дату расстрела Горяинова» – и три вопросительных знака”.
Галя выпила воды – успокаивалась.
– Тебе что, стыдно, Тём? – спросила она совсем другим голосом. – Перед матерью?
Ему – до физической тошноты – не хотелось об этом говорить. Он и помнить-то этого не желал – и не вспоминал ни разу за все свои Соловки.
И приезд матери был не нужен ещё потому, что это сразу было и воспоминанием, и эхом – а зачем оно?.. зачем она?..
Но и не отвечать на Галин вопрос было нельзя, тем более в её кабинете, где в одном из шкафов лежало его дело и, наверное, все доносы на него, которых давно хватало на то, чтоб одну огромную жизнь пересекла одна маленькая смерть.
– Нет, не стыдно, – сказал он, ощутив, что слюны нет во рту, и слова его сухие и растрескавшиеся.
– А что? Как это случилось?
Артём проглотил слюну – о, неужели она не понимает неуместность таких вопросов и всего этого душевного разговора в тюрьме, в её кабинете, где людям, быть может, ломают позвоночники и отбивают внутренности…
– Мы с матерью… и с братом… вернулись домой… С дачи. Брат заболел, и мы приехали в середине августа, неожиданно, – начал он говорить так, словно это была обязанность и с ней надо было поскорее покончить. – Я вошёл первый, и отец был с женщиной. Он был голый… Началась ругань… крики, сутолока… отец был пьяный и схватил нож, брат визжит, мать полезла душить эту бабу, баба тоже бросилась на неё, я на отца, отец на баб… и в этой сутолоке… – Здесь Артём умолк, потому что всё сказал.
– Ты убил его из-за обиды за мать? – ещё раз переспросила Галя, хмуря брови.
Артём снова сделал болезненную гримасу, словно света было не мало, а, напротив, очень много, больше, чем способно выдержать зрение.
– Эта женщина… Мне было не так обидно, что он с ней… Ужасно было, что он голый… Я убил отца за наготу.
Артём вдруг расставил пошире колени и выпустил прямо на пол длинную, тягучую слюну и растирать не стал.
Галя посмотрела на всё это, но ничего не сказала.
Ей воистину было нужно понять Артёма.
– У тебя в деле ничего нет про женщину, – сказала она тихо.
– А я не сказал на следствии, что там была женщина, – ответил Артём, и Галя вскинулась на своём кресле: как так? вы что? – И мать не сказала: ей было бы стыдно… перед людьми. Она глупая у меня.
– А у тебя-то есть соображение? – спросила Галя, расширяя глаза; Артём, естественно, понимал, в чём дело: когда б они с матерью сказали, что там была женщина, это могло бы изменить исход дела. Он только не хотел говорить Гале, что стыдно было не только матери – стыдно было бы и ему: только не перед людьми. А вот перед кем – Артём не знал. Может, перед убитым отцом?..
Не было ответа на этот вопрос, да и кому он был нужен? Артёму точно нет.
– Есть, – ответил он Гале, чтоб завершить разговор.
Он всё размышлял, стоит ли говорить сейчас про все эти белибердовы россказни Афанасьева.
На вечерней поверке, при виде Ногтева, Артёму вдруг показалось совершенно немыслимым то, о чём говорил рыжий на Лисьем острове. Какой захват оружейных складов? Какой побег? Всюду вооружённые красноармейцы. За начальником лагеря ходит целая кожаная свита с пёсьими глазами. Сейчас Бурцев достанет свой револьвер и возьмёт их в плен? Дурь какая-то!
Завтра с утра пароход уедет и, кстати, увезёт Троянского – и нечего будет захватывать заговорщикам, – и всё, что так пугало и мучило Артёма, окажется фантазией рыжего сочинителя, у которого мозги продуло на соловецких сквозняках.
Но хотя бы про Бурцева надо сказать – что он всё знает про них.
И ещё не забыть про Авдея Сивцева и Захара, чтоб она придумала что-нибудь и отпустила обоих.
С чего начать-то?
– Галя, тебе надо знать… – начал Артём и тут же, ошарашенный выстрелами где-то то ли совсем поблизости, то ли этажом ниже, вскочил, уронив табуретку…
– Сидеть! – крикнула ему Галя, скорей по привычке, как кричала многим, попадавшим к ней в кабинет.
“Всё-таки началось! – запрыгало в голове у Артёма. – Они всё-таки решились!”
– Галя, стой! – крикнул он ей, побежавшей к дверям. – Это побег! Это заговор!
– Заткнись! – оглянувшись на него с искажённым лицом, почти сорвавшись на визг, крикнула, как клюнула ему в лоб, и вышла в коридор.
В коридоре на разные голоса, словно на пожаре, орали чекисты.
– Тут он! Тут! Готово!
– Убит?
– Убит?
– Убит, что ли?
– Раненый! Чуть, сука, не попал в Ткачука!
Артём несколько раз прошёлся по комнате: а ему что? А ему куда? А он за кого?
Через минуту вернулась бледная, но спокойная, с потемневшим взором Галя. Убрала наган в ящик стола.
– Бурцева арестовали в его кабинете. Он отстреливался. Теперь пошли по ротам – кого-то ещё будут брать под арест. Я ничего не знаю об этом. Пересиди ночь в келье, завтра отправлю тебя на Лисий. Сейчас я красноармейца вызову.
* * *
Красноармеец проводил только до выхода из здания Информационно-следственного отдела.
Пахло оружием, порохом, нервозностью, бешенством, страхом, выбитой пулями извёсткой.
Всякий пробегавший навстречу чекист взглядывал Артёму в лицо, будто в нём подозревали задержанного заговорщика.
– Надо забрать все дела из его кабинета, – озабоченно говорили между собой двое поднимавшихся вверх. Артём догадался, что речь идёт о Бурцеве и всех собранных им материалах.
Афанасьев был прав, прав, прав.
Чекистов в здании оказалось неожиданно много, словно они повылезали из шкафов, из-под столов, из-под диванов, где прятались.
– Это кто? – спросили у красноармейца внизу очередные черти в кожаных тужурках.
Артём вздрогнул. Чекисты искали, кого бы им убить.
– С допроса, велели отпустить, – ответил красноармеец. Его вытолкнули во двор.
В Преображенском стоял крик, словно туда забрались обезьяны и теперь их гоняли плётками по нарам и стенам.
Блэк, припадая на передние лапы, истошно лаял в сторону собора.
По двору иногда пробегали красноармейцы.
Артём заспешил в сторону Наместнического корпуса, но оттуда ему навстречу за волосы вытащили священника, и внутри здания кто-то орал, словно человеку зажали самые больные чресла дверью… а может, так оно и было.
Чекист, тащивший священника, был пьян – не отпуская волос из кулака, он проблевался на камни двора и через эту зловонную лужу потащил своего пленника дальше. Длинная борода батюшки была неестественно вывернута и зримо тяжела, словно состояла не из волоса, а была некой бескостной частью тела.
Артёма проняла догадка: вся борода была в крови – полна кровью, как намыленное мочало. Кровь текла изо рта, из носа, со лба, из ушей.
Сделав шаг назад, Артём оглянулся в болезненной и вялой нерешительности: куда идти? В корпус нельзя – там убьют и не спросят, кто ты и кому дышал в затылок прошлой ночью.
Отчего он не пошёл к матери? Спал бы сейчас у неё на коленях.
“Дровяной двор!” – подсказал ему кто-то, и он доверился.
Вдоль стен, избегая света фонарей, Артём побежал к дровяным складам, дыхание сразу сбилось, он дышал как плакал.
Ему казалось, что земля накренилась, и Соловецкий монастырь, как каменный тарантас на кривых колёсах, несётся с горы и сейчас ударится об ужасную твердь, и всё рассыплется на мельчайшие куски, и это крошево без остатка засосёт в чёрную дыру.
…Полез между поленниц, сдерживая сип, рвущийся из глотки.
Дрова были длинные – для монастырских печей, расцарапал щёку, нахватал заноз полные ладони, забрался как можно дальше и стих там, видя одну звезду над головой.
Несколько раз где-то за кремлёвскими стенами стреляли. Залп. Ещё залп. Ещё залп. Потом ещё много раз одиночными.
Где-то завизжала женщина, и крик скоро оборвался.
Кто-то пробежал совсем близко, но его скоро нагнали, послышались звуки ударов.
Артём закрыл глаза: а вдруг они у него светятся в темноте – или отражают звезду?
За ближайшим углом кто-то разнообразно ругался матом – матерщина сыпалась из человека, как очистки, обрезки и шелуха из мусорного мешка.
…Шум прекратился неожиданно.
Стало так неестественно тихо, как будто всё громыхавшее и вопившее в последние часы – вопило и громыхало только в голове у Артёма.
Он открыл глаза: может, сон?
Звезда стояла на прежнем месте.
Кто-то неподалёку заговорил, но голос был совсем спокойный: словно человек проснулся, вышел на улицу со стаканом молока в руке, поинтересовался у прохожего, который час, удивился, остался один, напел невнятную песенку, снова отпил молока.
Артём старательно прислушивался: этот голос мог его успокоить, дать ему понять, что ничего страшного в мире нет, а если было – то оно миновало.
То зубами, то ногтями Артём начал извлекать занозы, и это занятие тоже упорядочивало душу, потому что избавляло от боли немедленно: вот только что саднило в самом беззащитном месте между большим и указательным пальцем, и вот уже не саднит. И собственная слюна в собственной ладони – тоже успокаивала. И всё лицо у Артёма было замурзано, потому что достать занозу из самой середины ладони зубами было сложно, зато очень увлекательно – изо рта текло, словно он стал собакой – но стесняться было нечего и некого: в дровне под редкой звездой человек со своей занозой, всё просто, ничего удивительного.
Он поискал в карманах штанов, чем вытереть руки и лицо – платка у него никогда не было, но вдруг?.. В пиджаке тоже не было.
“Вот Крапин, – вспомнил Артём, – старые рубахи свои аккуратно разрезал на платки… Я вот всегда его считал ниже себя – он же милиционер, а я знаю наизусть несколько длинных стихотворений Андрея Белого, – но у него есть платки, а у меня нет”.
Мысль о Крапине была тёплая, родная… Артём как-то разом убедился, что завтра же туда вернётся, а лежанка его ещё застелена простынями, на которых спала Галя, – не забрал же их лисий повар назад, – и всё это забудется, и никто, ни один человек никогда не узнает, как он, задыхаясь от страха, сидел в дровах.
Артём вытер руки о штанины, ещё раз прислушался и услышал только море – странно, а днём его было не слышно.
Он поднялся и полез обратно, иногда останавливаясь и поводя головой: всё стихло ведь, не показалось?
Не показалось.
Он выбрался и двинулся домой, беспечный, как если бы шёл по Пречистенке.
– Э, иди сюда! Кто такой, сука?
Его окликнули из открывшейся двери монастырской бани.
Артём подошёл и встал у самого края квадратного языка света, выпавшего на улицу.
В свету кружился пар.
Рядом с дверями лежал пьяный или труп. Нет, всё-таки труп.
На порог бани вышел человек.
Обшлага у шинели чёрные. Фуражка с околышем… Знакомое лицо. Горшков.
Горшков был в форменной одежде, но босой. Его пошатывало, но он держался за косяк.
Он тоже узнал Артёма.
– Это ты с Эйхманисом клады искал? – с недоброй насмешливостью спросил он. – Нашёл Эйхманис клад?.. Мы знаем тут много мест, где можно рыть! – Горшков оглянулся назад, и там в ответ, в несколько глоток, захохотало что-то многоголовое и пугающее.
– Сюда пусть идёт! – велели из-за спины Горшкова.
Артём сделал четыре шага по освещённому квадрату до порога.
В предбаннике, у самого входа, лежали вповалку сапоги, все очень грязные, и отсвечивали каким-то незнакомым, мерзостным светом.
Подняв глаза, Артём увидел несколько совсем голых, мокрых и распаренных мужчин, сидевших на лавках.
У одного свисала такая длинная мошонка, словно он с детства привязывал к ней грузило и так ходил, привыкая. Второй держал всю свою обильную мотню в руке и то сжимал кулак, то ослаблял – с порога казалось, что он держит там огромную, варёную, волосатую жабу. Третий разливал по стаканам водку, тоже голый, но постыдной частью не видимый за столом и пустыми бутылками. Ещё кто-то ревел и порыкивал в парилке.
Из раздевалки вышел ещё один, очень здоровый, мужик в подштаниках. Остановившись посреди предбанника, он внимательно посмотрел на Артёма.
– Ещё одного нашли? – спросил он. – Тоже в расход?
– Ткачук, – не расслышав его, сказал Горшков, – пусть шакал сапоги отмоет, – и махнул свободной рукой в сторону Артёма.
– Пусть пока отмоет, – ответил Ткачук и прошёл в парилку.
– Мой сапоги, шакал, – сказал Горшков Артёму.
Все сапоги были в человеческой крови, поэтому так странно отсвечивали.
Артём, ничего не помня, не думая и не зная, взял один сапог, поискал ему пару и даже нашёл. С этими сапогами он двинулся в сторону парилки, но его неловко пнул по ноге один из сидевших, так и не выпустив своей волосатой жабы из кулака:
– Куда, блядь? Так и будешь туда-сюда ходить с сапогами? Таз налей и замывай на улице, блядь… безмозглый хер.
В другой руке мужик держал стакан с водкой и немного расплескал её, пока ругался.
Артём увидел отчётливо: водка стекает по красной, в густом волосе, руке.
Артём вспомнил кричавшего мужика: это он тогда заходил в Йодпром за кроликом и кролика забрал.
Артём прошёл в парилку, взял таз, начал лить туда горячую воду. Потом передумал и, приподняв таз за один край, медленно, стараясь не шуметь, выплеснул. Включил кран с холодной. Она лилась и бурлила в тазу.
На пороге парилки лежала тряпка – вытирать ноги. Артём сходил за ней, подождал, пока наполнится таз, отодвинул его и, не заворачивая кран, несколько раз прополоскал и отжал тряпку под водой.
Толкнул дверь в предбанник, и, стараясь никого не задеть, прошёл с тазом и с тряпкой в тазу на улицу.
Поставив таз на землю, сел на порожке, так, чтобы через плечо падал свет. Скосился на лежащее возле бани тело. Наконец рассмотрел, что труп, когда ещё был живым человеком, получил пулю в голову, и тогда череп человека, превратившегося в труп, стал будто сдвинутым набок.
Или это Артёму только показалось в полутьме и в начавшемся ночном бреду.
Кровь пахла и, смешанная с грязью, отмывалась тяжело. Сапоги становились осклизлые и сильно пахли внутренностями человека – по крайней мере Артём сейчас, если б умел думать, – подумал бы, что человеческие внутренности пахнут именно так.
Он посмотрел в темноту и, словно размышляя о себе со стороны, а не изнутри собственной головы, осознал, что может вскочить и побежать.
Вряд ли за ним погонятся эти голые люди, отмывающиеся после убийства других людей.
– Григорий, – уговаривал Горшков вышедшего из бани Ткачука. – Надо свести его. Если Ногтев начнёт допрашивать… мало ли что… Там бумаги его вроде пожгли уже… Хорошо, бляха, Ногтев улетел в Кемь…
Артём поднялся и занёс в предбанник первую пару сапог. Он не мог никуда бежать. Он мог вымыть ещё пару окровавленных сапог.
Посреди предбанника снова стоял Ткачук – натуристый, с мокрыми кустистыми бровями, зубастый – как будто у него за каждый чужой выбитый зуб вырастало два собственных в его мощном, со здоровенными губами, рту.
Кто-то, всё так же со стороны, подсказал Артёму: речь идёт о Бурцеве, которого надо расстрелять, чтоб его не допросил улетевший в Кемь Ногтев.
Чекисты и командиры полка надзора заранее решили раскрыть и подавить заговор в отсутствие начальника лагеря. И потом обставить всё так, чтоб никто не прознал об имевшихся у Бурцева материалах на большую часть лагерного комсостава.
– Опять сапоги все перемажем, – сказал Ткачук таким тоном, словно ему предлагали сходить сорвать кочан капусты.
– Да ладно, одного-то, – цедил пьяную, но осмысленную речь Горшков. – Заодно чистых девок приведём из женбарака.
Артём сидел возле таза с новой парой сапог, иногда вглядываясь в темноту.
Из темноты вышел Блэк, понюхал воздух и, рыча, убежал.
Артём, не вставая и даже как будто освоившись – а что, сижу и мою сапоги, обычное занятие, – вернул чистую пару в предбанник и прихватил новые два, даже три сапога, уже не заботясь о парности – сами разберутся.
“Бурцева расстреляют одного, – подсказывал кто-то Артёму. – А тебя не расстреляют, потому что ты ни при чём. К тому же Горшков хоть и пьяный, а помнит, как ты копал Эйхманису клады. Поэтому сиди и отмывай сапоги”.
Из темноты вышли два человека, волоча за собой рогожу.
Вытирая о себя скользкие, как рыба, руки, Артём узнал Авдея Сивцева и Захара.
Он ожидал, что за ними придёт конвойный, но конвойного не было.
Вид у обоих был дурной, пахнущий смертью. Они походили на помойных собак. Глаза таращились, а лица будто свело от холода.
Они разглядывали Артёма: зачем он здесь, что он делает возле таза, полного крови?
И руки, и штаны, и рубахи, и лбы, и губы, и щёки – всё у них было в земле.
– Зарыли? – раздался голос Ткачука над головой Артёма.
“Их вытащили из карцера, чтоб зарывать трупы”, – в очередной раз шепнул кто-то Артёму в самое ухо. Артём чуть дрогнул щекой.
Авдей и Захар поочерёдно мотнули своими искривлёнными лицами. С волос посыпалась подсохшая земля.
– Ну пойдём тогда, – обратился Ткачук к своим, – заодно этого чинарика прикопают. – И он кивнул на мертвеца, лежавшего возле бани.
– За работу, шакал! – кинул он Артёму.
Авдей и Захар раскинули рогожу и, путаясь, потянули труп на неё.
Артём ступил ногой на рогожу, чтоб не задиралась.
– Ну, берём? – спросил Авдей негромко; голос его дрожал.
Переглянувшись, взяли и понесли.
Артёму досталась голова, она болталась из стороны в сторону. Руки Артёма скользили, и он скоро не удержал и выронил… что нёс.
Вытер ладони о себя, перехватился половчей и попробовал снова.
Авдей и Захар уже знали дорогу – они насколько возможно твёрдо шли к Святым воротам.
Вскоре их нагнали чекисты и командиры из полка надзора. Трое из них оделись – шинели хлопали о голенища вымытых сапог. Четвёртый надел только галифе и шёл, до пояса голый, обильно жирный.
Между ними, пошатываясь, брёл Бурцев со связанными за спиной руками. Куда его ранили, понять было нельзя – вся его гимнастёрка спереди была окровавлена, кровь стекла и ниже, поэтому брюки до колен – набрякли, почернели.
Один за другим к их неторопкому ходу присоединились ещё несколько человек из бани, поспешно одевающиеся на ходу, рядовые красноармейцы, неясно откуда взявшиеся, и ещё некто, похоже, из лагерной администрации – он был в гражданском пальто и франтоватой кепке и шёл рядом, заглядывая в лицо Бурцеву, словно ожидая, что тот обратит на него внимание – на этот случай незваный провожатый, видимо, заготовил речь или как минимум обидную фразу.
Один из красноармейцев нёс чадящий факел.
В каменном проходе, к полукруглым, напоминающим формой княжий шлем Святым воротам, факел разгорелся и затрещал.
За ворота Бурцева выводили уже толпой – как самого дорогого гостя в дорогу.
Становилось понятным, сколь сильно его успели здесь возненавидеть.
Бурцев же ничего не замечал, только иногда путал шаг, спотыкался и по-прежнему смотрел в землю, будто под ногами у него расползались путаные письмена, которые он пробовал, без особого тщания, дочитать.
Воздух начал светлеть.
Артём, предощущая рассвет, вдруг различил все предметы явственно и резко. К нему вернулись чувства и онемевший на несколько часов рассудок.
Третьих петухов ждать не приходилось, но эта ночь всё равно должна была закончиться.
“Меня точно не убьют”, – впервые за ночь сам, без подсказки, осознал Артём.
Чужая мёртвая голова его больше не пугала. Не пугало ничего. Всё уже случилось. А что ещё случится – того не избежать.
– Эй, ты, – окликнул Бурцева всё тот же чин в гражданской одежде.
Артём был уверен, что Бурцев идёт в полусознании, но нет, он приподнял голову и с силой плюнул в сторону окликавшего.
– Что за баба тут? – раздался вдруг голос Ткачука.
На дороге, встречая идущих, стояла мать Артёма Горяинова.
Она была недвижима и пряма, только концы платка шевелились на ветру.
Артём без удивления узнал её и, остановившись, не мигая, всмотрелся в похудевшее материнское лицо.
Она тоже узнала сына и вглядывалась в него: как поживают глаза на его лице, не тянет ли ноша в его руках, не собрался ли он сам умереть сейчас.
– Не собрался, – сказал Артём шёпотом. – Прости, мать, если удостоимся – увидимся потом.
Она не слышала его, но смотрела ему прямо в губы.
– Ты откуда, баба? – спросил Ткачук.
– Вольнонаёмная, наверно, – сказал Горшков, которому нравилась чувствовать себя трезвым и всё помнящим. – Прачка.
– Пошла вон, дура! – сказал Ткачук и выстрелил из своего маузера над головой женщины.
Она сначала присела, а потом некрасиво побежала прочь.
Горшков, путаясь в кобуре, тоже достал наган и пальнул вверх.
Артём смотрел вниз, на закурчавленную кровью голову, чтоб ничего больше не видеть.
Бурцев переждал всё происходящее, опустив подбородок и закрыв глаза. Время от времени он морщил лоб, словно отгоняя комаров – хотя никаких комаров не было.
Его остановили неподалёку от женбарака, возле дурно присыпанного рва, и сразу начали в него стрелять, с трёх сторон – не выставив строй и не отдавая команд. Каждому хотелось сделать это первым и как можно больнее. Никто не смог сразу насытиться его смертью, поэтому Бурцеву несколько раз выстрелили в лицо, подбежав к самому телу. Лицо распалось на части.
В женбараке снова проснулись и завизжали соловецкие бабы: целую ночь им выпало слушать человеческие казни.
Чекисты тут же, едва отерев пахучий пот, вспомнили, зачем они сюда явились помимо убийства.
Пока Артём, Захар и Сивцев закапывали Бурцева – положив его лицом вниз, чтоб ничего не видеть, чтоб он вообще казался не человеком, а чем-то другим, – из женбарака на прокисший свет вытащили несколько девок.
К лицам подносили отобранный у красноармейца фонарь, чтоб рассмотреть получше.
– Да куда ты эту? – придирчиво ругался Ткачук. – Она ж старуха. Иди спи, чёртова кочерга.
Бурцева уже присыпали, когда вернулся Горшков и, спросив: “Тут?” – ещё трижды выстрелил в землю, после чего побежал за бабами с опалёнными бровями и чёлками.
– Простите, Мстислав, – сказал Артём вслух, еле слышно.
Захар даже остановил движение лопаты, чтоб не мешаться и дать людям поговорить.
Когда последним возвращался мимо них красноармеец с факелом, Артём заметил на земле маленький, с пятак, кусок черепа с волосами. Сразу отвернулся. Некоторое время стоял, не дыша.
Могильщики пошли обратно к Святым воротам.
Навстречу им, неровно, словно за ночь стал подслеповат, пробежал Блэк, принюхиваясь к земле.
– Прачка так и смотрит вон, – сказал Захар, кивая через плечо. – Только подальше отошла. Поди, думает, что теперь до неё не дострельнуть.
Артём знал, что смотрит, и не оглянулся.
Пальцы на руках у него свело, и он пытался их разогнуть и снова согнуть.
На пальцах лопалась корка чужой насохшей крови.
– Лопаты надо занести и это… спросить, чо дальше, – сказал Сивцев в монастырском дворе.
Артёму было всё равно, занести так занести – он точно помнил, что сегодня выживет.
“…Русский мужик, – подумал только, – закопал, спросил: «Чо дальше?» А если скажут: «Раскопай!» – раскопает заново…”
Вернулись к бане.
Внутри раздавались тягостные женские стоны, как будто каждую крыл не мужской человек, а чёрт с обугленными чёрными яйцами и бычьим раскалённым удом – тонким, длиной в полтора штыка, склизко выползающим откуда-то из глубин живота, полного червей и бурлыкающего смрада.
* * *
Артём помнил, как однажды, после молчаливой паузы в несколько месяцев, со Спасской башни раздалось не “Коль славен наш Господь в Сионе”, а “Интернационал”. Он тогда резко сел на кровати и удивлённо посмотрел на уже проснувшихся родителей.
– Глянь-ка в окно, – шутливо сказал отец матери, – может, и солнце взошло… с углами.
Сейчас Артёму даже не снилось, а чудилось, что Спасская башня, то и дело расползающаяся в погорелый Преображенский собор, заиграла какую-то новую, взвизгивающую, как тележное колесо, музыку, за этой музыкой, еле поспевая, спешил барабан, раздувая тугие щеки и не в такт хлопая себя по голому чекистскому животу.
На телеге вповалку лежали голые попики. За телегой бежал привязанный ослик. На шее у ослика позвякивал колокольчик.
Артём спал мало и просыпался медленно, с чувством огромной, больше самой головы, закипающей головной боли.
Каким-то смешным подобием этого пробуждения было утро в самом начале двадцатых, когда Артём с друзьями поехали на дачу, ужасно там перепились и устроили пожар, который с пьяных глаз еле потушили – у пианино на крышке прогорела страшная дыра, открывшая струны, на стене обуглился любимый отцовский, с Кавказа привезённый ковёр, потолки были в саже, посуду перебили, и она хрустела под ногами – чайный сервиз – бабушкино наследство, хрустальная ваза, крынка под молоко, суповые тарелки из магазина “Мюр и Мерилиз”. Чтоб не задохнуться, кто-то крайне решительный высадил стулом окно, и стул застрял ножками на улице, а спинкой в комнате.
Артём подумал тогда, преодолевая алкогольную тошноту и с удивлением обнаружив на себе енотовую шубу, что если он повесится посреди их небольшой, милой гостиной прямо в шубе, то картина будет полностью завершена.
И сегодня тоже Артём испытывал натуральное похмелье, словно впал в девятидневный безоглядный запой, и теперь, на десятый день, выползал наружу из-подо льда, дрожащий, безумный, пытаясь ухватиться за его твёрдый, корябистый край.
Глаза ныли. Руки деревянно тряслись. Рот был сух. Одежда бесподобно грязна и пахуча.
…Когда он явился после поверки, мать Троянского сидела в ногах у сына. Осип спал. Наверняка она подумала, что Артём вылез из могилы, потому что там холодно и неуютно, а в келье тепло и чисто.
Артём лёг под одеяло в одежде и в ботинках и поджал, как в детстве, ноги к животу.
Троянские, наверное, ушли на рассвете: он был без чувств и ничего не слышал.
Быть может, они, имея на руках пропуск, решили дождаться отхода “Глеба Бокия” в порту, чтоб не попасть на утреннее построение.
Часы, которые за годы, проведённые под перезвоны Спасской башни, отстроились в голове Артёма, отчётливо говорили, что вот-вот, менее чем через минуту, раздастся истошный гудок и скомандуют подъём.
Кажется, теперь на поверку выгоняли всех – даже те роты, работа которых начиналась с восьми, а то и с девяти.
Надо было как-то объяснить и оправдать себе прошедшую ночь, чтоб нашлись силы подняться и воля жить, смотреть.
Ни сил, ни воли не находилось, только изнутри черепа давила и давила шумная, неуёмная боль. Артём зажал бы уши руками, если б верил, что его пальцы способны выпрямиться.
Ничего в себе не преодолев, он всё-таки поднялся и медленно сел на кровати. В голове медленно переливалась вчерашняя вода из таза. Простыня, успел заметить Артём, была почти чёрная и отсыревшая, как будто её жевала корова с больным, кровоточащим ртом.
“Афанасьева тоже расстреляли? – спросил себя Артём: оказалось, и думать можно шепотом. – Его ведь тоже должны были расстрелять. Я там, наверное, ходил по засыпанному рву, а он лежал внизу”.
У Артёма не получалось долго и связанно размышлять обо всём этом, словно в душе его, как в том пианино, образовалась дыра, и если выйти на улицу – на голые струны, в самую душу нападает снег. Нажмёшь на клавишу – а звук образуется короткий, странный, сиплый, тут же обрывающийся.
Раздался гудок, длинный и всегда неожиданный – он всверлился в один висок и, с намотанной на остром конце костяной стружкой, вылез с другой стороны черепа, всё ещё вращаясь.
– Подъём! – закричал где-то в здании человек, как будто ему неожиданно высыпали на обнаженные чресла полное ведро пиявок.
Восстановить миропонимание Артёма мог только его собственный голос и его собственная осмысленная речь.
Он несколько раз вдохнул и выдохнул. Поиграв кожей на лбу и подвигав скулами, раскрыл наконец глаза. С усилием сжал, а потом разжал кулаки, смиряя дрожь. Топнул ботинками об пол. Облизал губы, словно готовясь запеть.
– Доброе утро, Артём, – сказал себе. – Ты живой. И теперь будешь жить дальше.
Невыспавшиеся глаза его горели: в каждом зажгли по свече, и в глазницы отекал горячий воск. Голова была будто перебинтована суровым наждачным бинтом: повязку наложил сумасшедший санитар, обладающий звериной силой.
Он ещё, сколько смог, набрал воздуха и медленно выдохнул через нос.
– Если бы вчера у Бурцева всё получилось… – с едкой неприязнью к самому себе начал Артём.
…ему нужно было пересилить неприязнь и принять лекарство…
– Если бы у него всё получилось, то во рву лежала бы Галя. А если б в Галином кабинете оказался я, – а я там был, – то меня закопали бы рядом с Галей, – сказал Артём и поднялся.
…Поверка прошла как будто обыденно, невыспавшиеся люди стояли молча. Всякий в меру сил делал вид, что пустые места в строю не повод удивляться и переспрашивать, а где такой-то.
Афанасьева – не было.
Артём то и дело ловил быстрый перегляд в рядах. Казалось, что лагерники сегодня как никогда желают поскорей убраться поработать на самые дальние командировки.
Мимо рабочих рот, выглядывая кого-то, прошёл Ткачук.
“Неужели меня?” – подумал Артём, чувствуя как его сердце вновь падает вниз и превращается в кусок солонины.
Ткачук был упруг, широколиц и широкобёдр, скор в движеньях, розов и свеж, словно, пока Артём в полубреду провалялся полтора часа, он завалился на трое суток и спал беспробудно, как в берлоге под семью слоями снега.
“Какой крепкий они народ”, – подумал Артём безо всякого уважения, а только с мукой.
– Сегодня опять понадобишься, – ткнул Ткачук своим здоровым пальцем в Артёма. – Я нарядчику сказал уже. У ИСО сиди, чтоб не искать.
…Возле здания уже дожидались неведомо чего Захар и Авдей Сивцев. Оба с дурными цветом лица, губы спеклись, глаза в чёрных впадинах.
Они не поздоровались. То ли не было чувства, что расставались. То ли приветствие слишком явственно обозначило бы их совместные вчерашние брожения: а кому нужно было про это помнить?
Артём присел на землю.
Захар и Авдей стояли рядом, томясь зябким ожиданием и одновременно не желая, чтоб кто-нибудь про них вспомнил.
– И не знаешь, где лучше – в карцере али здеся, – сказал Сивцев, пожёвывая губами.
Блэк с утра был словно не в себе, к людям не подходил и всё кого-то разыскивал.
– Они нашу бригаду второй день гоняют, чтоб никакие другие ничего не видали, а потом и нас зароют? – рассудил Сивцев, поглядывая на Артёма. И “никакие”, и “другие” он произносил с “я” на конце, слова получались смешные, как скоморохи.
“Где же Галя? – думал Артём, глядя на Блэка. – Вывози меня немедленно отсюда, Галя!”
Появился Горшков, выглядел он похуже, чем Ткачук, но тоже ничего – умытый, побритый, покормленный. Не глядя на стоявших у отдела могильщиков, он заскочил в дверь, но тут же, вспомнив о чём-то, вернулся.
Подошёл к Артёму – тот сразу встал.
– Если скажешь Эйхманису, что мы над ним смеялись, – попадёшь во вчерашний ров, – сказал ему Горшков на ухо.
– Вы не смеялись, – тихо ответил Артём, глядя в сторону.
Высморкавшись на камни двора, Горшков ушёл.
Сзади на сапоге у него была кровавая клякса – это Артём плохо отмыл.
Блэк, который давно что-то задумал и вёл себя непривычно, вдруг изловчился и в прыжке поймал чайку, та заорала, призывая на помощь, но взбесившийся пёс, помогая себе лапами, скоро перекусил ей голову и за минуту даже не сожрал, а разодрал птицу на части.
Всё было в перьях вокруг и в мелких птичьих внутренностях.
Никто не решился отогнать Блэка, и только другие чайки изо всех птичьих сил голосили и делали дерзкие зигзаги в воздухе, раздосадованные предательством пса, и вчерашней стрельбой, и резкой переменой погоды – третьего дня ещё было тепло, а вчера обвалился снег, а сегодня непонятная, ветреная муть – надо бы немедля улетать, – и вот одну из старейших чаек порвали в клочья.
Торопливо засуетились взад-назад красноармейцы, выглянул на улицу и снова ушёл в здание Ткачук, кто-то произнёс фамилию нового начлагеря – и Артём догадался, что из Кеми прилетел Ногтев.
В кожаном своём пальто, начлагеря зашёл во двор – Блэк словно только его и ждал: сорвавшись с места, он понёсся на Ногтева.
Начлагеря оказался проворней сопровождавшего его красноармейца, успевшего только винтовку снять с плеча – первым же выстрелом ловко выхваченного из кобуры нагана он сшиб собаку с ног и вторым добил куда-то в шею.
Одна из чаек, взбудораженная очередной стрельбою, прошла над головой Ногтева и оставила белый след у него на плече.
Он выстрелил чайке вслед, но на этот раз не попал.
– Чаек перебить, – смеясь, скомандовал Ногтев. Несмотря на промах, он был доволен собой. – Чтоб дорогу сюда забыли.
Тут же сбежались красноармейцы, возбуждённые, как перед баней; началась несусветная пальба.
Чайки, истошно крича, никак не могли поверить, что их всех собираются уничтожить, – на некоторое время взлетали, потом снова стремились к главкухне, тем более что уведомленный повар раз за разом выносил сначала объедки, а потом в запале вывалил чуть ли не весь обед какой-то роты – тринадцатой, наверное.
Одна взрослая чайка, поняв происходящее, в предсмертной ярости бросилась на красноармейца – не на шутку его испугав, – но её сбили на втором круге перекрёстной стрельбой из трёх винтовок.
Красноармейцы хохотали, да и лагерникам чаек было не очень-то жаль.
“Никто отсюда не улетит”, – подумал Артём, усмехаясь сквозь боль во всём лице. Ему тоже было всё равно.
Он долго смотрел на Блэка, но потом объявился дневальный ИСО, пихнул Захара, указал ему на собаку и выругался. Захар всё понял, поднялся и, озираясь, чтоб не застрелили, добежал до Блэка, взял собаку за ногу и потащил.
Мёртвый Блэк оказался некрупной, не очень красивой и не очень чёрной собакой.
Под грохот стрельбы, буйство надзорных и всхлипы чаек вышла Галя – без своей куртки, в форменной одежде, усталая и тоже некрасивая.
Во дворе была сутолока и неразбериха, высыпали люди из административного корпуса, медсёстры из лазарета, повара – вроде как и праздник: осенний убой птицы.
Галя встала рядом с Артёмом и спросила, глядя в спину целившемуся в чайку красноармейцу:
– Почему у тебя такой вид?
Артём помолчал и со второго захода – пришлось переждать близкий выстрел – ответил:
– Мыл чекистам кровавые сапоги. Потом закапывал труп Бурцева.
– Тебя не били? – быстро спросила Галя и столь же быстро осмотрела лицо Артёма.
– Нет, – сказал он.
Галя перевела невидящий взгляд на другого красноармейца и сообщила:
– Тридцать шесть человек за ночь расстреляли. Больше расстрелов не будет. Ногтев запретил.
– Он… не знал… – поделился с ней Артём.
– Всё он знал, – тут же со злостью ответила Галя. – Нарочно уехал.
“Блэк оказался самый догадливый из нас!” – ёкнуло у Артёма.
Скосился на Галю – поделиться с ней этим открытием или не стоит. Решил, что не стоит.
Артём предположил, что Гале не хочется уходить обратно в здание, оттого что нравится стоять рядом с ним.
…Только ему не было хоть сколько-нибудь проще от её присутствия, он лишь желал, чтоб кончилась стрельба.
– И Афанасьева расстреляли? – спросил Артём, заметив, как тяжело ему далось совместить два последних слова, которые отталкивались как магниты с разными полюсами.
– Почему это? – Галя снова посмотрел на него. – Нет. Я не видела в списке. А зачем Афанасьева?
“Дурак, что я делаю!” – сокрушённо укорил себя Артём.
– Незачем, – ответил он, насколько сумел, искренне. – Просто его не было на утренней поверке, и я испугался за него.
Галя промолчала. Афанасьев её не волновал.
– Я постараюсь отправить тебя сегодня на Лисий, – сказала она погодя.
Артём закусил нижнюю губу: хоть бы правда, хоть бы удалось – поставлю твою фотокарточку, Галя, и буду на неё молиться. Кажется, Крапин успел её сфотографировать в компании лис, назначенных согревать Галины плечи в ближайшую соловецкую зиму.
Они ещё с полминуты стояли молча. Артём иногда вздрагивал или хотя бы морщился от выстрелов, Галя – даже не смаргивала.
Вернулись Сивцев и Захар. Наверное, по кровавым пятнам на одежде и по тому, как Артём чуть подвинулся, совсем не удивившись их приходу, Галя догадалась, чем занимаются все они вместе.
– Вы ещё не ели? – спросила она у Сивцева.
Сивцев вопросительно посмотрел на Артёма: чего говорить-то? стоит правду отвечать, нет?
Артём не поворачивал головы.
“А он ведь воевал, – медленно думал Артём. – А я нет. А он ждёт, чтоб я дал понять, как ему быть…”
– Дак мы непонятно чьи теперь – и не в роте, и не в карцере, – растерянно сказал Сивцев, поглядывая то на Галю, то на Артёма, то, наконец, и на Захара тоже.
– Идите в лазарет, – велела Галя, зачем-то поднимая воротник и заходя в здание. – Я позвоню, чтоб вас накормили и пустили помыться. Постирайтесь.
– Дак нам гражданин начальник Ткачук велел ждать, – плачущим голосом вослед ей крикнул Сивцев.
– И Ткачуку скажу, – не оборачиваясь, ответила Галя.
* * *
На обед или уже на ужин им выпала гороховая похлебка и пшённая котлета, залитая киселём.
Артём долго смотрел на принесённые миски, потом вывалил котлету в суп и всё съел за треть минуты.
Иногда поднимал глаза то на Сивцева – евшего размеренно и обращённого в себя, то на Захара – старавшегося есть помедленнее, но без успеха; у Артёма возникал тихий зуд от желания рассказать им, что в карцер их упекла тоже Галя – зато теперь покормила, – видите, какая заботливая. Мало того, в карцере они сидели за его, лагерника Горяинова, и ещё одного… забубённого балалаечника – провинности.
В столовой для лекарей больше никого не было. Проводил их сюда сам доктор Али, сделавший вид, что Артёма не помнил, – хотя, может, и правда не помнил – мало ли тут перележало вшивого лагерного брата.
– А давайте ещё по тарелке? – с милейшим акцентом предложил вновь заглянувший в столовую доктор Али, гладя себя по бороде.
Все трое переглянулись, Артём в знак согласия несильно ударил концом зажатой в кулаке ложки о стол.
Доктор Али засмеялся, будто не знал большей радости, чем покормить трёх грязных могильщиков – он ведь тоже догадался, чем эти три горемыки занимались всю ночь и отчего за них просили из Информационно-следственного отдела.
“Какой милейший человек, – с прежней своей, раскислявшейся усталостью думал Артём, – а я ведь, помнится, сердился на него…”
Хотя, возможно, доктор Али просто благоволил к чекистке по имени Галина и хотел ей услужить: мало ли, вдруг она когда вспомнит и про эту нехитрую услугу и поможет в трудный день или, скажем, хотя бы расстегнёт однажды две верхних пуговицы на своей рубашке, даря белизной и светом.
Им принесли ещё по три пшённых котлеты каждому и по кружке чая – настоящего, не ягодного, – но не это поразило! – а то, что на краю каждой миски лежал, щедрой ложкой выхваченный из большого куска, шарик сливочного масла, нежнейшего, солнечного…
Не сговариваясь, все трое принялись за свои котлеты, и каждый, наклонившись к миске, всё косился на сливочное масло, словно оно могло вдруг растаять.
Артём, снова разобравшийся с едой самым первым, бережно подцепил волшебный шарик и, положив себе на горбушку руки, стал слизывать, жмурясь и пытаясь ежесекундно осознавать блаженное головокружение.
…Как своё масло съели Захар и Сивцев, он и не заметил.
Али больше не появлялся, зато трудник, тоже известный Артёму, принес ворох стираных штанов и рубах, и пиджаки, и старую душегрейку, и хоть в дырках, но всё-таки тулупчик.
– Ничейное, – сказал трудник. – Своё давайте – бабы постирают, завтра заберёте.
Захар вроде задумался: не побрезговать ли, с кого снято – не с покойных ли.
– А с кого же, Захар, – чуть хлопнул его Артём по плечу. – С них самых. Это ж лазарет: здесь кого могут вылечить – лечат, а кого не могут – хоронят.
Артёму было всё равно: его с самого утра знобило, а тут – сухое всё, бабьими руками замыленное, выполосканное, отжатое.
Он разделся до исподнего, тут же, на глаз, выбрал, что ему будет в меру – и ни разу не ошибся. Только поверх всего опять надел собственный пиджак.
Захар последовал его примеру.
Сивцев со своим рваньём расставался неохотно, всё оглаживал себя и что-то разыскивал в карманах, где, кроме клопов, давно никто не гостил.
– Да не бойсь, – сказал трудник. – И это при вас останется, и ваше вернут. Зима скоро – всё сгодится и сносится.
Напоминание о зиме повлияло на мужика сразу.
Мыться не стали, а в обновах поскорей вернулись к отделу: вдруг их всё-таки ищут.
Со двора уже прибрали чаек – и было по-новому тихо, словно всё изготовилось к приходу снега, потому что в первое своё явление зима любит тишину.
Чекисты, которые весь день рыскали по ротам – то ли кого-то потеряв, то ли для острастки, привели на этот раз актёра, тот был отчаянно напуган и всё озирался, не появится ли кто из знакомого начальства, которое в прошлый раз так аплодировало ему.
Захар и Артём стояли рядом и друг на друга не смотрели, но подумали одно и то же одновременно: а не его ли придётся закопать сегодня…
Сивцев глядел в сторону, словно его томил стыд и сладу с этим стыдом не было.
“…Я сердился на Бурцева, желал ему дурного, – безо всякого желанья и даже против воли размышлял Артём, не столько словами, сколько их обрывками или ощущениями, слова подменявшими. – А теперь он – труп в земле. На кого я сердился, на труп? И вся моя раздражённость – её же закопали вместе с Бурцевым, или моё желчное чувство к нему, теперь осиротевшее, вернулось ко мне? И всю эту ржавь мне носить при себе, потому что деть её некуда и соскоблить нельзя?”
Олень Мишка, насмотревшийся за день на многое, людей старался избегать и только перебегал по двору то туда, то сюда, принюхивался, вытягивая голову, к воздуху, где по-прежнему чуял гарь и смерть собачьего товарища, и поводил ушами: не раздастся ли всё-таки знакомый лай или чаячий переклик.
Мишка и раньше не различал лагерников и чекистов, хотя желалось, чтоб первых он ласково обнюхивал и полизывал, а вторых бил копытом в живот, – а теперь стало ещё хуже: всю человеческую породу олень определил, как злую. Несколько раз уже Мишка подходил к воротам, подрагивая боками от волнения, но постовые его гнали назад, взмахивая тяжёлыми ручищами. От взмахов этих веяло волглым сукном, махоркой, оружейной смазкой.
Горшков, то ли весёлый, то ли сердитый, но необычайно возбуждённый и разговорчивый, вёл с двумя красноармейцами ещё одного лагерника. Горшков шёл первым, и взятого под конвой Артём сначала не рассмотрел.
– Который год я тут, а тебя не замечал, вот ты падла, – сердился или смеялся Горшков, он снова был пьяный, тугие щёки его тряслись. – Кепку надел, падла. Твой, падла, фарт был, что я был сослан в командировку, а то давно бы ты сгнил в болоте у меня! – И Горшков, оглядываясь и оттого спотыкаясь, в очередной раз пересказывал красноармейцу то, что говорил минуту назад. – Эту падлу я всю жизнь помнил! Колчаковская контрразведка, он мне из спины мясо кусками отщипывал! Вот где довелось повстречаться! Как два шара в лузу загнали одним ударом! Не забыл твой Бог про тебя, падла, прикатил колобка куда надо!
Артём сначала вспомнил, что вчера Горшков не раздевался в бане, а потом увидел, что ведут Василия Петровича.
Он был без кепки, которую Горшков зачем-то нёс в руках – видимо, как убедительное доказательство своей нежданной удачи.
– Вы перепутали всё, гражданин начальник чекист, – торопясь и странно гримасничая, говорил Василий Петрович.
Но даже Артём откуда-то знал, что гражданин начальник ничего не перепутал.
* * *
Знание, что Василий Петрович занимался тем или почти тем, чем вчера занимались Ткачук или Горшков, не пробило в душе Артёма ещё одной чёрной дыры.
В ту, что имелась, могло теперь многое завалиться и пропасть без остатка.
“…Как же я не замечал его парафиновые глаза”, – подумал только безо всякой досады Артём, а дальше думать было нечего.
Лучше было вспоминать про сливочное масло и время от времени принюхиваться к руке: вдруг опять этот вкус проступил.
Артёму неведомо кем заранее было подсказано, что каждый человек носит на дне своём немного ада: пошевелите кочергой – повалит смрадный дым.
Сам он махнул ножом и взрезал, как овце, горло своему отцу. А Василий Петрович драл щипцами Горшкова – ну что ж теперь. Каждый как может, так и зарабатывает Царствие небесное.
…После дневных смен начали возвращаться один за другим наряды двенадцатой роты.
Артём заметил Ксиву и Шафербекова; те тоже, проходя, его увидели.
Артём шмыгнул носом, закусил щеку и стоял дальше в пустом и безмолвном ожидании, что ему предложит жизнь на этот раз.
Блатные вернулись очень скоро, прогулялись мимо ИСО в одну сторону, потом назад.
Захар, узнав гостей, поглядывал на них, зато Артём – нет.
Блатные встали поодаль. Ксива пялился на Артёма, Артём не отворачивался.
Но пришло время ужина, и блатные отбыли ни с чем.
Над двором который раз пролетали две или три недострелянных молодых чайки, искали родителей или кого постарше, писк их был истошен и жалок.
Прибежали озорные красноармейцы, ещё постреляли.
…Галя вновь появилась, когда уже совсем завечерело, в кожаной тужурке, в перчатках.
– Возвращайтесь в свою роту, – сказала она Сивцеву и Захару, сплетая пальцы рук, чтоб перчатки сели покрепче. – Я освободила вас от карцера.
– Дак мы и не знали про те венички, которые… – забубнил неожиданно обрадовавшийся и мелко посмеивающийся Сивцев. – И за чо сидели! А ну и да ладно! За свой грех не всякий раз накажут, можно и за чужой пострадать, видать, очередь дошла!
“Какой он суетливый и напуганный, этот мужик”, – тихо удивился Артём.
Он помнил, что Сивцев был не таким ещё в июле, когда их гоняли на кладбище. Ведь он людей убивал на войне, и его могли убить – чего же здесь такое на Соловках, что и Сивцева начало гнуть?
“…Он пришёл сюда со своей правдой, которая целую жизнь его не подводила – и вдруг начала подводить”, – нашёл ответ Артём, словно и в этот раз ответ ему был заранее подсказан.
“…И я тоже стал много думать, – выговаривал он сам себе, сразу забыв про Сивцева – что ему Сивцев, когда он и мать целый день не вспоминал. – А думать не надо, потому что так тебя начнёт ломать, и скоро сломает”.
Артём не забыл, что совсем недавно, ещё, смешно сказать, вчера, когда перепугался за Галю, он больно корил себя в келье за отсутствие привычки к размышлению – но много ли он надумал тогда? Спас ли его озадаченный рассудок?
Галя молча ждала, когда Сивцев выговорится.
– Идите в свою роту, – повторила она, не дождавшись.
Сивцев замолк, но улыбаться не прекратил и, несколько раз оглянувшись, поспешил вослед не ставшему докучать Захару.
Отчего-то Сивцев захромал на одну ногу – может, перестоял тут за день.
– Ногтев наложил запрет на использование лодок, – сказала Галя безо всякой интонации, не глядя на Артёма. – Но аресты прекратились, все чекисты по домам ушли, один Горшков с твоим Василием Петровичем никак не наговорится. Можно немного успокоиться… – Она тряхнула головой. – Подожди до завтра, – добавила Галя на самое мелкое деление градусника теплее, чем всё прежде сказанное, и тоже, не прощаясь, ушла.
Надо было б если не пожалеть, то хоть вспомнить о Василии Петровиче – мучают ли его сейчас, жгут ли, режут ли на части, – но Артём не хотел, не хотел, не хотел.
“Завтра, завтра, завтра”, – то ли без смысла повторял, то ли молитвенно просил Артём, глядя вслед этой женщине, которая носила в себе его спасение. И там же, в близком соседстве с его правом на жизнь, хранилась оставленная на потом смерть.
Истово веря в свою удачу, Артём хлопнул себя по карманам и поймался, как на крючок, на собственную, острую и больную, мысль: он потерял пропуск – допускавший на работу в лисьем питомнике.
“Завтра Гале придётся новый выписывать, – думал он суматошно и огорчённо и тут же стремился себя, не без злорадства, успокоить: – Прекрати истерику! Вот Бурцеву уже не нужны никакие пропуска. Тебе что, хуже, чем ему? – Но даже это действовало слабо. – На пропуск ставят печать – и делает это начальник ИСО – значит, Гале придётся к нему идти: зачем это ей? – спрашивал себя Артём. – А если Галю спросят, что ей вдруг стало за дело до Лисьего острова? А если к тому же такие пропуска больше не подписывают? Как нелепо! Как же всё нелепо получается!”
Первой догадкой было, что он забыл пропуск в штанах, которые оставил на стирку в лазарете, – но нет, он отлично помнил, что вывернул оба кармана брюк – и только после этого, очень довольный, что не забыл ничего – потому что у него оказались при себе деньги, – сдал одежду. О пропуске его бессонная голова тогда и не вспомнила: нализался масла и ошалел.
Артём достал из кармана новых, с неведомого лазаретного покойника снятых штанов сложенную вдвое пачку денег – может, пропуск замешался в соловецких купюрах, – хотя сам заранее знал, что его там нет.
И его там не было.
Он стоял, как то самое пианино с прогоревшей крышкой и осипшими струнами, и кривил лицо от презрения к себе.
Надо было идти в келью – искать там, вдруг бумага выпала во сне, – но и здесь Артём знал, что ни разу за все те полтора часа, пока спал, не шевельнулся, и выпасть ничего не могло, и нет там никакого пропуска.
“…И ты ещё издевался над Троянским, который месяц с лишним носил булавку в кармане, – с мучительной досадой указывал себе Артём. – Ты бы сам булавкой приколол себе пропуск к самой коже, и носил, идиот”.
“…И в бане я не мог его потерять, и возле бани не мог”, – вновь проворачивал в голове вчерашний день Артём, готовый ходить за своей тенью по всему двору, до самого рва и назад… и тут наконец вспомнил: пропуск он мог уронить, когда прятался в дровне и лазил по карманам в поисках платка, которого у него никогда не было.
Артём пошёл к дровне, торопясь и боясь спугнуть свою удачу и своё, такое явное, хоть в ладони спрячь, как монету, предчувствие.
Оглядевшись и никого не увидев, Артём присел на корточки и полез в ту сторону, где таился вчера.
Испуг его был глубокий, резкий, но недолгий: на том же самом месте сидел другой человек, в студенческой фуражке, и таращил глаза.
Артём первым взял себя в руки: он узнал Митю Щелкачова.
– Ты чего здесь? – спросил Артём негромко, поймав себя на снисхождении, которое испытывал сейчас к молодому человеку – как будто сам тут вчера не был.
Митя наконец-то признал Артёма, но всё равно не успокоился.
– Четыреста человек расстреляли, – сказал Щелкачов, у него зуб на зуб не попадал.
– Тридцать шесть, – сказал Артём.
– А? – не понял Щелкачов. – Меня ищут.
– Вылезай, – сказал Артём. – Все чекисты спят. Никто тебя не ищет. Кому ты нужен.
– А? – снова не услышал Щелкачов, хотя разговаривали они лицом к лицу.
Митю трясло.
– Подвинься, – попросил Артём и толкнул Щелкачова в лоб: всё равно тот ничего не соображал.
Щелкачов неловко передвинулся назад, верно, ожидая, что Артём хочет забраться к нему.
Артём повозил рукой там, где сидел Митя, – ну, так и есть. Вот пропуск.
На всякий случай Артём поднёс бумагу к самым глазам.
Он вздохнул так легко, так спокойно, так благодарно, словно это было не право на проезд до Лисьего острова, а постановление о полной амнистии.
Не прощаясь с Щелкачовым – сидит себе и сидит, – Артём полез обратно. Было тесно и неудобно, но он всё равно улыбался, пока полз, и не перестал улыбаться, когда выпрямился в полный рост и боковым зрением увидел стоящих поодаль Ксиву и Шафербекова, выследивших его, потом, наверное, потерявших и сейчас опять заметивших.
– Вот тебе ещё один пропуск сейчас выпишут, – сказал Артём вслух; не глядя, зацепил верхнее в крайнем ряду дровни полено, прижал его стоймя к груди – как ребёнка-переростка – и так, вида не подавая, пошёл в сторону своего корпуса.
Нижний край полена закрывал пах, верхний тёрся о висок.
Вокруг была темнота, свет монастырских фонарей едва доходил сюда, и стоило двигаться аккуратно, чтоб не упасть.
Артём старался идти быстро, но не настолько, чтоб шумом своих шагов и стуком ухающего сердца заглушить топот догоняющих его людей.
У него хватило выдержки – или усталой отупелости последних двух суток – не торопиться. В последнее мгновенье он ослабил руки – полено юркнуло вниз – Артём поймал его за самый конец и с разворота ударил в голову того, кто его нагонял.
Это был Ксива, который, сделав два, ещё с прежнего разгона, шага куда-то вбок, завалился на колено и помешал Шафербекову, полетевшему через него кувырком.
В руке Шафербекова был нож – нож выпал и прокатился по булыжнику.
Артём, сразу после удара выронивший своё полено и по инерции отступавший назад, всё видел – и Шафербекова, и нож, но ему уже недоставало бешенства и мужества на то, чтоб устроить здесь резню.
Он ударил по ножу ногой так, чтоб тот отскочил куда подальше, и, развернувшись, побежал.
За ним никто не гнался.
– Битый фраер! – шептал Артём. – Я битый фраер! Битый фраер двух небитых блатных перебьёт!
Его разбирал отчаянный смех.
Неподалёку от корпуса он перешёл на шаг и снова потрогал пропуск: здесь, нет? Не выпал?
Да на месте, на месте, иди уже прочь со двора.
* * *
Утром, сразу после гудка, чуть ли не привычный уже Артёму, явился за ним красноармеец: опять в ИСО.
“Как посыльного гоняют за мной”, – посмеялся он, раздумывая, стоит ли чего брать на Лисий или оставить всё здесь. Посылку у матери так и не взял. Ну, Галя потом привезёт.
– Поторопись, – сказал красноармеец.
“Я тебе потороплюсь сейчас, остолоп”, – мысленно ответил Артём. Мог бы и вслух сказать, но зачем.
Он выспался. Жизнь, хоть кривая на лицо и стыдно пахнущая, настырно возвращала свои права. Он не желал ни за что отвечать. Бегущие с острова и готовящие смерть другим знают, что взамен им могут предложить их собственную смерть. Режущие других на части помнят, что их тоже могут разрезать и засолить в соловецком море. Артём же больше всего на свете хотел прибирать за лисами.
Кормушки на Лисьем острове были с крышками, и крышки надо было непременно закрывать, потому что лисы имели дурное обыкновение гадить туда, откуда ели.
Знания о кормушках и лисьем характере Артёму было вполне достаточно для продолжения жизни. Других знаний ему не требовалось.
В келью вошло сразу несколько человек: дневальный, командир роты, двое лагерников с кешерами – заселялись, наверное.
– Тебе чего тут надо, шакал? – с порога заорал командир второй роты на Артёма.
“Озверели, что ли, с самого утра”, – подумал Артём, мелко моргая, словно его одолела мошкара.
– Ходит сюда второй день как к себе домой – я ж не знал, что его перевели, – приговаривал дневальный подобострастно, одновременно косясь бешеным собачьим глазом на Артёма. – Я ж его помню, а что перевели его – он не сказал, идёт в роту, как на свою квартеру.
– Твоё место где, шакал? В зверинце! – ротный сделал шаг к Артёму, чтоб зазвездить ему кулаком промеж глаз, но тут стоял красноармеец, который неизвестно с чем пришёл и мешал свершиться скорому суду. – Постоялый двор себе нашёл? Выметайся отсюда пулей!
Артём и так выметался.
Заметил, что, судя по отчуждённому выражению лиц, заселявшиеся лагерники не чувствовали никакого сочувствия к нему – но, напротив, душевно поддержали бы ротного, если б Артёма бросили на пол и потоптали.
– Как в норе спал, шакалья морда, – вослед уже рычал ротный: он сорвал с кровати присыпанную землёй простынь и бросил Артёму вслед.
Артём поймал её и, не зная, куда деть, накрутил на руку.
“Никто меня, битого фраера, ударить не смеет, – посмеивался Артём. – Вот, даже простынку отдали…”
Развернув её и чуть перетряхнув, Артём накинул простынь на плечо и пошёл, как в белом, пусть и грязном, плаще.
Красноармейцу было всё равно, да и в монастырском дворе никто внимания не обращал – на Соловках и не так ходят… может, парень всё своё имущество носит на себе.
“…Это у меня носовой платок такой, – дурачился Артём. – Пусть Крапин обзавидуется”.
В ИСО шедший первым красноармеец направился не вверх по лестнице, а в другую сторону, по нижнему этажу, и Артём остался его дожидаться: может, служивому надо к товарищу разжиться махорочкой.
Хотя сердцем он всё уже понял.
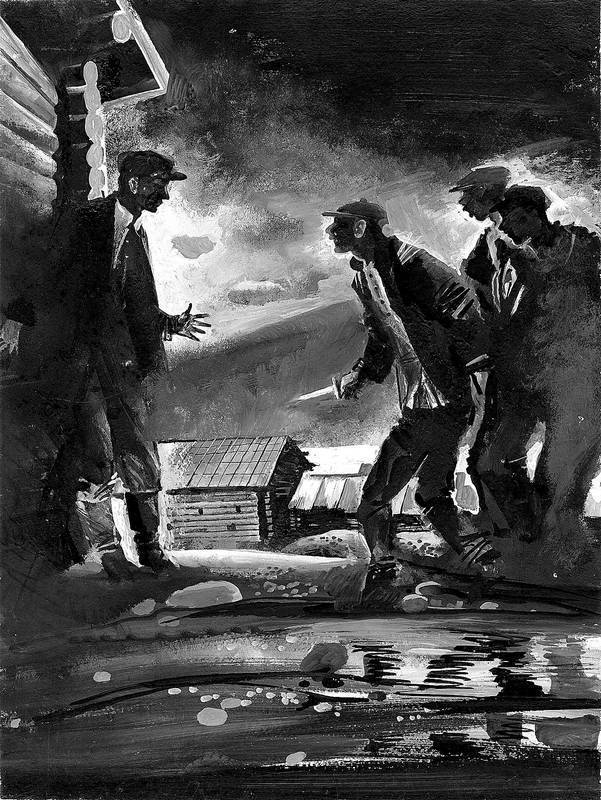
Понял даже, когда ещё дурачился с простынёй.
– Чего встал? – гаркнул красноармеец, бегом вернулся к Артёму, схватил за шею и толкнул впереди себя и кулаком ещё добавил промеж лопаток.
Они спустились по древним каменным ступеням вниз, в подвальные помещения, красноармеец постучал в железную дверь кулаком, оттуда спросили: “Кто?”. “Горяинова привёл”, – ответил красноармеец, ни одной буквы в его фамилии не перепутав.
Его заперли тут же, у железных дверей в тёмном, без окон, пропахшем влагой помещении.
Артём стоял при входе, привыкая к темноте и вслушиваясь: нет ли здесь ещё кого-то. Судя по звуку, какой дала захлопнувшаяся за спиной Артёма дверь, помещение было небольшим.
И пустым.
Располагайся – живи.
– Да проснулся он уже, веди, – громко сказали в коридоре.
Дверь снова открыли, и Артёму велели выйти.
– А я только начал обвыкаться, – сказал Артём.
Красноармеец не отвечал, а только подкапливал злобу для следующего удара.
Они пошли обратно тем же путём.
“Сейчас вернут меня в келью и скажут: “Ложись, досыпай, парень, извини, что потревожили! Скоро лодку за тобой пришлём… Прямо в монастырский двор. Тебе моторную или под парусом?…” – рассказывал себе, как сказку на ночь, Артём.
В кабинете на втором этаже сидел Горшков, выглядевший погано, малоспавший, тугие щёки обвяли, но в приподнятом настроении, даже с лукавинкой в глазах.
“Всё не пыточная”, – попытался обрадовать себя Артём.
На стенах в нескольких местах была выщерблена извёстка.
“А это Бурцева кабинет, – легко догадался Артём. – Вот теперь тут кто поселился”.
В комнате был бардак, который едва начав прибирать, оставили как есть: ящики шкафов явно вынимали, а то и выламывали целиком, потом кое-как загоняли обратно, несколько бумаг, затоптанных, так и лежало на полу, кипа папок была свалена в левом углу за спиной Горшкова.
– Он и с простынкой уже, – сказал Горшков, но словно не Горяинову, а кому-то ещё, незримому. – Зубы в неё будет собирать!
“С Бурцевым он, что ли, разговаривает, мразь полоумная”, – подумал Артём.
Новый хозяин кабинета кивнул на табуретку возле стола.
Артём сел, сложив скомканную простыню на коленях.
– Фамилия?
Он назвал себя. Статью. Срок.
– Вершилин Василий Петрович – знаете такого? – спросил Горшков, вздохнув чуть устало, но с тем чувством, когда человеку ставят вторую, а то и третью тарелку супа, которую придётся осилить.
– Василия Петровича? – переспросил Артём. – Как же не знать: мы в одной роте с ним были. И спали рядом.
– Мезерницкого Сергея Юрьевича? – Горшков иногда что-то помечал в своих бумагах.
– Мезерницкого? – нарочно переспрашивал Артём, чтоб подумать, хотя едва ли тут можно было что-то особенное надумать. – Видел.
– До заключения в СЛОН с ним встречались?
– С Мезерницким? Нет, конечно. Только в лагере его видел.
– Сколько раз?
– Пару раз.
– При каких обстоятельствах?
– При каких… Сначала живого, потом мёртвого.
Горшков собрал губы куриной гузкой, не столько раздумывая, сколько отдыхая. До шуток Горяинова ему не было никакого дела.
– Бурцева Мстислава Аркадьевича, – спустя немного времени не без удовольствия произнёс Горшков: было ощущение, что он, называя каждую фамилию, строит из кубиков стенку, – …знал?
Артём откашлялся, хотя кашлять не хотел.
– Бурцев тоже был в нашей роте, – сказал он. – Как Василий Петрович.
– Я спрашиваю: знал его лично? – повторил Горшков, вперив в Артёма свои маленькие глаза.
– Знал лично, – сказал Артём, – но близких отношений не поддерживал.
– Встречался ли ты с Бурцевым в келье Мезерницкого на посиделках, которые вы называли… – Горшков поискал в бумагах на столе, – …Афинскими ночами?
– Вечерами, – поправил Артём.
Горшков смотрел на него маленькими глазками, не моргая. Артём помолчал и повторил:
– Афинскими вечерами. Встречался однажды.
– Или дважды? – спросил Горшков. Артём ещё раз откашлялся.
“Интересно, знает ли Галя, где я? Её кабинет как раз над этим. Может быть, закричать нечеловеческим голосом, и она услышит?”
– Вы обсуждали с Бурцевым его службу в Информационно-следственном отделе? – копал своё Горшков.
“Гражданин начальник роет новый заговор, чтоб Ногтев его оценил и назначил своим лучшим товарищем”, – безо всякого усилия догадался Артём. Оставалось непонятным только, что делать ему во всей этой истории. Лисы-то голодные, наверно. На кормушках крышки не закрыты. Крапин злой ходит.
“С другой стороны, – стараясь думать медленно, словно бы ступая по болотным кочкам, рассуждал Артём, – я ни в чём не замешан и ни в чём не виновен. Кроме того, что видел Бурцева у Мезерницкого, ничего за мной нет”.
Артёму помогало то, что Горшкова он наблюдал тогда на острове Малая Муксольма и знал про мелкую суетливость этого чекиста, помнил, как Эйхманис выбил из-под него табурет. Не боялся Артём Горшкова и был, насколько возможно, спокоен; хотя, может быть, и зря.
– Нет, никогда, – сказал наконец Артём. – У нас были дурные отношения. Однажды он избил меня. Из-за него я лежал в лазарете. Мы вообще с ним не разговаривали.
Горшков пошевелил куцыми бровями и, похоже, не поверил ни одному слову, сказанному Артёмом.
– Откуда ты тогда знал, что Граков является секретным сотрудником Информационно-следственного отдела? – спросил Горшков и, крайне довольный, откинулся на спинку стула.
Глазки его имели выражение умилительное и, да, лукавое.
“Сдал меня Василий Петрович”, – сказал себе Артём и даже забыл от тихого, сердечного удивления, что ему надо отвечать.
– Откуда знал про стукача? – вдруг заорал Горшков и резко встал с места.
– Я не знал ничего ни про какого стукача! – громко, словно так было убедительней, ответил Артём.

