Владимир Житомирский
Враг Геббельса № 3. Фронтовой дневник
Глава I
Семейная реликвия
Я стараюсь брать в руки эту книгу как можно реже – знаю, что, подпав под ее магию, уже не оторвусь от нее, вновь не прочитав до конца. Она затрагивает некие потайные струны, включает такие эмоции, что надолго выводит тебя из душевного равновесия.
Взгляд сразу упирается в пронзительные слова «Я знаю и помню, что ты ее будешь читать, Володька, и поэтому здесь все правда. Здесь не потребовались черновики и карандаш. Эта книга написана сердцем, тушью, пером. Для каждого рисунка потребовалась вся моя жизнь и еще полчаса. Это не мои слова, но это так».
Это семейная реликвия – рукописная книга «Мечты о прошлом и будущем», написанная моим отцом, Александром Житомирским, с его же полосными рисунками.
Это не дневник. Это свободные записки, воспоминания о детстве и наполненной оптимизмом довоенной жизни. Записки очень личные: пишущий их постоянно обращается к жене – моей маме, к своему отцу, своему сыну, старым друзьям.
Он начал писать книгу в разгар войны.
Отец тогда работал в редакции «Иллюстрированной газеты», которая с началом войны стала именоваться «Фронтовая иллюстрация». Размещалась редакция в здании «Правды». Поначалу издание предназначалось для красноармейцев. Но вскоре был спущен приказ делать еще и выпуск для немецких солдат, на немецком, разумеется, языке.
Вот как отец вспоминал этот день:
«Стоял июль сорок первого. Мы подошли к Новинскому бульвару. Белые колонны рухнули на асфальт. Вырвалось пламя, огонь продолжал бушевать. На фронтоне, на желтом фоне летели два ангела. Они трубили, словно хотели рассказать всему миру: гибнут книги! Горел самый красивый дом Москвы – Книжная палата… Уже месяц на нашей земле свирепствовала война. Мою жену Эрику с шестимесячным сыном отправил в Тбилиси к ее родителям. Мы, сотрудники еженедельника «Иллюстрированная газета», приложения к «Правде», жили в редакции, спали на холодных клеенчатых диванах и делали никому не нужный журнал. Однажды в свободный вечер решил проверить, цел ли мой дом. С приятелем, ретушером Сашей Комаровым, пришли на Трубниковский переулок. Дом был цел. Выпили бутылку вина, погрустили: журнал наш – дохлое дело, мы в стороне от схватки. На душе было скверно. С горьким чувством легли спать.
Вдруг зазвонил телефон. Это была Галина Николаевна Плеско, совесть нашей редакции, мы все ее любили и дружили с ней. Она была заместителем редактора. «Вот что, ребята. Как только можно будет передвигаться, молнией в редакцию. Срочное задание. Жду вас часам к шести…». Тогда уже были введены ночные пропуска, и у нас их еще не было. Мне показалось, что до шести еще далеко, я завалился на диван и вновь заснул. Меня разбудил телефон. То, что я услышал в трубке, сняло сон как рукой. Галина Николаевна ругалась, как матрос во время шторма. Мы вскочили, словно ошпаренные кипятком, небритые и голодные схватили такси на Кудринской площади. Оказалось, ночью ее вызвал начальник Политуправления Красной армии Мехлис и дал срочное задание подготовить макет нового журнала «Фронт-иллюстрирте» (Front-Illustrierte) для немецких солдат. Плеско обещала, что к девяти утра макет будет готов. Мы примчались в редакцию в 8.20! У меня в распоряжении было пятнадцать фотографий с фронта, название журнала и сорок минут. Ровно в девять Галина Николаевна увезла макет, в который вошли все фотографии, была намечена концепция будущего издания, нарисован заголовок, не менявшийся до конца войны. Так родился наш боевой журнал. С этого июльского дня и до самой победы все мои мысли были заняты пропагандой среди войск врага. Когда вышло несколько номеров журнала, Мехлис показал их Сталину. Тот их одобрил».
Продолжая делать журнал «Фронтовая иллюстрация» для нашей армии, маленький коллектив теперь готовил и издания для немецких солдат – помимо Front-Illustrierte еще и Freies Deutschland in Bild. Отдельные номера Front-Illustrierte выходили на итальянском, финском, венгерском. А еще делали фотогазету и листовки о героях войны на русском языке для наших и – важнейшая вещь! – контрпропагандистские листовки на немецком с фотомонтажами А. Житомирского.
Появились они таким образом.
Отец был и художником-оформителем, и автором фотомонтажных иллюстраций всех изданий. И вот на одном из его монтажей начальник Главного политуправления Красной армии (ГлавПУРа) написал: «Печатать отдельной листовкой. Тираж – один миллион». Так родились иллюстрированные листовки. На лицевой стороне был напечатан фотомонтаж, на «реверсе» – на русском и немецком языках текст, подтверждающий намерение предъявителя добровольно сдаться в плен. К таким солдатам отношение было получше, чем к захваченным против их воли во время боя.
Нет точной цифры, скольких немцев уберегли от смерти такие листовки, скольких – от совершения новых убийств. Соответственно, сколько наших – в форме и в обычной одежде – было, таким образом, спасено…




Обложки журнала Front-Illustrierte с фотомонтажами А. Житомирского.
Эти же монтажи затем печатались в виде листовок
С редакцией сотрудничали известные писатели: Илья Эренбург, Алексей Толстой, Эрик Вайнерт, такие деятели, как Вильгельм Пик и Вальтер Ульбрихт, позже – попавшие в плен внук Бисмарка летчик фон Айнзидель и фельдмаршал Паулюс. Среди авторов карикатур и рисунков были ведущие художники и карикатуристы Юлий Ганф, Борис Ефимов, Кукрыниксы, Николай Жуков, венгр Шандор Эк.
Редактором поначалу был литератор Михаил Эдель. По словам отца, «смелый и приятный человек». До войны Эдель служил в погранвойсках, на западной границе, был наполнен забавными рассказами, которыми щедро делился. Вот одна из таких баек. Как-то к нему за советом пришел один очень пожилой человек. Рассказал, что его сын уехал на Землю обетованную, а его, отца, к нему не выпускают. Пограничный начальник поинтересовался, знает ли его гость древнееврейский язык. И когда выяснилось, что тот этим языком владеет, посоветовал написать на нем письмо… Горькому на Капри. Тот, мол, многим из тех, кто к нему обращается за помощью, помогает. А письмо на таком редком языке не должно пройти мимо его внимания. Так и получилось. С помощью пролетарского писателя отец воссоединился с сыном…
К сожалению, спустя несколько месяцев Эдель чем-то проштрафился, и на его место был назначен майор Л. Железнов. По отзывам отца, «неглупый журналист, но трусоватый человек». После войны они с Железновым не общались. А вот подмеченная трусоватость, по воспоминаниям многих, этому человеку очень даже пригодилась. Став ответственным секретарем журнала «Юность», он сделался фактическим цензором, вымарывая из произведений страницы, а то и целые главы, которые теоретически могли бы не понравиться кому-то «наверху». Сотрудник редакции Илья Суслов, случайно увидевший, как тот корежит повесть Василия Аксенова, обозвал его крепким словом, за что едва не вылетел с работы. А Анатолий Кузнецов, получив рукопись своего «Бабьего яра» после изуверской правки ответственного секретаря вкупе с еще несколькими редакторами, пришел в такую ярость, что потребовал вернуть рукопись. А когда ему ее не отдавали, ринулся в драку и силой вырвал машинописные листы. Правда, у редакции оказался еще один экземпляр, и кастрированный роман все же вышел в свет. А вот поэт Юрий Ряшенцев, работавший в «Юности», даже вспоминает о словечке, порожденном стилем работы ответственного секретаря: «У нас в редакции существовал термин “леопольдирование материала”. Это означало крайне пристальное, на просвет, прочтение всех сочинений Леопольдом Железновым, после чего можно было не бояться никакой цензуры. Борис Полевой безгранично доверял своей правой руке».
Много лет спустя отец как-то утром сказал мне, что ночью ему приснился Железнов. Когда стало известно, что в тот день этот человек умер, отец задумчиво произнес: «Похоже, он прощался со своими знакомыми, слал нам сигналы…».
Это будет гораздо позже, а пока, в начале войны, Железнов, вспоминал отец, «полностью переключился на русское издание «ФроЦнтовой иллюстрации», отстранился от Front-Illustrierte на немецком и таким образом дал мне полную свободу творчества в этом журнале». К счастью, репортажей с фронта хватало. В штате редакции работали талантливые фотомастера: Анатолий Гаранин, Аркадий Шайхет, Галина Санько, Марк Редькин, Анатолий Григорьев, Анатолий Морозов и другие. «Хорошие ребята и мужественные люди, – сказал мне как-то отец, говоря о том времени. – Я дружил с ними. Да и весь наш маленький коллектив был дружен. Быть может, нас особенно цементировала общая неприязнь к нашему редактору».
Работали много, работали как одержимые, рассказывал отец. Плюс к этому дежурства на крыше здания «Правды» во время немецких налетов. Когда удавалось поспать часа четыре на своем клеенчатом ложе, считал, что сегодня выспался.
Мы захватили половину этажа в «Правде», вспоминал он, и у каждого из нас была комната, в которой мы жили и работали. Я укрывался шинелью на своем диване и зимой по утрам, чтобы согреться, бежал в душевую рабочих типографии, где был горячий душ… Затем – насыщенный рабочий день, а после, в случае объявления воздушной тревоги, – бегом на крышу, к щипцам и ящикам с песком, куда следовало бросать упавшие зажигательные бомбы.
В редакции всем было известно, что в планшете у пленного немецкого летчика на плане Москвы были помечены десять главных целей, в том числе издательство «Правда», а также расположенный по соседству авиазавод. К счастью, противовоздушная оборона – зенитки, прожектора, аэростаты – препятствовала прицельному бомбометанию. Правдисты даже шутили: самое безопасное место при бомбежке – сам военный объект. В издательстве сгорел гараж, на авиазаводе – столовая, а вот вокруг – много домов.
Однажды запылали деревянные бараки-общежития. Их обитатели находились в бомбоубежище. Чтобы избежать паники, им не сообщили об отбое тревоги. Журналисты бросились спасать их вещи, пока пожарники тщетно заливали обугленные остовы водой. На рассвете, отжимая промокшую насквозь форму, отец подошел к окну и впервые за эту ночь улыбнулся. Вся улица была заставлена домашней утварью, швейными машинками, фикусами. Но подле черного пепелища, оставшегося от бараков, нетронутым стоял деревянный «голубой шалман», где любители горячительного обычно пропускали стопку-другую водки «с прицепом» – кружкой пива. Тогда подумалось: похоже, бог не только бережет пьяных, но и порой заботится о местах, где они таковыми становятся…
К счастью, налеты происходили время от времени, а обычно по окончании трудового дня, в час или два ночи сотрудники собирались в комнате отца. Каждый приносил, что у кого было: луковицу, хлеб, кусок колбасы. Хозяин выдвигал две доски из рабочего стола, опрокидывал на спину принесенный из дома темно-зеленый прямоугольный электрокамин на ножках сеткой вверх и поджаривал на ней бутерброды. На них образовывалась шотландская клеточка. Получалось красиво, но не слишком сытно. С едой тогда было туговато. (Впоследствии возвращенный домой, этот камин не один год служил нам зимними вечерами.)

Согреет ли тебя это?
Листовка

Этот ефрейтор ведет Германию к катастрофе
Листовка

Каждый немецкий солдат на Восточном фронте – смертник!
Листовка

Три даты
Листовка
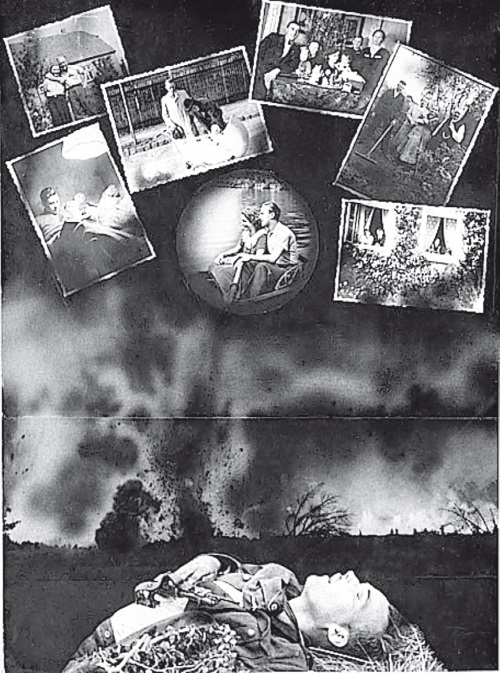
Гитлер отнял у тебя счастье
Листовка
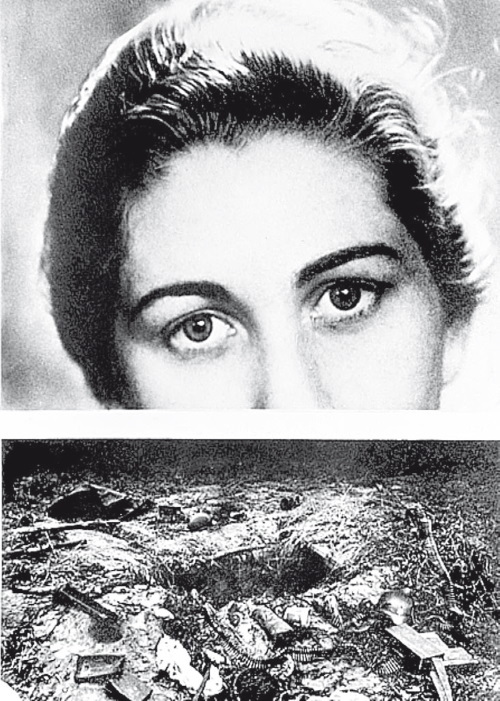
Так будет!
Листовка

Покончить с ним!
Листовка

Вот они, резервы Гитлера!
Листовка

Геббельс: «Теперь немец должен считать своим элементарным политическим долгом не спрашивать, когда окончится война»
Листовка

Гитлер виноват
Листовка

К ответу!
Листовка

У тебя была жена, у тебя была дочь
Листовка
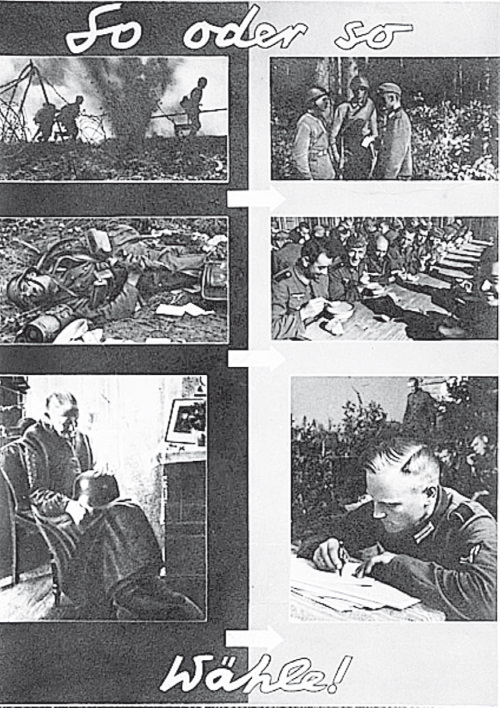
Так или так. Выбирай
Листовка

Это – «Восточный вал»!
Листовка

Он вернется!
Листовка
Об атмосфере, царившей в редакции, куда она пришла молодым литсотрудником, рассказывает в своих воспоминаниях Раиса Мирер: «Работаем мы в редакции часов по двенадцать в сутки, а то и больше. Шура Житомирский, художник, тот вообще живет в своем кабинете: жена с маленьким сыном в эвакуации. Фотокорреспонденты – почти все молодые и холостые парни – рады между поездками на фронт побыть хоть несколько суток в тепле и уюте, в дружеской компании, расслабиться, потрепаться, выпить. Спирта всегда вдоволь, ребята с фронта привозят. Возвращается один из них живой, невредимый – ну как не отпраздновать? Закончим работу, пусть хоть за полночь – и к столу! А стоит этот огромный стол в конференц-зале «Крокодила», который пока отдан нашей редакции… Днем за столом работают художники и ретушер. Мой письменный столик в этом же зале, в уголке. Ну, а по ночам… Стол «роскошно сервирован»: на бумажных кружочках хлеб и лук, а рядом надписи – «ветчина», «индейка», «жаркое»… Зато спирта – полно! Настроение у всех прекрасное: летом 43-го советские войска уже начали наступать и идут, идут, идут на запад. Мы пьем за победу, за свой журнал».
Когда поздно ночью заканчивалась работа над очередным номером (а по воспоминаниям отца, оформителям нередко приходилось работать и по восемнадцать часов), макет после утверждения тут же отправляли в типографию, чтобы затем весь тираж доставить «подписчикам» – сбросить пачки с журналами над расположением немецких войск.
И вот перед сном отец мог позволить себе на короткое время отстраниться от всего, чтобы погрузиться в прекрасное прошлое. Чаще это происходило прямо за редакционным столом. Хотя порой все же удавалось выбраться из редакции, дойти пешком до родного Трубниковского переулка, соединявшего улицу Воровского (в прошлом и ныне – Поварскую) с Арбатом. Главное – не забыть пропуск «на беспрепятственное движение по гор. Москве позже 24 часов», подписанный комендантом Москвы генерал-майором Синиловым. И побыстрее миновать фабрику «Большевик» с ее дразнящими кондитерскими запахами. А дома, включив лампу на рабочем столе, отец мог хоть ненадолго отрешиться от этих фото с еще смеющимися или уже убитыми фрицами (личные фото, взятые у пленных или убитых немцев, мешками привозили в редакцию, съемку боев делали штатные репортеры «Фронтовой иллюстрации»). Возникала возможность окунуться в часы или дни счастья – его ждала недописанная книга.
А началось с того, что ему случайно попался макет какой-то книги – бежевый ледериновый переплет и чистые страницы внутри. Тонкие листы бумаги чередовались с плотными кремовыми, на которых можно было рисовать. (Рисунки см. в конце главы I. – В.Ж.)
«Все мои мысли были сосредоточены на пропаганде среди войск врага, – вспоминает отец. – Для того чтобы сохранить остатки внутреннего равновесия, я придумал себе маленькую отдушину. Прежде чем лечь спать, я минут сорок проводил вне войны. На левой странице писал что вспомнится из довоенного прошлого, на правой делал набросок – иллюстрацию к тексту. То и другое тушью, без черновиков. Быть может, это и придало им большую достоверность. Так родилась эта лирическая книга… На переплете вклеил фото – лицо автора, напряженное и встревоженное, слева моя жена катит в колясочке годовалого нашего сына… Написал: “Мечты о прошлом и будущем”».
Главная тема? «Это книга о счастье», – отвечает на этот мысленный вопрос автор. И в самом начале объясняет главное: «Война. Горе наших людей – мое горе. Мозг и сердце разрываются от этой тяжести. Эта книга – моя соломинка, она должна спасти меня».
Первая запись адресована моей матушке: «Я устал. Я недоспал целые месяцы. Я мечтаю о море. Сегодня я сказал тебе, Эрика, что меня хватит еще на две войны. Так ли это?». Автор – художник, и на соседней странице воплощение тогдашней мечты: собственная фигура со спины у кромки моря, рядом на траве – сидящий малыш со шлейками крест-накрест, вдали прекрасный лайнер, стайка дельфинов.
Вспышка-воспоминание:
«Мы оба очумели от солнца, песка и воды, от жары и счастья. Я и сеттер-гордон моего друга. Мы бежали по длинной песчаной косе, отбрасывая пятками мокрый песок. Вокруг солнца сияла радуга. Гордона звали Фатран. Мы оба не крепко задумывались над жизнью. Мы просто переполнены были счастьем». Этим чувством проникнута и соседствующая иллюстрация. В стройном загорелом бегуне нельзя не узнать будущего автора рисунка.
А вот как выглядел в еще более юном возрасте автор, который еще вчера провел несколько часов на крыше здания «Правды», спасая его от немецких зажигательных бомб. Он – один из пары незадачливых юнцов-голубеводов, устроившихся на ростовской крыше… Это уже иллюстрация к следующей записи.
«Голуби кувыркались высоко в синем небе. Мы впервые выпустили голубей и не знали, как их вернуть в голубятню. Потом новое огорчение постигло нас. Огорчение имело четыре ноги и хвост. Кошка повадилась отрывать головы нашим голубям сквозь перекладины дверцы. Мы стали беспощадно мстить… Новое увлечение, шахматы, вытеснило голубей. Мы устраивали бесконечные шахматные турниры. Помнишь, друг моей юности Володька, как мы пришли в настоящий шахматный клуб? И там играли лысые и очкастые доктора. И я устроил маленькую сенсацию, выиграв у московского мастера во время сеанса. Эта была единственная проигранная им партия. Потом ты стал моряком и жил в Ленинграде. Где ты теперь, Владимир?»
В еще более давние годы уводит нас новая запись. Она говорит и о выборе будущего пути и месте, которое займет в жизни Александра его отец, точнее – память о нем.
«Отец играл на виолончели. Это случалось с ним редко. Я пришел к нему, запыхавшись от радости. Я принес ему мой первый рисунок. Это был странник в дырявом рубище. Толстый том – издание Вольфа, и на правой странице иллюстрация с четверостишием: «Духовной жаждою томим, / В пустыне мрачной я влачился, /И шестикрылый серафим /На перепутье мне явился…» Сказочно красивый серафим не привлек моего внимания. Странник – вот первый мой рисунок… У отца были умные, очень внимательные глаза, и очень красивые. Он сказал мне: «Ну, иди, заканчивай…». В этом были удивление и гордость. Я был счастлив… Мы очень похожи с тобой, отец, но я потерял иллюзии раньше тебя. Ничего, что я был маленьким, когда ты умер. Я знаю тебя. Я знаю, как ты поступил бы в том или другом случае. Любовь к тебе взрослеет вместе со мной».
Нечастая похвала, которая слышалась за сдержанными словами, окрылила юного Шуру, как его называли домашние, а вслед за ними и все родные и знакомые на протяжении всей жизни. «Шура», «Александр», но – не «Саша», такого слышать не доводилось. Напутствие моего деда стало для него пророческим. Сколь, как сейчас бы сказали, «судьбоносное» для него, столь и трогательное событие, запечатлено им в рисунке на соседней полосе
В его семье было еще трое братьев и три сестры. Глава семейства работал в аптеке на первом этаже. Он рано ушел из жизни. Мой отец потерял своего отца в 13-летнем возрасте, в растерзанном гражданской войной родном Ростове-на-Дону: сыпной тиф. Мать (мою бабушку) с необычным для сегодняшнего уха именем Слава мне довелось увидеть, когда в 1945 году отец привез меня в разбомбленный Ростов. Я с трудом узнал в очень пожилой седой женщине девушку с роскошной русой косой, фото которой под толстым стеклом всегда стояло на рабочем столе отца. В ростовской квартире еще запомнился ящик, заполненный разнообразными фотокамерами: в семье увлекались фотоделом. Видимо, это осталось в его подсознании. Отец придет к пониманию значения фотодокумента как элемента искусства, но позднее, когда освоит карандаш, перо и кисть.

Мать и бабушка

Отец художника
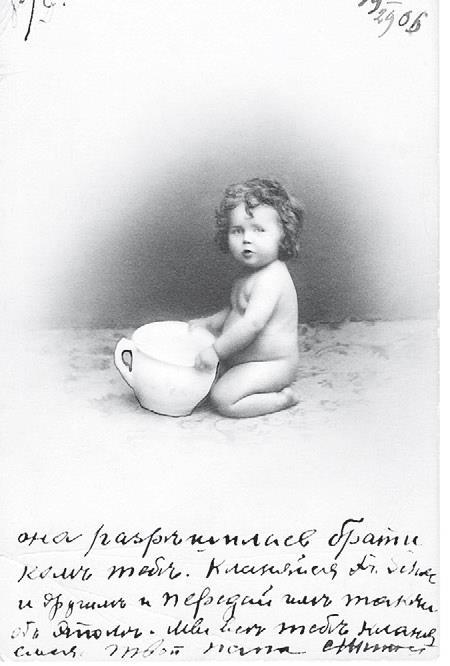
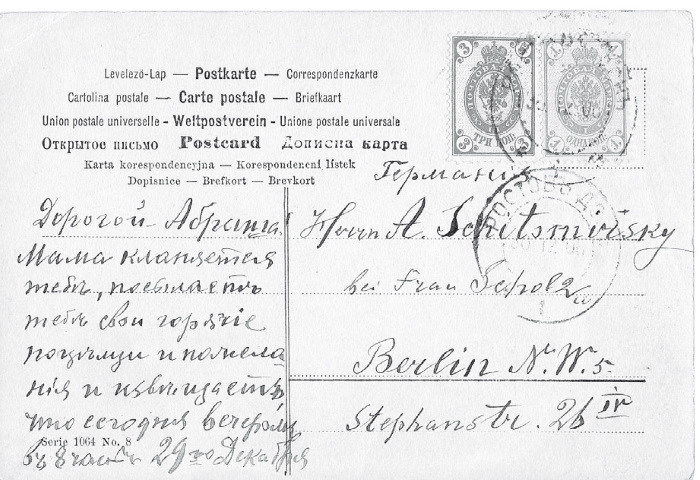
В открытке, посланной отцом будущего художника своему старшему сыну, находившемуся в тот момент в Германии, сообщалось о рождении брата

Гимназист
(3-й справа в 3-м ряду)
Между тем в школе уроки рисования Шуре казались скучными. В итоговой ведомости за один из классов в графе «оценка» даже появилась удивительная запись: «Рисования избегает». Могли ли думать учителя, что в городской картинной галерее рисунки этого шалуна будут висеть на самом почетном месте?.. А тогда ему хотелось скорее сбежать на берег Дона, где ждала лодка и трое закадычных друзей.
Как не вернуться хотя бы умозрительно в те безоблачные годы?
«Жара была невероятная. Казалось, мозги вытекают через нос. Каблуки прилипали к мягкому асфальту. Пыльная листва не давала прохладной тени. Стоял июль в Ростове. Мы все лето провели в шлюпке моего друга. Шлюпка называлась «Посейдон». В Ростове ее знали все. Именно в эти дни нас осенила мысль пойти на веслах в Азов.
Володька, Адольф, Дода и я – вот из кого состояла наша молодая жизнерадостная и непрактичная команда. Мы взяли до смешного мало еды, брезентовую палатку, книги и мелкокалиберную «винтовку». Двое на веслах, один на руле, один отдыхает. Каждые полчаса – смена. С провизией мы расправились довольно скоро. Единственная еда, которая нам повстречалась, – это серая цапля в камышах на Казачьем острове. Но то ли наши пульки не долетали до нее, то ли не причиняли ей никакого беспокойства, – цапля не обращала на нас внимания.
К вечеру мы пришли в какую-то станицу под Азовом и там заночевали. Отдыхавший там наш общий приятель Инька напросился ночевать к нам в шлюпку – в доме его закусали блохи. Три банки и корма были заняты нашей командой. Иньке пришлось устроиться на дне под банками. Видимо, он прихватил несколько блох с собой. Всю ночь он ворочался, и банки под нами ходили ходуном. Мне надоела эта канитель, и еще до рассвета я открыл пальбу из нашего ружьеца.
Солнце выползало из тумана над рекой почему-то овальным желтком. Мы отправились на базар. Обнаружили хорошие арбузы, превосходный каймак – сливки с топленого молока, и отвратительные папиросы. Вся остальная еда кудахтала, крякала и блеяла, и мы не знали, как с ней обращаться… Азов почему-то потерял для нас прелесть, и мы, будучи в нескольких километрах от него, сели на весла и погребли домой. Сочетание каймака с арбузами сказалось довольно скоро. У меня и Доды заболели животы. Как назло, кругом были рыбаки и среди них немало рыбачек. Мы подчалили к камышам. Забрались поглубже и только расположились «покомфортабельней», как с дикими воплями вылетели обратно и кубарем с головой плюхнулись в воду. В камышах нас облепила туча слоноподобных комаров.
…Жара, степь, камыши, ковыль. Голубое, выжженное солнцем небо. Над степью струйки горячего воздуха. В нашей шлюпке нас разморило окончательно. И вдруг – ветерок. Нежный, как дыхание любимой женщины. Мы воткнули два весла, натянули брезент. Получился первобытный квадратный парус. Трое спят, один на руле. Каждый час – смена. Ветерок между тем крепчал. Смеркалось. Мы уже прошли яхт-клуб. Несколько километров и – Ростов. На руле я. Вдруг дикий треск разбудил команду и…меня в том числе. Резким ударом нас сбросило на дно шлюпки. Казалось, произошло непоправимое. Рулевой все проспал, и окрепший ветер вогнал нашу лодку в перила деревянного моста. К счастью, никто из нас не пострадал. Мы возвращались домой обгорелые, голодные и счастливые.
Дома моя любимая мать накормила меня. Я лег немного отдохнуть. А проснувшись, не мог понять: почему светло, почему я одетый? Оказалось, я проспал в одежде 14 часов кряду. Вечером мать боялась меня разбудить, она знала, что я уйду шляться с друзьями».
И рядом – зарисовка: нос лодки с гребцом, на заднем плане – фермы моста.
Гребля дала запас прочности для мышц, состояние которых уже на моей памяти отец поддерживал интенсивной утренней гимнастикой. Уже в возрасте 47 лет он предложил мне состязаться с ним взапуски по песчаному пляжу Паланги. И я был рад убедиться, что он в очень хорошей форме.
…Друзья-подростки гребли самозабвенно, ощущая свою власть над могучей рекой, особенно когда двигались против течения. Однажды их перегнал пароход с трубой, из которой валил дым. Перегнал бы и перегнал – да приятелей задело то, что стайка девушек в матросках и нарядных платьицах стала им показывать нос, хохотать, и даже донеслось нечто вроде: «Дистрофики, видно, а грести пытаются…». Мальчишки переглянулись: «Покажем задавакам?!». И взяли такой темп, что поравнялись с судном. Капитан заметил игру и тоже приказал поддать ходу, дым повалил вовсе черный. Но друзей было не удержать – задор придал им еще больше сил, и они перегнали соперника, успев заметить восхищение на лицах барышень. На их счастье, впереди оказался островок, к которому друзья и поспешили причалить, словно именно туда и неслись на своей лодке. Вывалившись из нее, отлеживались на песке добрый час – сил шевельнуться не осталось. «Пусть знают, кто на нашей реке самый скорый», – в конце концов сумел проговорить один из друзей. Упорство (не упрямство) – это качество, формировавшееся в детские годы, впоследствии очень помогало ему в жизни. И когда осваивал профессию, и когда искал «место под солнцем».
«Единственный из нашей команды, о котором я знаю, что он жив и как с ним обошлась судьба, это я. Володька, Адольф и Дода, перемолола ли вас жизнь или вы командуете своей судьбой? Живы ли? Одно я вам скажу ребята: больше я у руля не сплю. Но… мечтаю проспать 14 часов кряду!»
Связь с закадычными друзьями надолго прервалась. Лишь в конце 50-х, когда мы всей семьей на майские праздники поехали в Ленинград, отец одного из них там нашел. Мы были приглашены в гости. Старый дом, темно-бордовые обои, прикрепленные к стенам декоративные тарелки… Хозяин пережил блокаду, оставившую о себе память – больные ноги. И – сдержанность до сухости. Никаких особых «А помнишь?… А вот мы тогда с тобой…». Мне показалось, что нити давней дружбы, подтверждение которой, хотя бы в виде эха, отец мечтал найти, за минувшие годы пересохли. Не стоит называть его имени, ведь это не так и важно.
Детство, Дон, счастье общения с рано ушедшим отцом, материнское тепло – сюда возвращался он своими воспоминаниями в нелегкие минуты.
«Каникулы я проводил в Ростове, у моей матери. Соседи ее уезжали на все лето, и в моем распоряжении оказывались две комнаты. День был насыщен солнцем и приятным трудом. Я греб, купался. Валялся на песке, носился по пляжу, играл в пинг-понг, ухаживал за девушками… Как-то после обеда я растянулся на диване – меня ждал еще длинный вечер. Во дворе неожиданно заиграла шарманка. Она играла старинный вальс надтреснутым голосом. Потом шарманщик играл этот же вальс в соседнем дворе. Я задремал. И сквозь дремоту я слышал, как вальс звучит в следующем дворе. Все дальше и дальше, и совсем далеко, едва слышно и нежно доносился окутанный тишиной, солнцем и голубым небом этот же вальс, превращенный в волшебную музыку. Я заснул, улыбаясь, и сквозь сон чувствовал на лице улыбку…
Мой Ростов, война изранила и растерзала тебя. Война выгнала мою мать из дома. Но ты навсегда останешься в моей памяти счастливым городом моего детства и юности».
Рядом – симпатичная иллюстрация: носки ботинок удобно лежащего человека, раскрытая книга, деревья за окном. Автопортретом это назвать, конечно, трудно. Но ясно, чьи это ноги в замечательных туфлях.
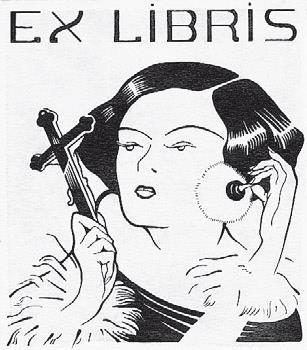
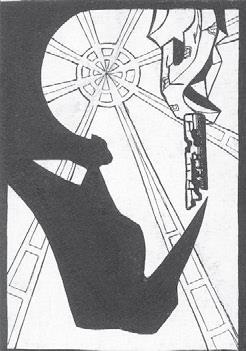
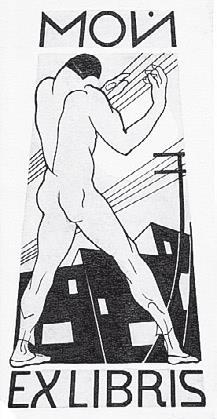
Поиск собственного почерка. Экслибрисы, 1924
Автор раз за разом стремится вернуться в эту прекрасную страну – свое детство, свою юность – перед тем, как на несколько часов устроиться на каляном от холода клеенчатом редакционном диване. Особое место там занимал цирк с его праздничностью и блеском.
«На желтый пол, усыпанный опилками и залитый прожекторами, вышел ярко одетый человек. “Коля Квариани, стУдент тИфлисского универсИтета! – восклицает он с пафосом, коверкая ударения. – Музыка, туш!” На том же подъеме он объявляет по очереди всю шеренгу почти голых мужчин с уродливо развитой мускулатурой – под кожей у них словно спрятаны и перекатываются пудовые гири. Каждый из разрекламированных им выходит из ряда вперед, кланяется, музыка играет туш. Один в черной маске, это неизвестный. Он снимет маску и назовет себя, если будет побежден. Наши детские сердца замирают от восторга. Соревнование протянется много вечеров. И все вечера на неизвестно где добытые деньги мы будем покупать билеты у швейцара цирка и, затаив дыхание, следить за французской борьбой. В своей прелестной наивности мы не подозревали этих немолодых и таких сильных мужчин, судей, сидящих за отдельным столиком с графином воды, в недобросовестности. Нам и в голову не могло придти, что эти взрослые дяди кладут друг друга на лопатки по расписанию. Судья ложился на пол и проверял, обе ли лопатки коснулись ковра. И разъяренный борец переворачивал судейский столик с графином, а мы исступленно кричали вместе с толпой и с побежденным борцом “Неправильно!”.
Потом быстрыми неслышными шагами в зеленых ливреях, белых чулках и черных лакированных туфлях выходили четверо. Ловко скатывали ковер, проверяли стальные тросы, протянутые от широкого, оббитого красным бархатом круга, куда-то в темноту купола, и начинался праздник бесстрашия, ловкости, красоты и мужества. Мы все были влюблены в стройную блондинку, делавшую милый реверанс в публику и кидавшую в аплодирующую толпу ослепительные улыбки.
Акробаты. Любовь к их смелости, к изяществу, родившемуся из точности движений, к этому искусству, помноженному на математику, я пронес через всю жизнь. Всем лирическим тенорам вместе взятым я не аплодировал так сильно, как каждому ловкому, гибкому акробату, показывающему новый номер под куполом.
…Оркестр умолк, и только барабан, взвинчивая нервы, выбивает дробь. Акробат вверху затянул острую часть своего номера, он повторяет свой трюк много раз, он повторяет его бесконечно, он вот-вот сорвется… Толпа ревет: “Довольно!”. Но он никогда не срывается.
Освещенная прожекторами арена, стальные нити, скользящие в темноту, оркестр, бравурный и экспансивный, полные, напудренные, сильно декольтированные дамы в ложах, поглядывающие на борцов и боксеров, духота, веера, неповторимая смесь запахов конюшни и зверинца, пудры и пота. Демократичное, прекрасное зрелище!
Но вот объявляют: ”Вильямс Труцци с дрессированными лошадьми!” Появляется прекрасно сложенный человек, немолодой, но очень моложавый, в белом костюме, в канотье, с длинным, великолепно щелкающим хлыстом. Он показывает чудеса дрессировки. Белые большие лошади, с очень точно нарисованными яблоками на крупе, танцевали вальс с шоколадными лошадьми. Между номерами болтаются под ногами, мешая всем, в том числе и ливрейным служащим манежа, клоуны. Они смешно падают и плоскими, примитивными остротами смешат толпу. Антракт.
Нам нравятся взрослые дамы. Мы открыто глазеем на них, и нам, мальчишкам, кажется, что они нас замечают. Публика чинно кружит по фойе. Под ногами апельсиновые корки и фантики от конфет. Антракт длинный. И тут начинается самое главное. Мы бежим в конюшни. Мы кормим лошадей сахаром. Его за гроши здесь же продают конюхи. Нежные, черные, замшевые губы лошади осторожно берут сахар с детских ладоней. Я чешу лошадь за ухом, треплю ее по шее. Она довольно пофыркивает. Я смотрю в ее большие, печальные и красивые глаза. Мы очень нравимся друг другу, и мы с сожалением расстаемся. Нас разлучает второй звонок. Мы протискиваемся между сидящими, устраиваемся на своих местах, и снова перед нами разворачивается феерическое, радостное, шумное, яркое, веселое зрелище.
Я люблю цирк».
Текст, занявший в этот раз целых три страницы, конечно, дополнен иллюстрацией: подросток кормит лошадь из цирка Труцци. Причем ранние впечатления оказались столь сильными, что отец вернулся к этой теме спустя многие десятилетия, в конце 70-х. Это были легкие, воздушные рисунки, в которых чувствовалась атмосфера циркового действа, стремление артистов радовать зрителей, пусть и ценой скрытого от них изнурительного тренажа.
…Видимо, кто-то, зная его раннюю увлеченность цирком, порекомендовал его, тогда еще совсем молодого художника, Владимиру Леонидовичу Дурову в качестве автора костюмов для животных для новой постановки.
Два дня провел Александр у Дурова. До костюмов дело так и дошло, но встречи запомнились навсегда:
«“Вы ведь не боитесь собак? – с таким вопросом обратился ко мне знаменитый дрессировщик животных. – Нет, я с ними дружу. – А со злыми собаками, что на цепях, во дворах? – Я спокойно иду в такие дворы. – Вот видите, вы с ними как равный с равными, вы их не боитесь и не угрожаете им. К вам, должно быть, и все дети идут? – Да…”
Всю историю человечества Дуров рассматривал с позиции взаимоотношения человека и животных. «Вы помните, – говорил он, – в Библии святой отшельник жил в пещере, ворон приносил ему пищу, волк охранял его, и другие животные шли к нему. Затем описывались другие случаи. Все это не выдумки, все это правда». Он показал мне фотографию крестьянина с широко открытыми, внимательными глазами. Рассказал, что когда тот вошел в комнату Дурова, ручной ворон слетел со своей полки и сел ему на плечо. Этот крестьянин шел пешком в Москву триста километров, нес письмо Михаилу Ивановичу Калинину. Дуров показал письмо – полуторапудовую каменную плиту, на которой инкрустацией из маленьких камешков была изложена жалоба. Крестьянин надеялся, что так письмо не положат под сукно. А оставил его у прославленного артиста в надежде, что через него оно наверняка попадет «всесоюзному старосте».
Еще он показал мне большого попугая с ярким оперением. Он сидел на жердочке, на ноге кольцо. Раньше к кольцу была пристегнута цепочка двухметровая, птица в течение нескольких лет передвигалась в радиусе двух метров. Потом дрессировщик убрал цепочку, оставив кольцо. Попугай по-прежнему передвигается в пределах двух метров: чувствует цепочку. Это самовнушение, сказал Дуров.
Он увлекался гипнозом, был уверен, что это материальные волны. На моих глазах отдавал приказание собаке в соседнюю комнату, сквозь стену, и та выполняла их. Потом ставили свинцовую плиту, и волны гипноза к животному не доходили. К гипнозу я отнесся несколько скептически, и он предложил загипнотизировать меня. Маленький хилый старик со светлыми голубыми глазами, седыми волосами, в восточном халате с торчащим меховым воротником, он встал передо мной и произнес, делая упор на некоторых словах: «Вот вы стоите напротив меня, молодой, но слабый человек, а я, старый, но сильный, сдвину вас одним пальцем, как бумажный лист…» Уперся мне в грудь пальцем. Я пошатнулся, подумал: «Ну и силен старик!». Он снова заговорил: «Теперь я скажу иначе: вы стоите передо мной, молодой сильный, как каменная стена, и как бы я ни наваливался на вас, я, старый и слабый, не смогу вас сдвинуть». Он уперся в меня двумя руками, плечом – я не пошелохнулся.
Потом рассказал, что до него во всей Европе дрессировка была болевая. Он в корне изменил это. Его система – ласка и добро.
Мы спустились на первый этаж, пошли вдоль клеток. Все животные и птицы приветствовали Дурова как друга. Появилась его жена, высокая, властная, несимпатичная женщина с крашеными черными волосами. Она что-то сказала ему, и у него начался сердечный приступ. Прибежал ассистент, капал в рюмку валерьянку. Давал воду…
В памяти моей остался добрый голубоглазый человек, во всем ищущий новые дороги».
Свою любовь к цирку отец постарался передать и мне. В семейном альбоме есть фото: я с родителями в цирке, среди зрителей. И дата – 1945 год. Восторг от диковинных – и таких умных – животных, которых до того видел лишь в книжках, сменялся страхом за гимнастов, кувыркавшихся под самым куполом. И такими смешными и глупыми выглядели клоуны, над которыми только и оставалось, что потешаться. А самый главный в цирке, как я понял, был человек в черном фраке, произнесший огорчительную фразу: «представление окончено». «Это шпрехшталмейстер Буше», – объяснили мне. Несмотря на досадное вмешательство важного начальника для меня это был праздник. Только много позже я понял, что цирк и праздник – это, по сути, синонимы. В том смысле, что цирк это всегда праздник. И еще – игра. Немыслимые вещи делаются с такой легкостью, что и ты вдруг ощущаешь в себе невероятные возможности – ведь все это так просто!.. Позднее, уже в своей журналистской жизни, бывая в командировках, я старался по вечерам заглянуть в местный цирк и, если получалось, зайти за кулисы, посмотреть на зверей, подышать непередаваемым ароматом. Так было в Иванове, Харькове, в Новосибирске я даже остановился в гостинице цирка. На Украине посчастливилось познакомиться с Владимиром Григорьевичем Дуровым, внуком одного из двух основателей прославленной цирковой династии – Анатолия Дурова. Было это году в 70-м. Пожилой грузный человек еще в цирковом белом обтягивающем атласном одеянии с жабо устало сидел в кресле. Он был в гриме, и на лице посверкивали мелкие блестки. Дуров только что отработал длинный номер, и я понимал, что ему не до долгих бесед. Но нельзя же вообще не задать никакого вопроса великому артисту… «Наверное, при переезде из города в город труднее всего перевозить слона?» – спросил я. Дрессировщик слегка улыбнулся: «Ну что вы – слониха хоть идет сама. А вот с бегемотихой сложнее, идти не может, приходится в ящик заколачивать и таким макаром перевозить. Да и вообще тупая она у меня, – продолжал он. – Единственное, чему удалось ее обучить, так это открывать свою пасть, когда я ногтями у себя за спиной щелкаю, – знает, что я ей буханку белого хлеба в эту пасть положу…». У меня, впрочем, и раньше были подозрения, что бегемоты туповаты. А если уж сам Дуров об этом говорит…
Когда после института меня послали работать в Индию, туда с гастролями приехал советский цирк. В те времена в Дели и телевидения-то не было, выбор развлечений был крайне ограничен. Для работавших там совграждан приезд родного цирка стал громадным событием. Огромный шатер, в котором шло представление, был забит до отказа. Индийцам нравилось все, но особым успехом пользовались дрессированные медведи («настоящие русские медведи!») и две великолепные воздушные гимнастки – прекрасно сложенные белокурые сестры Светлана и Марта Авдеевы, наследницы славы знаменитых сестер Кох. Местные мужчины аж подпрыгивали на месте, хлопая им растопыренными ладонями. Ревниво поглядывая на мужей, женщины, позвякивая бесчисленными браслетами, тоже аплодировали, но более сдержанно. «Вообще-то мы Адамсон, – сказала мне Светлана в антракте, – а “Авдеевы” – наш псевдоним, звучит, вроде, более благозвучно». Я познакомился со многими артистами, торчал за кулисами, видел, как служители больше всего опасаются медведей, стремительно утаскивая их после выступления на манеже в клетки. «У тигров хоть реакция заранее видна, а эти такие коварные – вроде смотрят мирно в сторону, а чуть отвернешься – раз тебе по спине своей когтистой лапой», – говорила мне смотрительница. Вдыхая аромат циркового закулисья, наблюдал систему отношений между бесстрашными и талантливыми обитателями этого удивительного мира, видел, что очень популярны всевозможные подначки и подколы. И я тоже решил принять участие в околоцирковой игре. В выходные дни показывал артистам Дели, делился тем, что знал об этом экзотическом городе. Как-то с большой группой артистов решили пойти в кино. Шутки ради (в нее были посвящены только две сестры-гимнастки) я стал переводить фильм с неизвестного мне языка хинди на русский. Поначалу помогали задор и в высшей степени примитивные диалоги, но к концу третьего часа (к нам индийские фильмы попадали в виде двухсерийных) я попросту изнемог и уже не чаял, когда же заиграют традиционный гимн в конце сеанса. Артисты внимательно слушали, и когда я признался, что на хинди знаю только «здравствуйте», большинство посмеялось вместе со мной. Кое-кто реагировал довольно холодно, в том числе, как мне показалось, и иллюзионист. Одно дело самому разыграть, другое – когда тебя разыграли. Оправданием мне могло служить то, что происходило это первого апреля.
Много лет спустя я тоже стал объектом цирковой шутки, когда мы с женой впервые повели дочку в здание на Цветном бульваре. В цирковом варианте шел «Золотой ключик». В какой-то момент во время представления я ощутил щекотание на зарождавшейся лысине. Обернувшись, увидел подкравшегося сзади Карабаса, который щекотал меня чудовищной полуметровой бородой. «Ну что, испугался?!» – заорал он на весь цирк, как мне показалось, отвратительным голосом. Думаю, в глазах пятилетней дочери либо упал авторитет папы, который мог испугаться Карабаса, либо поднялся авторитет Карабаса, способного испугать даже папу. Но похоже, все же удалось передать дочке по наследству любовь к цирковым представлениям. А теперь она вместе с мужем увлекли этим внучку Полю. Отец был бы только доволен и, может быть, простил бы мне этот долгий экскурс в собственные воспоминания…
И еще о живой природе:
«Я всегда любил животных, и они мне платили тем же. В детстве я бесстрашно входил во дворы, где на цепи сидели злые мохнатые сторожа. Они на меня не лаяли. Память мне сохранила всех моих друзей-собак.
Фокса Нелли ела виноград. Это был мой первый друг. Когда она сбесилась и ее пришлось пристрелить, горе мое было безграничным. Потом была Лёпи. Потом был гордон Фатран. Он ходил с нами купаться на Дон. В нашей компании мальчишек он был нам ровней. И потом, этот мохнатый черный скотч-терьер, похожий на кактус, – Никки. Старушки, завидя его, крестились, приговаривая: «Черт! Черт!». Бедный Никки! Говорят, его взял в оборот Карандаш.
И Тума – шоколадный доберман. Я ей кричал: «Тума, завтракать!», и она со всех ног неслась в мою комнату «завтракать». И – Джонька! Маленький Джонька-хулиган. Он летел за нашим поездом, когда мы уезжали в Москву.
Дуров мне сказал, что я не боюсь животных, потому что ощущаю себя с ними на равных, и животные идут ко мне как к равному».
Трогательная картина: выбившийся из сил Джонька видит, что поезд ему уже не догнать.
Но вернемся в ростовское детство и отрочество автора рукописной книги.
Улочка заштатного городка. Мощное дерево на переднем плане, а где-то внизу вьется проулок с приземистыми домишками в окружении палисадников. И – описание одного дня из детства Шуры, который оказался таким памятным:
«Я стоял на носу парохода, и ветер дул мне в лицо. Маленький колесный пароходик казался мне большим кораблем. Я воображал, что я бесстрашный капитан, ветер развевает мои волосы, мне ничто не страшно, и та красивая дама с мужем и ребенком, в которую я успел влюбиться, с интересом смотрит на меня.
Мне было десять лет. Мы возвращались из Азова. Отец собрал младшее поколение нашей семьи – Таню, меня и мою кузину Милю, и первым рейсом в ослепительный весенний день повез нас в Азов. Мы были на кладбище и навестили могилы бабушки и дедушки. Потом говорили со стареньким кладбищенским сторожем. Отец дал ему деньги. Отец хотел навестить еще чью-то могилу. Старик долго искал в своей книге ее адрес, но так и не нашел. Было тихо. Было солнце, и еще были большие деревья.
…Мне до сих пор иногда снится кривая уличка не знакомого мне небольшого провинциального городка. Маленькие покосившиеся деревянные дома и большие деревья, и я иду по этой улице, подымающейся слегка в гору. И каждый раз мне радостно.
Может быть, мне снится Азов?»
Он любил иногда вспомнить о том далеком времени. Вот его рассказ от первого лица:
…Мой отец, мать и все дети ехали отдыхать в Крым, в Евпаторию. Мне семь лет. На мне суконная курточка, которую во время пересадки в Синельниково повесили на спинку стула. Подали поезд, спешка, чемоданы, баулы… Курточка так и осталась на вокзале. Матушка написала открытку начальнику станции, но увы… По вечерам на террасе зажигали свечи в стеклянных пузырях с отверстиями на макушке. Прилетали огромные ночные бабочки. Мы их называли «мертвая голова», так как рисунок на их палевой спинке был похож на череп. На даче было много цветов, вечером благоухал табак. Мы ловили огромных жуков-носорогов и еще каких-то, с большими клешнями. На соседней даче жил мой новый дружок, Витя из Харькова. Мы придумывали с ним разные шкоды. Похитили как-то удочки у моего старшего брата и решили «удить» из чужого виноградника аппетитные черные гроздья. Естественно, и крючки, и грузила застряли в лозах, лески пришлось отрезать, а мы с удочками остались на террасе и с ужасом ждали возвращения брата… Помню, что вдоль пляжа стоял ряд крошечных лавочек, где татары продавали всякие морские находки. Недосягаемым чудом сияли большие красавицы-раковины, а вот оклеенные мелкими ракушками шкатулки нас не привлекали. Отец купил мне мешочек из марли красного цвета, полный красивых раковин удивительной формы. Мы всегда играли на даче у Вити, и эти раковины внесли в наши игры разнообразие. Как-то утром пришел к нему, но мне сказали, что вся семья уехала домой в Харьков. Витя со мной не попрощался и увез мой мешочек с раковинами, подарок отца. Так я впервые столкнулся с предательством… А однажды на дачу пришел фокусник-китаец с обезьяной. Китаец был с косой, в национальной одежде, смешно говорил по-русски. Его окружили кольцом мальчишки, девочки, женщины. У меня в руках палка от сачка. Китаец взял ее, обезьяна показывала с палкой забавные трюки. Потом китаец собрал медяки и собрался уходить. Обезьяна цепко держала мою палку. Я схватил конец палки, потянул к себе, та – к себе. Рванул палку, обезьяна ее выпустила, но вцепилась своими здоровенными зубами мне в руку повыше локтя. Было больно, но я не заплакал: было стыдно плакать при таком обществе. Почувствовал себя взрослым. Но обычно вел себя, конечно, как мальчишка. На лето задавали что-то читать, писать, зубрить. Удержать меня за столом было трудно, поэтому меня засадили в крайнюю комнату, а в проходной, через которую можно было уйти, сидела Сарочка, моя любимая старшая сестра, и читала книгу. Она меня сторожила. А я удирал через окно… Как самое сокровенное храню воспоминания о моем общении с отцом. Вот мы на шлюпке в море, брат на веслах, отец и я на корме. Нас стал настигать маленький пассажирский пароход. Отец сказал брату, что надо отвалить в сторону. Брат заупрямился, стал спорить, дескать, пароход отвернет, капитан не имеет права нас топить, его будут за это судить. Отец волновался, объяснял, что когда капитана будут судить, нам от этого легче не будет, мы уже утонем. Я чувствовал, что отец прав, и еще я понял опасность нелепого упрямства… В один из дней отец взял меня с собой, он хотел снять дачу на следующее лето. Мы шли по тенистой улице, красивые деревья свешивались через беленые кирпичные заборы. Я очень любил, когда отец брал меня с собой. Мы вместе рассматривали огромного мохнатого паука-крестовика, отец говорил, что через год я буду совсем большим и мы сможем заплывать на шлюпке далеко-далеко в море… Было лето 1914 года, и вскоре началась война. Первая мировая война. Возник слух, что на горизонте появились два турецких эсминца. Среди отдыхающих вспыхнула паника, Евпатория опустела. Мой любимый отец никогда больше не увидел море. Он умер от сыпного тифа в 1920 году. Зашел подстричься в парикмахерскую. А до него стригся солдат, вернувшийся с фронта.
…Трое по-зимнему одетых пацанов, один из которых, конечно, Шура, наблюдают за чем-то интересным внизу. Лишнее напоминание: в ростовском детстве были отнюдь не только беззаботные солнечные дни. Была и тяжелая Гражданская война. Воспоминание, вроде, не из самых веселых, но все же уносит от сегодняшних реалий в далекие дни. Да и говорит, что Шура с друзьями были не робкого десятка.
«Таганрогский проспект круто спускается к Дону. Через лед и снежную целину за Доном наступает наша пехота на Батайск. Это редкая цепочка черточек. И когда черточки превращаются в точки, это означает, что бойцы залегли. Поперек их пути жидкий лесок. Слева и справа в лесу вспышки. Это бьет артиллерия белых – шрапнелью по нашим бойцам и снарядами по городу.
Мы стоим на вершине проспекта. Осколки взламывают штукатурку домов. Мы не понимаем опасности. Все это похоже на интересную игру. За нашей спиной раздается грохот колес и цокот копыт. Едва сдерживая орудия на скате, резко осадив лошадей, матюгались ездовые. Командир на взмыленной лошади, с лихо заломленной папахой, полоснул нас нагайкой: ”Брысь отсюда, пацаны!”. Оказалось, и мы, и наши артиллеристы облюбовали себе одну позицию. Пришлось уступить.
Но мы себе выбрали точку получше. Рядом стоял пятиэтажный дом, выгоревший до основания и обледеневший сверху донизу. Фактически это был остов дома. И вот, по кое-где уцелевшим лестницам, по скользким чугунным балкам, через провалы лестничных площадок, по карнизам мы карабкаемся все выше. Я вижу под ногами сначала пустоту и хаос трех этажей, потом четырех. Немного страшно, но зато как интересно. И вот мы наверху. Мы опять все видим!»
Спортивного сложения молодой человек в купальных трусах, подперев голову руками, лежит на берегу реки. Ветер поднимает волны на реке, старается потопить пароход, треплет волосы молодого человека. Он значительно старше того подростка, который много лет назад лежал здесь же, наслаждаясь порывами ветра и наблюдая за происходящим. Художник изобразил себя сегодняшнего – столь велико было желание вернуться в тот день, в то время.
«Ветер рвал ночь на части. Ветер сорвал и унес деревянный мост. Портовый катер догнал его только у станицы Цимлянской.
День был солнечный и жаркий, но ветер не утихал. Мы с трудом выгребли на ту сторону Дона. Кроме нас не было никого. Мы лежали в высокой траве. Мой друг целовался с Линой Васильевной. Она была вдвое старше него, и ему это, видимо, импонировало. Я слушал, как шумит трава. Песок хрустел на зубах, и неистово ревел, взывая о помощи, колесный пароход. Ветер выбросил его на мель.
К нам подошел человек с тяжелыми корзинами. Он шел из Батайска. От него за километр пахло контрабандой. Он пообещал нам на пиво, и мы взялись перевезти его в порт. Ветер подзадорил нас. Мы разогнали шлюпку. Вопреки всем правилам мы решили пристать по течению и по ветру. Я оседлал нос шлюпки, и когда мы поравнялись с гранитом, ухватился за мокрое, высоко ввинченное чугунное кольцо. Дальше все произошло молниеносно. Мои ноги оказались зажаты между бортом лодки и гранитом. Как ножом срезало мне мясо с обеих коленок. Кольцо вырвало меня из шлюпки, и через секунду я был под водой. Когда я вынырнул, то увидел перед собой руль. Ухватившись за него, я влез в шлюпку. Мы завязали мне колени носовыми платками. Потом на деньги нашего контрабандиста пили пиво и ели простоквашу с бубликами в каком-то кафе. Нам было весело.
Ветер не утихал.
Я люблю ветер».
Это был не единственный раз, когда Шура тонул в водах своей родной реки. Как ни странно, плавать он не умел и так никогда и не научился.
А вот об одном эпизоде из своего детства он вспоминать не любил.
В середине 90-х, будучи в Швейцарии, я попал в Давос. Ехал я в этот город со странным чувством. Когда-то в детстве я наткнулся в семейном архиве на негнущуюся коричневую фотографию на толстом картоне: маленький мальчик в костюмчике на фоне горы и подпись тушью «Шура. Давос. 1911 год». Догадка подтвердилась – четырехлетний мальчик впоследствии станет моим отцом. «Не стоит об этом распространяться, да и в анкетах я не пишу, что в детском возрасте был со своими родителями пару недель в Швейцарии», – задумчиво прокомментировал отец, так убрав фото, что я больше никогда его не встречал. Позднее я понял, что упомяни он об этом в анкете в конце 30-х годов, скорее всего, обернулось бы это драмой, а то и трагедией. С тех пор слово «Давос» окуталось для меня аурой таинственности. До наступления эры телевидения я вообще толком не мог представить себе этого столь важного для семейной истории места. И вот, наконец, убедился: Давос и ныне там. Тихий, ухоженный, благополучный.
Два важных события произошло в жизни Шуры, когда ему исполнилось 14 лет. И оба связаны с ростовским театром «Барокко». Однажды к ним домой пришел художник, представившийся Христианом Германовичем. Ему были заказаны декорации к какому-то спектаклю в этом театре, и Шуру Житомирского порекомендовали в качестве помощника – в округе знали, что парнишка в последнее время все сильнее увлекается рисованием. Он с восторгом согласился работать без всякой платы. С энтузиазмом огромной кистью малевал драконов и хризантемы на длинных холстинах. А заодно слушал весьма профессиональные советы «работодателя». Там же, в театре, завязался его первый роман. Тоненькая, хорошенькая Люсенька, актриса театра, была старше Шуры лет на шесть, но выглядели они сверстниками. Вечерами сидели на тихой Дмитриевской улице и целовались. Потом по темным улицам (фонари давно были перебиты) он провожал подружку в Нахичевань, далекий район на правом берегу Дона. Однажды, когда они вошли в переулок, где жила девушка, к ним подошел человек в кожанке с маузером у пояса. «Вот что, парень, – сказал он, – пойдешь назад, поворачивай направо за угол, да побыстрей». Через несколько минут за спиной Шуры раздались выстрелы, затем разрывы гранат. Разгорался форменный бой. Потом выяснилось, что заговорщики готовили переворот в Ростове, их выследили, и юная пара оказалась в эпицентре боевой операции. Конец их отношениям положила, однако, не эта драматическая ситуация, а драма более традиционная. Однажды Люсенька не пришла на свидание, и гордый юный ухажер не захотел ее больше видеть… Он еще не знал, что события, связанные с театром «Барокко», были для него глубоко символичны. Он был одновременно приобщен к искусству живописи и введен в мир, где преклонялись перед женской красотой и обаянием. Он не представлял, что отныне на всю жизнь служение искусству и поклонение женщине станут для него неразрывным целым, двумя половинками, которые будут питать друг друга. И еще один символ: оба события были связаны с театром, и театр спустя несколько лет сыграет важную роль в его будущей жизни.
Между тем Шура еще в Ростове. Он заканчивает школу. Берет уроки рисования у художника Силина. Оплачивает занятия либо скромными деньгами, либо кирпичиком черного хлеба: голод и разруха сделали хлеб твердой валютой. Получает заказ на рекламные плакаты и, окрыленный первым гонораром, а также небольшой выставкой его рисунков, отправляется на покорение Москвы. Мама Слава не без тревоги отпускает 18-летнего Шуру в далекую столицу. К поезду приносит корзинку крутых яиц, которыми ростовский гасконец распоряжается соответственно своему возрасту: из окна вагона обстреливает ими телеграфные столбы. Сколько раз он будет потом вспоминать эту корзинку! Но сейчас ему не до того. Он уже в столице и первое, что он делает на перроне, – рвет все рекомендательные письма, которыми его снабдили близкие в надежде, что на первых порах его приютит кто-то из знакомых. Ну, нет, он обойдется собственными силами! Пароход-то тогда на Дону удалось обогнать… И как ни странно, все как-то налаживается. Хотя, подъехав к студии АХРР (Ассоциация художников революционной России), он, выходя из трамвая, ступил в глубокую лужу, никто там не обратил внимания на мокрые обшлага и сандалии нового кандидата в студийцы. А вот рисунки глянулись. И началась учеба. Быстро установил связи в журналах, где делал иллюстрации к рассказам. Чуть позже это позволит снять комнату с двумя товарищами на Большой Спасской улице, о чем немного ниже.
А пока что судьба свела его с двумя братьями Церетели – Жоржем и Валерием. По словам отца, эти его дружки-сверстники «росли, как два борзых щенка, – бездумно и неприспособленно. Они приютили меня на огромном диване, где мы, не мешая друг другу, помещались втроем». Но главное, диван размещался в квартире Николая Михайловича Церетели, их знаменитого старшего брата, популярнейшего в те годы актера Камерного театра. У него была прекрасная библиотека, которой новоявленный покоритель Москвы жадно пользовался. Здесь же жил и друг Церетели-старшего Константин Георгиевич Сварожич, режиссер того же театра. Он занимался с актерами постановкой нормативного произношения и терпеливо исправлял ростовскую фонетику юного гостя. От прилипчивого южнорусского говора, от которого многие не могут избавиться всю жизнь (пример: Михаил Горбачев), с его интонациями, специфическими ударениями и «гхэканьем», у отца не осталось и намека. Его русский язык был идеальным. Он на всю жизнь сохранил признательность за это Сварожичу. И не только за это.
…Однажды поздно вечером Шура с Жоржем взломали рекламную витрину возле маленького кино, где шел немецкий фильм «Индийская гробница». И торжественно притащили свои трофеи: Шура – фотографию Конрада Вейдта, Жорж – фото Миа Мэй и замок от витрины. Константин Георгиевич преподал им серьезный урок, сказав: «Вот что, ребята. Если вы похитили фотографии ваших любимых актеров, это не кража – вы поклонники их искусства. А вот то, что принесли замок, – это воровство, немедленно отнесите его назад!».




Фото 1920-х годов
Вскоре бесшабашный красавец Валерий женился на начинающей актрисе и перебрался к ней. Камерный театр уехал на гастроли.
Вот что мне довелось как-то услышать:
…Мы с Жоржем остались вдвоем, и началась жизнь голодная, веселая, богемная. Мы ходили по контрамаркам к Мейерхольду, Таирову, на выставки ОСТа и были счастливы. Жорж делал попытки пополнить наш бюджет, зазывая старьевщиков и предлагая им принадлежавшие ему сюзане и медные подносы с эмалью. Отчаянно торговался с ними, но так никогда ничего им не продал, напоследок ругая их на неведомом мне, но понятном старьевщикам языке: они бежали от нас без оглядки. Когда совсем нечего было есть (как сгодилась бы мамина корзинка с крутыми яйцами!), мы шли через всю Москву пешком, потому что и на трамвай денег не было, к знакомым девушкам. Милые хозяйки лезли потихоньку в родительский буфет, угощали нас папиной водкой и бутербродами. Папе в графин добавляли воду… Жоржу все же пришлось пойти работать – осветителем сцены в тот же Камерный театр. И как солидный человек, он решил жениться. Но возникла проблема. Все три брата Церетели – дети бежавшего из России эмира Бухарского и старшей жены из его гарема. В документах Жоржа значилась его полная фамилия: Мансур-Мангит-Церетели. Папа невесты, инженер, к тому же католик, хотел отдать дочь за более устроенного в этой жизни человека. Мы посовещались, и я сел за пишущую машинку. Отстукал приглашение Жоржу на работу в Самарканд с очень приличным окладом. Разрезав текст на узкие полоски, наклеили «приглашение» на телеграфный бланк. Потом состряпали вторую телеграмму: мол, выезжайте срочно, подъемные на месте. Жорж получил деньги в театре за двухмесячный отпуск, купил черный костюм, по требованию тестя обвенчался в костеле и, что самое удивительное, уехал с женой в Самарканд. Может, он и сам поверил в эти телеграммы?.. Там он устроился на работу, и словно бы все наладилось, да какой-то полувоенный сотрудник стал слишком настойчиво ухаживать за его женой, буквально не давал ей проходу. Жорж, что называется, набил ему морду. Тот ответил по-советски: написал донос, сообщив, что его обидчик – сын бежавшего из России эмира, английский шпион и прибыл в Самарканд поднимать восстание. Милого Жоржа арестовали и по этапу отправили в Москву… Не такое уж безмятежное это было время. Даже для таких повес, какими были тогда мы.
Все это отец поведал мне как-то вечером, когда вернулся с работы и был очень грустным. Дело в том, что утром, по пути в редакцию, он попросил водителя (машина появилась у нас, когда отцу уже было поздновато ее осваивать) свернуть с Проспекта мира, рядом с которым мы тогда жили, на параллельную улицу, Вторую Мещанскую. Он хотел проехать мимо деревянного дома, где братья Церетели приютили его полвека назад. «Представляешь, – говорил он с грустью, – дом был уже наполовину разрушен. Могучий трактор тяжеленным ядром на тросе добивал этот дом, уничтожал мою юность. Похоже, он позвал меня попрощаться в последние свои минуты. Пятьдесят лет я не был здесь. И вот…»
Вновь обратимся к «Мечтам о прошлом и будущем». Рисунок: симпатичная белая крыска на столе у тарелки, ей, вроде, не предназначенной, – говорит, что речь идет о периоде холостяцкой жизни автора.
«Я вошел в комнату. “Рики!” – и из-под дивана выкатился белый комок, быстро взбежал по брюкам, по пиджаку ко мне на плечо и лизнул мне ухо. Это был третий член нашей семьи. Первый был Леонид, второй – я, третий – белая крыса Рики. Она была наша любимица и баловень. Ела с нами из одной тарелки и пила из одной чашки, в остальное время ловила мух на окне. Ночью она спала у кого-то из нас под одеялом, но иногда затевала такую беготню, что приходилось брать ее за хвост и выбрасывать.
Когда Лёлька ее принес, это был маленький мышонок, осторожно и с любопытством выглядывающий из нагрудного карманчика пиджака.
Однажды Рики пропала. Мы очень горевали. Прошло много дней. И как-то ночью мы услышали шумную беготню в комнате. Мы зажгли свет. И увидели Рики с целым выводком серых великовозрастных крысят. Мы переловили их и рассмотрели. Они были смешные с большими ушами. Рики очень волновалась. Мы отпустили крысят, и они вместе с Рики ушли под пол. Нам было грустно.
Но Рики вернулась!
Она оставила своего мужа и своих детей и вернулась к своим друзьям».
Остается пояснить, что «Лёлька», Леонид Резниченко, друг молодости Александра, бывал у нас дома и в послевоенные годы вместе со своей супругой Ниной Нечволодовой. Он был кинорежиссером, вместе с ней они стали авторами киносценария и книг о юности Ленина.
В годы учебы в студии АХРР делался упор на работу с обнаженной моделью. В перерыве, когда натурщица одевала халатик и снова превращалась в женщину, студийцы окружали Илью Ивановича Машкова, одного из любимых учителей, признанного мастера живописи. Задавали вопросы, ждали интересных мыслей. Однажды он сказал: «Ребята, вы даже не представляете, какие вы счастливые. Судьба послала вам замечательную профессию. Ведь это игра: бумага, краски, карандаши, кисти… Эта игра будет продолжаться всю вашу жизнь, да еще за это вам будут платить деньги…» Вспоминая об этих словах мастера, воспринятых студийцами тогда с восторгом, отец в задумчивости произнес: «Ван Гог застрелился, Врубель скончался в психиатрической лечебнице, Рембрандт умер нищим, Эль Греко не признан при жизни, Модильяни, Гоген – список можно продолжать до бесконечности. Ничего себе – игра… Высока цена расплаты таланта за проложенный новый путь, за предложенные новые условия игры».
В общей сложности отец учился рисунку десять лет. Ему повезло с учителями. Фундамент мастерства закладывался в Ростове. Здесь, как мы знаем, он брал уроки у художника Александра Силина, известного своими книжными иллюстрациями и экслибрисами. Сохранившиеся экслибрисы и изысканные графические миниатюры начинающего художника подтверждают: учитель смог раскрыть в юном подшефном явный талант. В канун отъезда в столицу в родном городе была организована небольшая, но зато персональная выставка Александра Житомирского.
Затем Москва. Определяющую роль в шлифовке мастерства сыграли последние полтора года у Владимира Андреевича Фаворского, которого отец называл «философом искусства». Все то, что я знаю о бумаге и карандаше, о природе и о модели, о монументальности и атмосфере, окружающей нас, говорил отец, дал мне он.
Колористика одного из основателей «Бубнового валета» Машкова эхом отзовется в последние годы жизни, когда отец, отложив в сторону любимый черный фломастер, создаст большую серию праздничных, насыщенных ярким цветом гуашей. А вот занятия у мэтра графики Фаворского дали о себе знать уже в ранних московских рисунках вчерашнего ростовчанина. Это позволило молодому художнику быстро освоиться во многих редакциях, создавать выразительные и точные иллюстрации. Первые пять лет он делал их в основном для журналов «Пролетарий связи», «Смена», «Осоавиахим», для нескольких журналов, выходивших в издательско-полиграфическом объединении «Молодая гвардия», для журналов «Строим», «Рост», затем для «Индустрии социализма». Освоив карикатуру, он стал делать шаржи и сатирические рисунки для «Рабочей газеты» и «Труда». Появились заказы на плакаты – от «Изогиза» и «Интуриста». И тут он ощутил, что убедительности может придать использование документа, фотографии. Он и прежде любил на досуге сооружать с помощью ножниц и клея необычные фотокомпозиции, скорее шутливые, чем насыщенные большим смыслом. В эти годы он испытывал особый прилив творческой энергии, поскольку в 1931 году произошло событие, определившее всю его последующую жизнь.
Первого марта 1931 года, сидя за столиком ресторана в Доме печати (впоследствии Дом журналистов), они с приятелем отмечали не столько наступление весны, сколько получение им гонорара. Это позволило им, сильно голодавшим в последние дни, заказать обед, достойный Гаргантюа, и методично расправляться с ним, наверстывая упущенное. За этим занятием их застала пара – золотоволосая светлоглазая девушка со спутником, который им был, к счастью, знаком. К счастью – потому что Шура даже оторвался от лицезрения очередного поданного блюда. Ее красота поразила его, хотя он и продолжил отдавать должное ароматной еде. Сидя за соседним столиком, девушка незаметно наблюдала за уничтожением немыслимого раблезианского обеда. Что, как выяснилось, произвело на нее неожиданно сильное впечатление. В итоге вся четверка оказалась за одним столиком, а проводить себя девушка, которую звали Эрикой, позволила Шуре. Они встречались каждый следующий день. Через неделю, восьмого марта 1931 года, они шли по улице, и отец увидел ЗАГС. Вопросительный взгляд, улыбка одними глазами в ответ, и вот они предстали перед регистраторшей. «Но для заключения брака требуется свидетель», – напомнила им старавшаяся выглядеть строгой дама. Жених выкатился из ЗАГСа на улицу, остановил проходившего мимо парня. «Документ с собой?» – «Да, профсоюзный билет». – «Будешь нашим свидетелем!». Парень не возражал. Отец запомнил и его фамилию – Синицын, Коля.
Теперь можно было официально «привести в дом» жену. Обитель художника находилась в самом центре Москвы, на Пименовской улице. Сюда он перебрался с тогдашней окраины, с улицы Большая Спасская, где вместе с двумя приятелями-ростовчанами снимал комнату. Шура обычно работал за столом, и хозяин квартиры, Иван Ферапонтович, любил зайти и расхаживать у него за спиной. Если был трезв, восхищался, говоря: «Умей я так, давно бы разбогател». Но чаще бывал навеселе и требовал, чтобы отец продолжил с ним застолье. Отказ воспринимал как оскорбление. Однажды так саданул по дну бутылки с пивом, что пена залила работу, над которой отец трудился неделю. В другой раз в отместку за отказ бросить «свои картинки» и взяться за стаканы пошел и вывернул пробки на электрощитке. Срочный заказ был сорван – в темноте много не нарисуешь. Если с тем, что хозяйский сын до этого растолок в ступке набор плиточек купленной им прекрасной акварели фирмы «Гюнтер Вагнер», отец еще смирился, то хамства он терпеть больше не собирался. По странному стечению обстоятельств именно на следующий день он встретил на улице в центре парня, которого все звали «Гудермес». Тот тоже был из Ростова, учился в параллельном классе. Выяснилось, что он отбывает обратно в Ростов, освобождая комнату на Пименовской улице. Так отец оказался в «хоромах» площадью шесть квадратных метров. Рядом была старинная церковь Св. Пимена, и в их разговорах улица превратилась в «Санкт-Пимен стрит». Один метр из шести в комнате занимала кирпичная печь, потолок был косой, достать до него рукой можно было, не поднимаясь на цыпочки. Два окна освещали письменный стол, стул, маленький шкафчик с книгами и матрас на двух ящиках, покрытый ковром наподобие дивана. На ковре восседали две куклы – негритенок и обезьяна, которые отец смастерил сам. Их звали Пип и Хэп-Хэп. За комнату хозяйка брала 40 рублей, что на рубеже 20-х и 30-х годов было большой суммой. Но хозяйка любила еще и воровать сахар. Во время одной из таких вылазок она разбила старинный бокал, отцовскую гордость, память о его бабушке… Жалкий скарб молодого художника умещался в чемодане под «диваном». Одежде он не придавал никакого значения, тратил деньги на книги. За столом было сделано немало иллюстраций. И еще одна деталь: комната запиралась на крючок, что было немаловажно. Вскоре дверь (изнутри) украсила прибитая гвоздем кружевная комбинация, которую забыла одна из подружек. С приятельницами всегда складывались добрые и не слишком обязывающие отношения. Еще не затихли отзвуки коллонтаевских идей о свободной любви, не наступили сталинские холода.
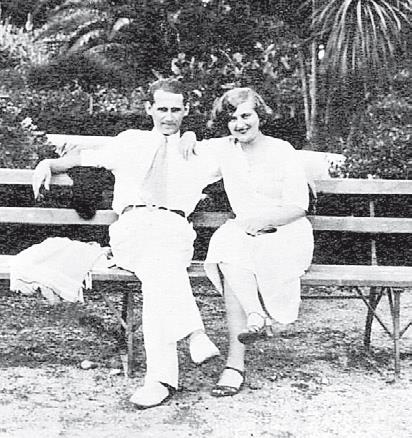
Молодожены. Гагры.1931

Молодая семья
Но конечно, перед въездом в эту обитель супруги комнату пришлось очистить от следов холостяцкой жизни.
Из записок отца 80-х годов:
«На Пименовской мы прожили два счастливых года. Мне было 24, Эрике еще не исполнилось 20. Потом мы жили вместе 55 лет. В последние годы у нас была трехкомнатная квартира, но в памяти моей как светлое безоблачное счастье стоят два чудесных года в шестиметровой комнате, из которой мы мечтали вырваться.
У Эрики были светлые волосы, светлые глаза, обаятельная и добрая улыбка. Она была красивая и умная. Мы вылепили друг друга как могли. У нас во всем сходились вкусы. Она была другом и постоянным моим спутником».
Свадьбу как таковую устраивать не стали. Они были современными людьми и не слишком чтили ритуалы. На другой день зашел один знакомый, принес вина. Выпили за новую жизнь. А вскоре появился очень важный заказ – от незадолго до того созданного «Интуриста» на плакат, рекламирующий отдых в Кисловодске. Недолго думая, отец поместил в центр композиции симпатичную молодую пару, излучающую счастье, по-видимому, от возможности отдохнуть на таком замечательном курорте, представленном в виде фона. Излишне говорить, что пара лучилась счастьем вовсе по другому поводу: на фото был запечатлен автор плаката с молодой женой. Впоследствии они не раз использовали этот фотоплакат (кстати, один из первых официальных фотомонтажей отца), когда, приехав отдыхать, наталкивались в гостинице на табличку «Мест нет». Плакат висел в холле каждой гостиницы. Надо было лишь подойти к нему и принять те же позы, что и на фото. Номер для них находился мгновенно. Так было, к примеру, в отеле «Гагрипш» в Гаграх, куда они вскоре укатили.
Описание всех этих важнейших событий в жизни молодого Александра Житомирского вовсе не означает, что мы забыли о книге – семейной реликвии. Все сказанное выше перекидывает мостик к следующей записи, соседствующей с изображением пары, сидящей в кафе у кромки воды:
«Море было прозрачнее стекла, сотни белоснежных глянцевых рыбок устраивали футбольный матч с кусками хлеба. Их лениво бросала в воду моя любимая».
И рядом: «Мне грустно и легко. / Печаль моя светла. / Мне грустно оттого, / Что я люблю тебя. / Тебя, тебя одну…». Это, если так можно выразиться, Пушкин в авторской редакции. Мы должны помнить, что записи делались глубокой ночью, после тяжелейшего редакционного дня, а то еще и после дежурства на крыше под падающими окрест немецкими зажигательными бомбами. Но в силе чувств этот текст не уступает стансам великого поэта.
Новый рисунок: беззаботная пара, где-то в предгорьях кормящая буйволицу. И короткая запись:
«От нестерпимой жары и соленого запаха моря пассажиры немного одурели. На автобусном привале в Псырцхе разбрелись кто куда. Вот тут-то, на шоссе мы и встретились с этой буйволицей.
Нам было хорошо. Мы были счастливы.
Причина нашего счастья выглядела необычайно. Это – глаза буйволицы. Глаза ярко-голубого цвета, с ресницами как занавески и черными узкими кошачьими зрачками.
Ты ведь на всю жизнь запомнила эту буйволицу, правда, дорогая?
Мы ехали в Синоп».
А вот другое воспоминание на той же лирической волне:
«Помнишь, дорогая, ты ждала меня в Тифлисе? Я ехал по Военно-грузинской дороге. Шофер был отчаянный грузин. Щель в радиаторе, на которую он махнул рукой еще во Владикавказе, превратилась в здоровенную дыру. Не обращая внимания на крутые повороты, он несся от ручейка к ручейку, а между ними, завидя очередного пастуха, отбирал у него глиняный кувшин и лил холодную воду в раскаленный, дымящийся радиатор. Бешеная гонка, с долгими синкопами. Мой спутник – летчик, уверял, что шофер всех нас угробит… На перевале было холодно. Я отдал плащ жене летчика. Ущелья и скалы, мосты и руины мелькали по сторонам, и только белая вершина Казбека неотступно следовала за нами. Это была хорошая поездка».
И – полосный рисунок с несущимся по краю пропасти ландо.
Еще одна зарисовка – и художественная, и текстовая – тоже связана с кавказскими дорогами, но относится к холостяцкому периоду жизни Александра.
«Откуда-то на шоссе выбежала большая черная абхазская овчарка и пошла ровным пластичным галопом метрах в тридцати впереди нашей машины. Мы начали посмеиваться над шофером: ему, мол, не обогнать собаку. Он прибавил скорость. Собака прибавила столько же, как будто бы и не ускоряя шага, продолжая бег. Дистанция между нами не уменьшалась. Со мной в машине были красивые спутницы. Мы продолжали подшучивать. Шофер-абхазец, окончательно закипев, выжал из машины предельную скорость. Как он нас не вывернул, непонятно. Овчарка спокойно и размашисто бежала впереди машины. Неизвестно, чем бы закончилась эта гонка, но дорога вдруг разветвилась, и собака пошла правым рукавом, в горы, по своим собачьим делам. Шофер, злой как собака, молнией пронесся через Сочи. Сквозь деревья мелькнула Ривьера. Мы вышли у вокзала, что-то выпили и вошли в вагон. Я забросил чемоданы наверх и опустил широкое зеркальное окно. Мы хорошо провели лето. Мы ехали домой, к карандашам и бумаге, к суете редакций, к выставкам и театрам, к вечерним кафе, к московским друзьям».
А это яркое иллюстрированное воспоминание относится ко времени после 1931 года, когда Шура и Эрика, его любимая Лялька, были уже вместе.
«Батум всегда лежал на нашем пути, и мы проводили там несколько дней. Всякий раз мы давали себе слово приехать в Батум надолго. И всегда нам это не удавалось. Может быть, потому нам было там так хорошо?
Ты помнишь старый Батум, которого еще не коснулась цивилизация?
Муэдзин на рассвете кричал с минарета что-то непонятное пронзительным высоким голосом, и нежный голубой туман становился вдвое нежней.
Ты спала. Я запирал дверь нашего номера на ключ и уходил на турецкий базар за персиками. Однажды я принес оттуда серьгу. Большую серебряную серьгу, причудливо чеканенную, с голубой бирюзой.
Потом был Костя, начальник погранохраны. Он рассказал нам, что с контрабандистами покончено. Неуловимыми были только два бандита – братья. Они переходили границу, когда хотели и где хотели. Костя охотился за ними год. Мы ели с ним шашлык и пили вино и потом пошли к нему в гости. А ночью его вызвали по телефону. Он сказал, что братьев выследили и поехал руководить операцией. Теплоход нас увез утром. Мы так и не узнали никогда, чем окончилась эта ночь для Кости, и жива ли еще романтика батумской границы».
И чуть отдельно продолжение:
«…Батум навсегда утонул в голубых гортензиях. Ты помнишь, Лялька? Наш теплоход уходил из порта, и мы не знали, куда деть охапки гортензий. Потом я их рассовал повсюду. В умывальнике, в кувшине, в стаканах, в никелированных кронштейнах, в дверной ручке – везде были гортензии. Мы не могли напиться и умыться. Это было цветочное бедствие…».
Разумеется, спасательный круг памяти помогал извлечь из ее недр самое приятное. Но ведь не всегда же был гостеприимный юг, с его цветами и шелестом волн. В рукописную книгу не вошли некоторые другие воспоминания, которыми отец делился со мной.
Позволю себе привести такую историю из тех давних времен. Кавказ в ней тоже мимоходом упоминается:
«“Шура, вы мне друг? – сказал Григорьев и положил браунинг в карман. – Значит, вы должны пойти со мной”. В прошлом он был красным партизаном и поэтому имел пистолет. Красавица Эмилия, сестра Эрики, бросила мужа и ушла к Григорьеву. Теперь она снова вернулась к мужу. Мое средневековое представление о дружбе заставило меня сопровождать Григорьева. Он ехал выяснять отношения с мужем Милки, как мы все звали Эмилию.
Пришли. И атмосфера там сразу накалилась. У мужа тоже имелся пистолет. Я отобрал у обоих оружие, забрал Милку и, уходя, сказал: “Мы вам не будем мешать”. Отвез Милку к ее друзьям и вернулся домой на Пименовскую. Взволнованная Эрика кинулась мне на шею. “Осторожно!” – сказал я и достал из карманов “конфискованное” мною оружие. Один пистолет я вскоре вернул, а второй пробыл у меня некоторое время и неожиданно спас жизнь человеку, лица которого я не видел.
Случилось это так. Эрика уехала с родителями на Кавказ отдыхать, а я задержался на две недели, чтобы закончить иллюстрации к книге. Работать я любил поздно ночью. Стол стоял между двумя открытыми окнами. За окнами – теплая летняя ночь и тишина Щемиловского тупика, куда они и выходили. Через дорогу – двор, окруженный старыми двухэтажными домами. В одном из них – большие двойные окна, очевидно, это был купеческий особняк. Вот декорации, на фоне которых разыгралась драма в стиле Островского.
Во дворе происходило любовное свидание, нежный шепот и отдельные слова развлекали меня. Потом они расстались. По шагам и скрипу дверей было ясно, что героиня ушла в маленький домик у входа во двор, а герой удалился в особняк в глубине двора… Вскоре пьяными шагами вернулся домой муж. В домике произошло довольно шумное объяснение. Муж был выгнан во двор и, несмотря на очень позднее время, пошел будить любовника. В особняке была крытая деревянная лестница. Он долго стучал в дверь на втором этаже. Наконец дверь открылась, и… он с грохотом был спущен с лестницы… Видимо, водка, ревность и обида совсем лишили его разума. Он подходил к большим окнам и двумя кулаками бил стекла. Во двор высыпали разбуженные, разъяренные жильцы первого этажа и начали смертным боем охаживать бедолагу. Я понял, что его убьют. Потушил в моей комнате свет, взял браунинг, выстрелил в небо. В ночи выстрел грохнул громоподобно. Воспользовавшись замешательством, бедняга вырвался, побежал по проулку, вся ватага за ним. Очевидно, они его не догнали. Через некоторое время вернулись и еще долго возбужденно обменивались во дворе, кто как бил: “Я его сапогами”, “А я сковородкой по кумполу”… Потом пришел милиционер. Жильцы ему дружно врали, что этот пьяница два раза стрелял им в окна, перебил стекла… Я ничего не мог сказать – разрешения на оружие у меня не было. Но совесть моя была чиста: этот выстрел спас жизнь – единственное, что оставалось у несчастного бедолаги».
Но вернемся к семейной реликвии…
Прекрасные дни отдыха на юге вновь и вновь становятся убежищем от сверхнапряжения военного времени.
«Потом в Батум пришла цивилизация. Она пришла по асфальтированным дорогам, воткнула над милиционерами бамбуковые зонты с зелеными лампочками, обежала крохотными фонтанами клумбы экзотичных цветов, раскинулась шезлонгами на пляже, построила новую гостиницу и оевропеила порт.
И Батум стал по-новому хорош.
…Кусочки турецкого шашлыка, помидоры желтого цвета, персики невероятного размера – в Батуме все было невероятно вкусно. Но потом мы познакомились с королем. Назывался он “чанах”.
Ты помнишь, Лялька?
Мы пришли на поплавок, за пустыми столами сидели аборигены, и все чего-то ждали. Потом перед каждым поставили дымящийся глиняный горшочек. Мы робко заказали себе то же и узнали, что такое пища богов! Мы каждый день приходили на поплавок есть чанах».
Судя по сопутствующему рисунку, Шура еще и катал свою Ляльку, мою будущую маму, по морю на лодке.
Счастьем лучится и следующий рисунок: узнаваемая пара впитывает лучи солнца, которые, пробившись сквозь тучи, заливают море и горы.
«Я не могу расстаться с тобой, Батум. Слишком большое место ты занял в моем сердце. Разве можно забыть этот бред архитектора, этот пятнадцатикилометровый пляж в Кобулети? Природа способна на самое невероятное, и здесь она доказала это в полной мере. Масштаб и романтика – вот что врезает в память этот пейзаж. Прямая стрела пляжа упирается в синий профиль гор. И дальше еще профиль гор уже лиловых, и еще, и еще, и потом чуть голубеют, как мираж, горы в Турции. И большое море – море, прикинувшееся океаном. И большое небо. Небо с библейскими тучами, сквозь которые острыми золотыми мечами вечернее солнце упирается в горизонт.




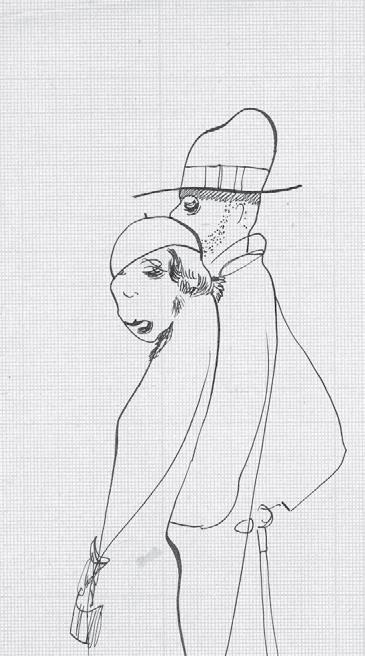
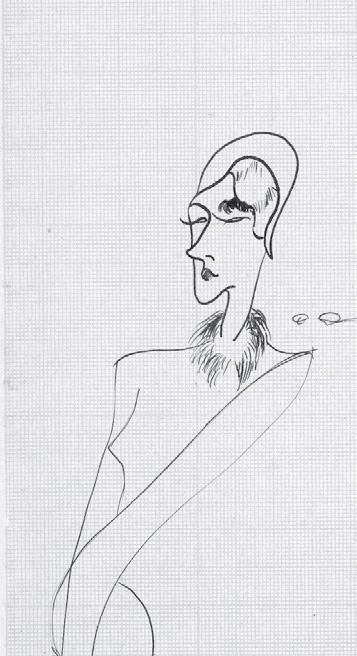
Начиная со второй половины 20-х годов художник иллюстрирует и оформляет ряд журналов
…Мы вышли из гостиницы пообедать и почему-то поехали на Зеленый Мыс. Но там уже все было закрыто, и мы сели в поезд и поехали в Кобулети. Потом нужно было долго ехать автобусом. Потом был этот пляж. Потом мы разыскали восточный ресторан. Но вино взять не смогли: оказалось, я забыл деньги в гостинице. На кое-какую еду хватило. На вокзал мы шли пешком. До него было далеко. Мы шли быстро. Мы должны были успеть к последнему поезду. Было темно. Я заставил тебя рассказывать что-то увлекшее тебя и слушал не перебивая, затаив дыхание. Я боялся, что ты заметишь, что мы идем чересчур долго и что ты устала. Мы вернулись в Батум совсем поздно.
Мы устали, но нам было очень хорошо».
Уже по рисунку – изгиб моря, пара, бредущая по приморскому шоссе с нависающей сбоку скалой, пальмы и солнце, – понятно: запомнившийся день входит в череду чудесных черноморских дней.
«Магнолии одуряюще пахнут лимоном. Мы идем по шоссе. Шумит море и трещат цикады. Из ущелья, как из открытой огромной печи, пахнуло на нас горячее дыхание.
Ночь. Черная южная ночь.



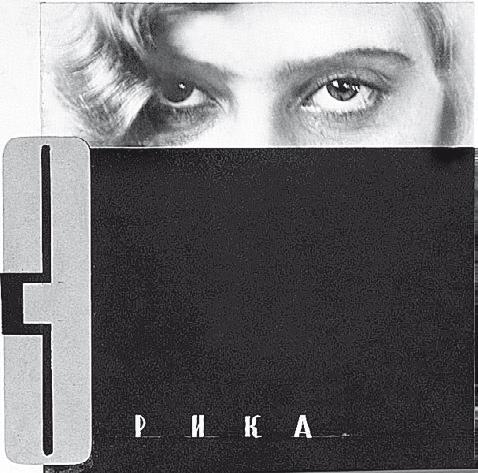
1930-е. Фотокомпозиции «для семейного пользования» – предтеча заказных фотомонтажей – сегодня смотрятся авангардом
Мы долго идем. Мы пришли в старый город. Мы входим в кафе. Садимся за деревянный стол на табуреты. Вместо крыши – зеленые листья и черные гроздья винограда. Крохотную площадку кафе огибает горный ручей. Его не видно, но мы слышим его холодное журчанье.
Хозяин-грек опускает руку в ручей. Он достает ледяные бутылки нарзана. Ставит на стол. Потом приносит маленькие чашки турецкого кофе, вкусного, как напиток богов. Мы пьем горячий кофе и холодный нарзан. Оставляем хозяину деньги. Идем домой.
Мы идем по шоссе. И магнолии еще более одуряюще пахнут лимоном».
Напомним, что каждая оснащенная иллюстрацией запись делалась глубокой ночью, после напряженнейшего дня. Работа с фоторепортерами, отбор фото – наших и трофейных, задания печатникам и ретушерам, подготовка, обсуждение, порой переделка, утверждение и выклейка макетов изданий на русском и немецком, и еще масса творческой суматохи, из чего состояла повседневная редакционная жизнь. И одновременно художнику надо было держать в голове тему очередного фотомонтажа. Обычно он сам и придумывал ее. Иногда отталкиваясь от какого-то фото, но чаще стараясь просто взглянуть на монтаж глазами того, кому он был предназначен, – вражеского солдата. И понять, что именно на него должно сильнее всего воздействовать.



В первых «официальных», рекламных фотомонтажах художник нередко использовал образ молодой жены
Начиналось все это в довоенной жизни, как игра, где вкрапленное фото или вырезки из журналов должны было придать убедительность шутливой композиции, основу которой обычно составлял рисунок. Иногда появлялись целые альбомы из забавных склеенных фотокомпозиций. Главными героями обычно были сам автор и его Лялька… То она шутливо целится в какое-то экзотическое животное, то восседает на плече орангутана, опираясь на путеводитель «Бедекер», то, стоя на карте земного шара, кокетливо облокотилась на маленькую пальму в ожидании супруга, вышагивающего по прочерченному через моря и континенты маршруту…
Потом последовали заказы на рекламные работы. Первые заказные работы с использованием фото рекламировали не только отдых в Кисловодске, но и потребительские товары: настольные лампы, консервы, букеты цветов. Фотомонтажные композиции Александра Житомирского стали появляться на обложках книг, например о теннисе и о боксе, на обложках журнала «Рост».
Ключевым же событием стала встреча с творчеством Джона Хартфильда. Антивоенные и антифашистские фотомонтажи этого немецкого художника публиковались в Arbeiter Illustrierte Zeitung (AIZ), иллюстрированной газете немецких рабочих, издававшейся вплоть до прихода к власти в Германии Гитлера. Она осталась в истории печати главным образом благодаря этим ярким, не похожим ни на какие другие работы, шедеврам политического фотомонтажа. Отец уже некоторое время с интересом приглядывался к композициям Александра Родченко, хотя в число корифеев тот войдет в первую очередь благодаря своим фото. Четкостью композиции, любопытным сочетанием шрифта, графики и фото привлекали монтажи Эль Лисицкого. Не проходили мимо его внимания и цветные композиции Густава Клуциса. Но когда он впервые увидит в AIZ наполненные энергетикой политические фотомонтажи Джона Хартфильда, то поймет, что готов идти вслед за этим мастером.
Вот некоторые из запомнившихся ему работ.
…Гитлер, из лейки поливающий худосочный дуб, на котором растут гигантские желуди-бомбы… Фюрер с поднятой вверх рукой и вывернутой назад ладонью, в которую гигант-толстосум вкладывает пачки купюр, и подписью – любимая фраза Гитлера: «За мной миллионы»… «Судья и подсудимый» – отклик на провокационный процесс о поджоге Рейхстага. Исполин Димитров нависает над своим «обвинителем» – стоящим на переднем плане коротышкой-Герингом. Впечатляющий прием – обратная перспектива… Фашистская свастика, органично образованная четырьмя связанными топорами, с которых стекает кровь… И подпись: Джон Хартфильд.
Его судьба будет драматичной. После прихода к власти нацистов Хартфильду чудом удастся избежать ареста, спустившись по пожарной лестнице во двор, пока эсэсовцы выламывали дверь. С помощью друзей он сможет нелегально перейти швейцарскую границу. Затем – Прага. Здесь продолжает выходить AIZ с его монтажами. Однако в 38-м Чехословакия оккупирована фашистами. Бегство в Париж, и опять его новые антифашистские монтажи в выходящей уже там AIZ. Но в 40-м придется бежать и из Франции, за Ла-Манш. Его работы станут появляться на страницах лондонских газет. И лишь во второй половине 50-х он встретится с тем, для кого стал учителем.
Хартфильд провел целый день у нас дома. Не жалел восторженных эпитетов в адрес работ своего ученика. В какой-то момент, разглядывая очередной монтаж-листовку, воскликнул «Это как удар в открытую рану!». Предложил устроить совместную выставку, которая в начале 60-х с огромным успехом и состоялась в Берлине. Наряду с работами стандартных размеров несколько фотомонтажей отца были напечатаны в грандиозном увеличении – чуть ли не три на четыре метра. Автор ощутил: монтаж от такого сверхувеличения многократно выигрывает, его убедительность возрастает в геометрической прогрессии.
…Но вернемся в довоенные годы. Отец тогда стал постоянным покупателем AIZ, дотошно рассматривая каждую новую работу Джона Хартфильда. К несчастью, накопленный потенциал вскоре будет востребован: наступил июнь 1941-го. Однако в его распоряжении уже не было «антологии» работ глубоко чтимого Хартфильда. Ютясь в шестиметровой комнате, забитой книгами и журналами, он однажды холодным вечером вытопил печь подшивками разных изданий. «Как я жалел о сожженных в печке журналах! – вспоминал позднее отец. – Это было плохо и вместе с тем хорошо. Будь журналы под рукой, я бы слепо подражал Хартфильду…»
Теперь же он искал свои пути. Ведь не было никаких учебников и пособий, в творчестве приходилось двигаться буквально на ощупь, руководствуясь собственными представлениями о психологии того, кому предназначались выпуски «Фронт-иллюстрирте».
Сила фотомонтажей заключалась в том, что документальными средствами немецкому солдату объяснялось: он, во-первых, человек; во-вторых, человек, сбитый с толку фашистской демагогией; в-третьих, что истинные его враги не по ту, а по эту сторону фронта – в Берлине; в-четвертых, что война против России – дело абсолютно безнадежное. Одна из самых ярких работ, ставших классикой, содержит вопрос: «Согреет ли тебя это?» Над полем боя, усеянным трупами немецких солдат, на фоне сполохов пожарища скелет руки держит огромный орден «Железный крест», с которого стекают капли крови. Многие монтажи показывали чудовищный разрыв в судьбах гниющих в окопах солдат и жирующей верхушки рейха. Особенно доставалось главному пропагандисту Геббельсу, которого раз за разом ловили на лжи. Художник добивался удивительного сходства с хромоногим карликом, изображая его в виде обезьяны с непременным микрофоном. И хотя авторство не указывалось, разъяренный рейхсминистр приказал установить фамилию своего обидчика и, видимо, с помощью агентуры добившись этого, внес ее в список «личных врагов» под № 3 (после Эренбурга и Левитана). Список был недвусмысленно озаглавлен «Найти и повесить!». Поначалу, правда, доктор Геббельс считал, что «фотомонтажи для русских, по-видимому, делают англичане». Это стало известно из его секретного приказа для офицеров немецкой армии о советской пропаганде и методах борьбы с ней. Экземпляр этого документа был прислан в редакцию из ПУРа. Несколько страниц в документе посвящалось Front-Illustrierte. Давалось конкретное указание: «Офицеры должны не только наказывать солдат за чтение этого журнала, но и разъяснять им, что это неправда. Нужно уяснить, что солдаты верят этим лживым картинкам»…
Свою разгадку этого творческого взлета художника предлагает современный американский искусствовед Константин Акинша. По его словам, в конце 20-х годов А. Житомирский «не только экспериментировал с инструментарием и методикой, которые использовались Родченко, Эль Лисицким и Клуцисом, но и вдохнул новую жизнь в этот жанр, увядавший к тому времени на корню… Он вернул монтажу гротеск, от чего Родченко отказался после 1923 года, и вышел победителем. Благодаря этому стал возможен успех его военных произведений». Прямое обращение к солдатам врага, отсутствие идеологических клише, ненужного пафоса, при этом выраженное образной и убедительной формой с использованием фотоматериалов становилось реально эффективным психологическим оружием.
Хороший фотомонтаж отец называл «своего рода маленьким изобретением». Острота ситуации, столкновение противоположных, внешне несовместимых элементов могут поднять фотомонтаж до уровня политического памфлета. На зрителя он производит внезапный эффект, надолго застревая в памяти. Для этого композиция должна быть еще и лаконичной. Многословность и тяжеловесность, обилие деталей, что заставляет всматриваться в них, затуманивают главную мысль, резко ослабляют качество и эффективность политического фотомонтажа.
Яркий пример – ставший классикой монтаж: портрет уважаемого немцами Бисмарка в тяжелой раме и реальная, живая его рука, указывающая на стоящего рядом тщедушного фюрера. Композиция сопровождается недвусмысленными словами: «Этот ефрейтор ведет Германию к катастрофе!». Кстати, эта работа была использована еще раз, для другой листовки. На обложке Front-Illustrierte № 28 ее держит в руках внук Бисмарка – сбитый и взятый в плен летчик Айнзидель… Листовку с Бисмарком в раме чаще всего называли как самую запомнившуюся немецкие пленные даже в конце войны. А ведь она была сделана в 1941-м.
Убедительна в своем лаконизме другая композиция – монтаж-диптих. Верхняя часть – парадный строй немецких солдат. Нижняя – вместо доброй половины самоуверенных вояк в том же строю кресты с касками в рост человека. И – цифра нашедших смерть и увечья на Восточном фронте.
…После завершения работы над очередной фотокомпозицией надо было оформлять несколько изданий и придумывать новый фотомонтаж. И вот для краткой передышки в этой сверхнапряженной работе заполнялся очередной лист в «Мечтах о прошлом и будущем». Хотя мы еще вернемся к рассказу о технологии создания «психологического оружия».
…Кавказ, но уже Гагры. Рисунок: Шура и Эрика с чашечками чая за столиком кафе. Фигура мужчины наклонена вперед, женская – чуть откинута назад. Аура притяжения между ними – это главное, что передала рука художника. Хотя присутствуют и листья пальмы, и почти театральный пролом в стене, сквозь который виден большой теплоход.
«В сумерки мы приходили пить чай к Курбану. На развалинах турецкой крепости он повесил кое-как написанную вывеску – “Чашка ароматного чая”. Чай у него был действительно ароматный и крепкий, и еще было варенье. Больше у него ничего не было. Но слава Курбана разлетелась далеко, его знали ленинградцы и москвичи. Мы больше нигде не пили такой чай.
Правда, Эрика?
И еще о нем был придуман милый анекдот, который, должно быть, переживет Курбана».
Анекдот не приводится – то ли подзабылся за давностью времени, то ли уже не кажется таким смешным, как в те безоблачные дни. Но чуть ниже еще несколько строк, в несколько неожиданной тональности:
«В Гаграх все было похоже на декорации. Или, вернее, на плакат “Интуриста”. В этой слащавой тропической экзотике есть все для глаза, но ничего не радует душу. Одна подмосковная береза в тысячу раз эмоциональней всего кавказского побережья. Но все-таки там приятно».
Новая запись, иной настрой, иная география. Окруженный березками старинный домик с колоннами, явно где-то в средней полосе. И – узнаваемая пара на переднем плане.

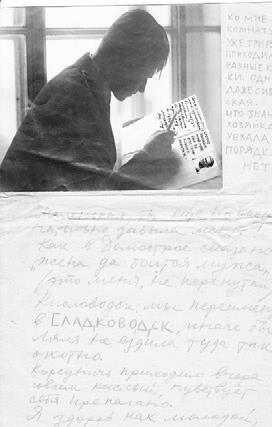
Письма Эрике в довоенные годы уснащались шутливыми монтажами
«Вода в реке заснула. Она неподвижна. Река скоро замерзнет. Листья желтые, и листья коричневые, и листья красные. Стволы берез очень белы.
Тихо.
Осень.
…Мы долго бродили у реки. Высокий берег спускался к реке огромными земляными ступенями. Это были площадки, усеянные листвой. Мы поднялись верх и там нашли дом. Островерхая крыша. Круглая терраса, окруженная белыми деревянными колоннами. Они увиты засохшим диким виноградом. Окна забиты досками. В этом доме давно не живут. Но люди, которые жили в нем, провели там чудесные дни. Дом был пропитан счастьем».
Похоже, пара, подошедшая к заброшенной усадьбе, так наполнена счастьем, что готова поделиться им даже с не известными им прежними обитателями этого жилья…
Отец иногда рассказывал о повседневной работе в военные годы. Кое-что он доверил бумаге.
Из послевоенных записок:
«…С самого начала моя работа над фотомонтажами в журнале поставила передо мной много задач – этических, политических, гуманистических, не говоря уже о технике монтажа, о чем нет никаких книг, она была путешествием для меня в джунглях без компаса. Если в нашей информации мы разговаривали со всей массой читателей, то в моих фотомонтажах я обращался к одному солдату, который в данный момент держит в руках журнал. Я себя ассоциировал с ним, ставил себя на его место. Был его заинтересованным собеседником. Понимал, что его лишили мирной жизни: любимой жены, детей, дома, собаки – словом, всего, что он любил. Что его бросили в грязь и кровь, в авантюрную, безвыходную войну. Объяснял ему наглядно, кто это сделал, кому это выгодно. Я говорил с ним, как с ЧЕЛОВЕКОМ, давал единственно правильный совет – порвать с гитлеризмом, зачинщиком этой войны, и сдаться в плен… Создание фотомонтажей осложнялось тем, что работа редакции была секретная, и я не мог приглашать актеров. У нас было шесть комплектов немецкой солдатской одежды, включая каски и шинели. В итоге я был художником, актером, режиссером, осветителем.
Конечно, самое главное и трудное – придумать монтаж. Следующая стадия – карандашный эскиз, точно в размер предполагаемого оригинала. И тут я нередко превращался в актера. Причем предпочитал всегда работать в фотолаборатории с лаборантами. Избегал съемки фоторепортеров, мне нужен был профессиональный технический исполнитель, каким являлся фотолаборант. Одевался в мундир, превращаясь в немецкого солдата, устанавливал свет – это важный компонент, поскольку все элементы монтажа должны иметь одно освещение, становился режиссером. Можно сказать, театр одного актера. Мой персонаж всегда был положительным героем, которому плохо, очень плохо. Так, в фотомонтаже «К ответу!» все семь солдат – я. Центральная фигура без ретуши, остальные лица изменены при помощи кисти и туши. Я любил применять обратную перспективу, она усиливает значимость идеи. Здесь солдаты на втором плане в несколько раз крупнее маленькой фигурки проигравшегося шулера Гитлера на первом плане. Аэрограф – необходимый участник монтажа. В этой работе аэрографом сделан диагональный луч света, он подчеркивает динамику фигуры солдата, занесшего кулак. Маленькая фигурка Гитлера плавает в луче, как черная муха в молоке.
Иная работа была с монтажом «Каждый немецкий солдат на Восточном фронте – смертник!». Я склеил поле, усеянное трупами на фоне горящих танков. При помощи аэрографа объединил это в одну картину, среди дымов вклеил огромную голову немецкого солдата, к которому я и обращался. Редактор резонно заметил: на лице солдата нет ужаса. Я запер свою комнату, поставил зеркало для бритья и кистью, тушью, белилами, скребком изобразил ужас в глазах, дрожащих губах полуоткрытого рта… с натуры.
…После многомесячной обороны Севастополь захватили немецкие войска. Я пришел к редактору: «Нужно сделать обложку для Front-Illustrierte». Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего. В результате фотомонтаж на обложке выглядел так: гигантская гора трупов вражеских солдат, на вершине кондор с измазанными кровью лапами и головой Гитлера, внизу на первом плане белые руины Севастополя. Поперек монтажа окровавленная надпись: “300 000 трупов – вот цена, которую заплатил Гитлер за руины Севастополя!”».
И после всей этой редакционной круговерти – рассказ о «празднике, который всегда с тобой», передающий атмосферу своеобразной фиесты. По сути, это целая новелла:
«Эрика, Янка и Валя ждали меня в кафе на седьмом этаже (видимо, гостиницы “Москва” – В.Ж.). Я задержался в редакции и приехал довольно поздно. Мы что-то выпили. Кафе закрывалось рано, и мы перекочевали на крышу. Москва оттуда чудесна. Стройные ряды фонарей, уходящие в бесконечную черноту, к Москва-реке, звезды на Кремле, фары автомобилей и троллейбусов – все это отражалось в асфальте и было сказочно красиво. Я горожанин и очень люблю эту каменную ловушку – город.
Мы не успели толком промочить горло, как выяснилось, что и это кафе без потолка, с потоком чистого воздуха, уже закрывается. Мы пошли в “Националь”. Был будний день, и там оказалось пусто. Официанты окинули нас сумрачными взглядами. Им явно хотелось домой, а нас одолевала жажда. Асфальт, еще теплый от дневной жары, делал ночь особенно душной. После некоторого колебания мы отправились в “Метрополь”, в этот кабак периферийных растратчиков. Там играл джаз, было людно, пьяно и шумно. Мы подождали немного, и когда освободился стол, заняли его. Пока с него убирали посуду, Валя взял газету, забытую нашими предшественниками, и шутя начал читать карандашные надписи на полях. Переписка велась на блатном жаргоне. Было два почерка. Речь шла о том, что одного из своих собутыльников они собираются “пришить”. Мы смеялись над Валей. Мы считали, что он жертва мистификации. На всякий случай газета была отдана дежурному. Тот расспросил официанта, кто сидел за нашим столом до нас, и быстро удалился. Мы счастливы были, что наконец-то перед нами появились бутылки. Долго и весело мы с ними беседовали, отдав должное каждому цвету. Выйдя на улицу и сев в такси, решили развести домой Янку и Валю. Они оба жили далеко, и когда мы повернули на наш Трубниковский, было совсем светло.
Нам было весело. Спать совсем не хотелось. И нам, в наши немного пьяные головы пришла шальная идея поехать на дачу на станции “42-й километр” в гости. Мы заехали домой. Эрика одела более удобные туфли. По дороге на вокзал нам пришло на ум захватить с собой Розу. Мы повернули к ней на Кисловский. Подыматься по лестнице мне было лень и, благо окно ее комнаты оказалось открытым, я принялся кричать неистовым голосом: “Розочка!!”. Диалог у нас завязался смешной: “Я не могу поехать, у меня не выглажено платье”. – “Включите утюг и погладьте, мы подождем”. – “Ничего не выйдет. Поезжайте без меня”. – “Я подымусь к вам и выглажу платье”. – “Нет, Шурочка, поезжайте без меня”. – “Розочка, у вас что, мужик там, что вы не хотите меня пускать?” – Все это я орал неистовым голосом. Перебудив весь ее переулок, под возмущенное хлопанье окон мы отправились на вокзал.
В поезде нам было весело. Мы были еще пьяны, и поэтому Эрика относилась снисходительно к моим остротам.
Свежее и ароматное утро превратило длинный путь на дачу в восхитительную прогулку. Мы открыли калитку и прошли мимо цветов и клубники к даче. Овчарка и бульдог на веранде подняли сначала злой, а потом радостный лай. В даче начался переполох. Когда заспанные приятели поняли, что на них в столь ранний час свалилось стихийное бедствие и что от этого никуда не уйдешь, они вынуждены были превратиться в гостеприимных хозяев. Нам было все равно. В голове еще бродили виноградные пары. Нас накормили хорошим деревенским завтраком. Овощи хрустели совсем не так, как в городе. Мы пили чай из самовара.
Потом притащили сена на веранду. Устроили царскую кровать и уложили нас спать. Хозяева ходили на цыпочках и вполголоса прикрикивали на собак».
Действительно, умозрительно вернувшись в тот маленький праздник, который был соткан собственными руками, можно было перевести дух, наскрести сил для завтрашнего 18-часового рабочего дня.
На рисунке к новелле – джаз-банд в «Метрополе», танцующие пары, за столиком. Эрика, Шура и двое их друзей. Я их помню. Ян Золотарев, красавец с вьющимися черными волосами, был директором небольшого завода. Приезжал к нам на дачу на мотоцикле, сажал меня на плечи и, несмотря на оханье взрослых, так катал меня вокруг участка. К сожалению, году в 47-м он погиб, попав под стоявший товарный поезд, который неожиданно с другой стороны толкнул маневровый паровоз. Валентин Поляковский, насколько помнится, руководил чем-то авиационным. Когда мне было лет пять, наши семьи снимали дачи неподалеку друг от друга. Он заходил рано утром за мной со своей рыжеволосой дочкой моего возраста, и мы отправлялись по грибы. Я уже немного разбирался в грибах – меня научил отец, с которым мы ходили по выходным в лес. Чаще в «ближний», но иногда и в «дальний».
Не поддавшаяся на настойчивые приглашения Роза Салтанова, как я понимаю, вращалась в литературных кругах. Во всяком случае, когда однажды в весьма юном возрасте я был послан мамой к ней с каким-то поручением, дверь в квартиру открыл маленький худощавый человек с гривой взъерошенных седеющих волос. Это был тот, кто придумал трех толстяков, прекрасную куклу Суок и наследника Тутси, – прославленный Юрий Олеша. Его незадолго до того выписали из больницы. По его словам, ему там разрезали живот, перевернули лицом вниз, подняли над операционным столом и «трясли, как лодку», чтобы удалить все лишнее. Я слушал и не знал, верить или считать это новой его сказкой.
…Перелистываем страницу книги. Рисунок: летное поле, на краю которого за раскладным деревянным столиком автор; на дальнем плане самолетик У-2. Вот воспоминание, которое этот набросок иллюстрирует:
«В синем небе, в небе, залитом солнечными лучами, в небе моего безоблачного детства повисла желтая фанерная стрекоза. Я смотрел на нее сквозь листья маслины, и восторг мешал мне дышать. Соломенная широкополая шляпа упала на землю. Стрекоза медленно растаяла в воздухе.
Узкие, нежные листья серебряной маслины растаяли в моем детстве, а самолет прочно вошел в мою жизнь, как папироса, как трамвай.
…Самолет приземлился в Ельце. На чудесном зеленом лугу стояла хата, рядом столик и табурет. Это был ресторан Елецкого аэродрома. Хозяйка угостила меня дымящейся глазуньей и парным молоком. Желтая проворная лисичка суетилась вокруг меня. Хозяйка жаловалась, что лисица – воровка. Вчера она выпила в кладовой все яйца.
Я летел в город моего детства – в Ростов.
В твою жизнь, Володька, самолет пришел еще раньше. В два года ты умудрился сделать трехдневный перелет».
Я родился за полгода до июня 41-го. Спустя два года мы с мамой были отправлены в эвакуацию. Маме пришлось оставить свой филфак МГУ, где все экзамены (сохранилась синяя зачетка с серебряным тиснением) сдавались на «отлично». Мы летели в Тифлис, как еще по инерции называли грузинскую столицу, незадолго до войны переименованную в Тбилиси. Там жили бабушка и дедушка – мамины родители. По пути дважды, как я узнал гораздо позднее, избежали крупной неприятности. Встреченные в воздухе бомбовозы с черными крестами не стали отвлекаться на такую незначительную цель, как наш маленький и явно не военный самолетик, продолжив свой запланированный смертоносный курс. А во время промежуточной посадки в прикаспийском Красноводске один из летчиков притащил мне бумажный фунтик со словами: «На, поиграй с жучком». Мама в ужасе оттолкнула фунтик: в нем сидела опаснейшая фаланга. Как я понимаю, таким неудачным способом летчик хотел завести знакомство с красавицей с золотистыми волосами, какой была тогда моя мама… Четверть века спустя я вновь оказался на красноводском аэродроме. Вышел из самолета, севшего для дозаправки. Прошелся по летному полю. Вспомнил о чудесном избавлении от ядовитой фаланги… А заодно и о последовавшем вскоре еще одном малоприятном случае.
…Мы обосновались в сельском местечке Окроханы. (Том самом, прославленном Тицианом Табидзе в переводе С. Заславского: «Если ты поэт и душой не слаб – / Рассвети, будто неба высь. / В Окроханах – вот этим утром хотя б / Не пиши стихов. Поленись».) Как я впоследствии услышал, к нам во двор заползла довольно крупная змея. Сосед по имени Вахтанг разрубил ее лопатой и пока добивал гадину, хвост уполз. «Теперь ее муж придет», – мрачно предрек этот смелый грузин и не ошибся. На другой день на ужасный крик матушки выскочили соседи. С бельевой веревки, натянутой во дворе над колыбелькой весьма юного тогда автора этих строк, свисала толстая белая змея – либо не знавшая про самый первый подвиг Геракла, либо знавшая, что под нею отнюдь не Геракл. Все тот же Вахтанг, которого я мысленно благодарил, бывая иногда в Грузии, бесстрашно расправился и с «мужем» змеюки…
Обо всем этом мама не стала писать отцу, остававшемуся в Москве, – к чему ему лишние волнения. Письма были наполнены теплом, любовью и скрытой тревогой: враг был все еще не так далеко от центра страны… Я читал некоторые сохранившиеся военные письма моих родителей. Но степень их эмоциональности не позволяет их цитировать.
…Я помню эти дубовые стулья. Квадратное сиденье с острыми углами, прямая спинка, ножки, скованные снизу по бокам брусками. Сколь тяжелые, столь и прочные, они заменяли отцу стремянку, когда надо было сменить лампочку или поправить проводку. Отец водружал на стол два таких стула один на другой – потолки-то были высотой почти четыре с половиной метра. Он всегда сам возился с электропроводкой, которая частенько выходила из строя. «А как ты этому научился?» – спросил я однажды. – «Был случай, пригласили мы электрика. Все вроде он сделал, а когда за ним закрылась дверь, провода отвалились. Я подумал, что смогу сделать лучше, попробовал – не так это уж и сложно оказалось». Каждый раз после очередного электроремонта, перед тем, как щелкнуть выключателем, отец произносил свое шутливое «С нами бог и крестная сила!».
Сразу после окончания войны родители сменили мебель, исчезли и дубовые стулья. Но я помню их жесткость, тяжесть и надежность и сейчас. И вот на краешке такого стула, подобно Нильсу, ставшему по воле гнома миниатюрным, пристроился карапуз, набивающий табаком отцовскую трубку. Мне знаком этот малыш. Позднее я видел его на фотографиях в семейном альбоме. А тогда мог видеть его, проходя мимо зеркала. И трубка эта коричневая с черным мундштуком, и коробка металлическая, салатового цвета, и даже вкусный запах табака – все это в числе самых ранних впечатлений навечно угнездилось в глубинах памяти. Где-то рядом с невероятно большим, округлым и вытянутым, пристегнутым к земле металлическим тросом, похожим на тучу серым аэростатом заграждения. Его было видно прямо из наших заклеенных крест-накрест белыми полосками окон, которые по вечерам задергивались не только шторами, но еще и тяжелыми портьерами выцветшего голубого цвета.
Слова, написанные рядом с рисунком, мне и сегодня не удается прочесть без кома в горле:
«Володька, ты маленький нахал. Ты решительно и смело вошел в мое сердце, заставил всех дорогих и близких мне потесниться и раз и навсегда занял первое место».
Как и эту запись:
«Вот передо мною лежит чистый лист, и я не хочу сегодня думать о прошлом. БУДУЩЕЕ! Оно будет ярким и солнечным, оно будет как береза после дождя на голубом небе. Мне не придется больше возиться с этими вшивыми фрицами, чьи головы набиты манией величия, а души – смердящим калом.
Будет бумага, и будет карандаш, и я буду сам заказчиком и сам редактором. Володька будет со мной каждый день! И мы будем доставлять один другому миллион мелких и крупных радостей.
И будет море.
…Мы лежим на горячем песке. Сквозь закрытые веки я смотрю на солнце. Мир розовый и оранжевый. И запах у него соленый. И шум у него спокойный и радостный, и легкий крик чаек вызывает улыбку.
Я знаю, что ты рядом, любимая.
Я слышу Володькину возню с крабом.
И радость заполняет мое сердце до края».
Набросок городского пейзажа – расплывчатый абрис домов, самолет в небе, на переднем плане огромная пикирующая ласточка. А рядом – гимн любви к жизни, ко всему тому, что радует, что приносит ощущение счастья:
«Я люблю коньяк. Это напиток мужчин. Я люблю восходящее солнце, оно вошло ко мне через двери балкона. Я люблю перо – за то, что оно пишет тушью по бумаге. Я люблю Восток за то, что он создал этого проклятого Будду. Он стоит передо мной на столе и цинично смеется мне в лицо. Слишком белые у него зубы и белки глаз. Он так же смеялся в 41 году и так же смеется в 44 году. Хам этот Будда. И я люблю цирк. И беседу с другом. Над чем смеется этот Будда? Над тем, что со мной нет больше моих друзей?
Я люблю кафе. Маленькую чашку кофе и большую стопку коньяку. Будда думает, что я больше не войду в кафе?
Я люблю пароход и дельфинов за кормой. Я люблю модель, потому что она неповторима и потому, что я ее вижу иначе, чем мой сосед по студии. Я люблю карандаш, потому что он мне доставил много радости.
Я люблю летний день, когда я медленно иду по асфальту и по бульвару. И девушка ждет своего любимого под часами. И кто-то прыгнул на ходу в трамвай. И свисток милиционера. И встречу с приятелем, которого помнишь в лицо и не помнишь по имени. И несчастный случай, который не видишь, потому что он окружен любопытными. И торговок цветами. И дворников, поливающих асфальт из шлангов на рассвете. И хрупкую девочку, которая вошла в вагон дачного поезда. И сирень на Театральной площади. И карнавал в парке на Москве-реке. И мост иного масштаба, что перешагнул через мелкую воду Москвы-реки. И вернисажи посредственной живописи. И «французов» на Остоженке с пустыми залами.
И селедку с парой чая в извозчичьем трактире.
И дымы паровозов в морозном воздухе. И прохладный сквозняк метро в жаркий день.
И Уланову в «Лебедином озере». И Мравинского за пультом. И медведя, просящего сахар сквозь решетки Зоосада. И косой полет ласточек в Трубниковском. И вишню с белым нарядом невесты, что заброшена в каменный двор. И этот гигантский овраг с полевыми цветами, где мы целовались с энтузиазмом семнадцати лет.
И я люблю тебя.
Я люблю жизнь.
…К тебе просьба, Володька: разбей этого Будду. Я не хочу, чтобы он смеялся, когда меня не станет. Обещай мне это, любимый мой».
После ухода отца я оказался перед тяжелым выбором: выполнить его просьбу или, поняв, что писалось это под настроение, посчитать ее метафорой? Я вновь и вновь рассматривал массивную деревянную фигуру сидящего Будды, точнее, Хотея. Китайцы его считают богом счастья, благополучия, достатка и веселья. Иногда его именуют богом довольства. У нашего Хотея наполовину повыпали зубы, от возраста появилась вертикальная трещина. Но он все равно улыбается полубеззубым ртом: еще одно имя Хотея – Смеющийся Будда. Мне было жалко уничтожать его, он ведь желает людям добра, а если его регулярно поглаживать по толстому животику, то якобы сбудутся ваши желания. И я решил сохранить жизнь нашему Хотею, придя к мысли, что просьба отца была высказана в особом состоянии, после рюмки-другой «напитка мужчин». К тому же больше никогда отец к этой теме не возвращался. Возможно, и сам запамятовал о том ночном настроении.
А у Хотея с годами появилось немало собратьев, больших и поменьше, но с неизменной улыбкой и традиционным брюшком. Мы привозим их из разных стран, и они мирно уживаются у ног старшего собрата.
Рисунок: держась за руки, мы с отцом переходим мостик над бушующей рекой. Я в матроске, мне идет пятый год. Только что кончилась война, и отец прилетел за нами с мамой в Тбилиси. В памяти засело название парка, где мы были, – Муштаид. Паровозик с маленькими вагончиками – детская железная дорога, не работавшая тогда, видимо, по причине трудного времени. Мальчишки на дорожке, выбивающие камнями расставленные кости. Это у баранов в коленках такие суставы, объяснил отец, мы в детстве просверливали в них дырочки и заливали туда свинец, для тяжести… Но главное, осталось воспоминание о том состоянии, о руке, сжимавшей твою, полном внимании к тебе, о том, что рядом не просто твой папа, но сильный и верный друг.
«В горах уже выпал снег, но солнце еще греет по-летнему. Мы идем вдвоем. Большой и маленький. Мы идем в незнакомую часть города. Идем кривыми переулочками. Они извилисто спускаются к Куре. Маленькие дома и большие деревья, яркое солнце и резкие тени радуют нас.
“Разобьем палатку, Вокин?” – “Давай, папка!” Володька солидно уселся на железный стул, вкопанный в землю перед домиком. Стул был теплый от солнца. Я устроился на пне. Мы сняли пальто и принялись за мандарины. Потом мы шли узеньким мостиком через бурную Куру, и Кура упиралась в заснеженные горы. Мы прошли через пригород и, минуя центр, вернулись домой.
…Вино бродило в моей голове, и солнце бродило в моей голове. И меня волновало, что мой любимый, мой Володька идет со мной в этом городе, и я, пожалуй, никогда не был так счастлив».
В Москву мы ехали на поезде. Я получил первые уроки игры в шахматы. В Ростове отец планировал выйти, чтобы на несколько дней задержаться у родных, повидать свою маму, уцелевших родственников. Когда мама меня спросила, хочу ли я ехать прямо в Москву или сойти с отцом, я не колебался: «Я хочу с папкой в Ростов». Город был сильно разбит. Навсегда врезалась в память картинка: почерневший остов многоэтажного дома, и на внутренней стене верхнего этажа белизной на фоне копоти сверкает раковина умывальника.
Еще более раннее мое воспоминание. Возможно, мы с мамой еще не отбыли в эвакуацию, либо вернулись на время в московскую квартиру.
…Придя с работы, отец положил передо мною конверт, наполненный марками. На них стояли печати, и они были вырезаны с прямоугольничками бумаги. Их надо было класть в блюдечко с водой, чтобы отмочить марки от бумаги. «Завалили нас совсем письмами этих фрицев», – улыбнулся отец. Гораздо позднее он рассказал о том, как они появлялись в редакции.
По приказу Политуправления армии письма с семейными фотографиями, взятые у пленных, а возможно, и у убитых немцев, мешками свозились в редакцию «Фронтовой иллюстрации». Их использовали для придания убедительности контрпропаганде. Для этого архива была выделена специальная комната, заставленная ящиками. Отец превратил архив в рабочую картотеку, постоянно раскладывая фото по темам: «жены», «дети», «старики», «дома», «зверства», «расстрелы» и т. д. Порой у одного и того же немца изымались фотокарточки с нежными надписями вроде «В память о счастливых часах» и фото изнасилованной и убитой русской девушки, повешенного заложника или партизана. Отец называл авторов снимков своими «заочными фоторепортерами». Фото со зверствами помещал в русскоязычную «Фронтовую иллюстрацию», лирические снимки использовались во Front-Illustrierte и листовках.
Для обложки одного из первых номеров Front-Illustrierte отец сделал монтаж из документальных фотографий: убитый немецкий солдат, его документы и раскрытая записная книжка с фразой «Господи, что несет мне 22 июня 1941 года?». Тем самым разоблачалась ложь фашистского командования о том, что-де СССР первым напал на Германию. Кстати, и впоследствии фашистских пропагандистов постоянно ловили на лжи. Главари рейха запугивали своих солдат утверждениями, что «русские расстреливают пленных». Во Front-Illustrierte регулярно помещали фотоочерки о лагерях военнопленных. Демонстрировали распорядок дня, меню, помещали интервью с солдатами, указывая их фамилии и личные номера. Иногда прямо призывали выбирать сдачу в плен, иногда подводили к этой мысли исподволь.
Один из фотомонтажей был весь сделан из трофейных фотографий, под каждой подпись: «Твоего сына… Твоего внука… Твоего брата… Твоего мужа… Твоего отца… Гитлер убил на Восточном фронте в России». Внизу было более крупное фото военного кладбища с березовыми крестами с касками и табличками с именами похороненных. Именно на этом монтаже появилась упомянутая выше резолюция начальника ПУРа о том, что его следует напечатать отдельной листовкой массовым тиражом.
Некоторые полагают, что фотомонтаж входит составной частью в фотоискусство. И заблуждаются: это самостоятельный вид искусства. Фотография реалистична, фотомонтаж условен. Здесь используются такие приемы, как обратная перспектива, метафора, гипербола вплоть до фантастичности, любые трактовки пространства и времени. «Сила действенности фотомонтажа огромна, – утверждает и своим творчеством подтверждает Александр Житомирский. – От простого сопоставления фотодокументов художник идет к сложнейшему синтезу фото-образов, монтируя на чистом листе не фрагменты фотографий, а составные части нового образа». Удивительно ли, что вражеский генералитет чувствовал опасность, исходившую от этих листков, явно влиявших на состояние боевого духа солдат. В период наступления войск вермахта был издан приказ, запрещавший «коллекционировать русские листовки». Позднее реакция начальства стала более жесткой: за найденную листовку – в разведку вне очереди. А после разгрома на Волге за такое уже расстреливали. И все же после окружения очередной немецкой части кто-то непременно из потайного места доставал «пропуск» с фотомонтажом, объясняя, что вот, мол, готовился перейти линию фронта, да не было случая. Вернувшиеся с фронта редакционные фоторепортеры рассказывали, что присутствовали при том, как после ликвидации «котла» на Корсунь-Шевченковском направлении с поднятыми руками вышла большая группа, человек двести, немцев. И у каждого была припрятана либо листовка, либо Front-Illustrierte. Это ведь гарантировало жизнь.
А спустя двадцать лет после окончания войны художник встретится с одним из своих «крестников». Будучи в Берлине с очередной своей выставкой, отец разговорился с шофером по имени Флориан, неплохо изъяснявшемся на русском. Выяснилось, что язык тот освоил в плену, куда добровольно попал в начале 1942-го, предъявив листовку «Этот ефрейтор ведет Германию к катастрофе!». Вспоминая об этом, отец говорил, что еще раз ощутил: они недаром тогда работали не щадя сил.
Возвратимся к рукописной книге:
«Ночью выпал большой снег, и теперь, утром он лежит красивый и серебряный, как шкура белого медведя. Весна, солнце и синие тени деревьев свободно входят в мое сердце. Глаза, обоняние, слух – через эти двери счастье входит в меня. Но что-то мешает мне.
Я вышел из дома, и я спешу в редакцию. Несчастье горожанина. Он всегда идет откуда-то и спешит куда-то.
Вот я не помню больше, куда я иду, и я не знаю, откуда я ушел, это было целых два века назад.
Теперь снег хрустящий, солнце ласковое, тени синие, и шаг легкий. Теперь я чувствую счастье этой минуты, без прошлого и без будущего».
И чуть ниже в стороне:
«Море прозрачное, розовый краб пятится от меня в расщелину.
Звенящий снег, и ветер в лицо, и с середины горы я кубарем лечу вниз. Это мой первый день на лыжах.
Девушка меня вытащила за волосы, я выплюнул литр желтой воды. Я больше не утопленник.
Я неистово гребу. Я снова сплю чаще в шлюпке, чем дома. И я по-прежнему не умею плавать».
Кому-то это может показаться потоком сознания. Я бы назвал это «потоком чувств». Удивительно ярко передано состояние, так мог написать только художник. А то, что отец был спасен, когда случайно соскользнул с борта лодки, то он должен благодарить не только неведомую спасительницу, но и то, что носил тогда длинные волосы…
Иллюстрация: знакомая фигура автора – повзрослевшего несостоявшегося утопленника, по щиколотку в водах родного Дона, явно любующегося просторами и пароходиком на горизонте.
На рисунке могучая старинная арка, вбирающая в себя узкую тбилисскую улицу. По ней идет автор. Вот его рассказ:
«Маленький, крикливый восточный базар с яркими плодами остался за моей спиной. Узкая кривая уличка медленно, зигзагами поднималась в гору. По ее крутизне могли пройти ишак и человек.
Дома временами сходились балконами над моей головой. Дома были старые. И камни мостовой древние. От одного дома время сохранило только стену. В стене открылась дверь. За ней было синее небо. Из двери вышла женщина с ребенком.
Где-то за спиной осталась улица Руставели с домами, построенными восемь веков спустя.
Уличка нырнула под толстую тенистую остроконечную арку. Я вошел во двор монастыря. Он стоял на горе Давида. Перед дверью церкви сидел монах. Старый монах с круглым лицом. Он перебирал четки. Он посмотрел на меня добрыми, ласковыми глазами-маслинами. Я хотел заговорить с ним, но не решился. В церкви была тишина и прохлада святого места. Я не потерял веру в бога, я просто никогда ее не имел.
Прошло десять лет. Я опять пришел в этот монастырь. Церковь была заперта. Я заглянул в окно. Внутри была безрадостная пустота. Никто не помнил этого монаха. Но я его буду помнить всегда.
У него были глаза моего отца».
И снова к «фону», на котором рождалась книга-реликвия. Отец рассказывал, что не раз бывал в лагерях пленных. Ездил с редакционным фотокорреспондентом для подготовки репортажей о жизни пленных солдат. В лагерях кормили вполне прилично. Дефицитным был лишь табак. К нему подходили с протянутой рукой и словом «махорка». Враг без оружия – уже не враг, говорил отец. Он видел в нем такого же курильщика, каким был сам. И хотя журналисты остро переживали нехватку курева (отец даже для экономии табака завел трубку), он возвращался в Москву с пустой коробкой. Вспоминая об этом, мрачнел: «При этом к тому времени у меня был свой счет к Гитлеру. В моем родном Ростове расстреляли одиннадцать тысяч человек. Среди них был мой старший брат – фоторепортер и мой любимый дядя Самоша».
Позднее я получу документальные подтверждения гибели родственников – в иерусалимском мемориале Яд ва-Шем.
«Когда ты думаешь, мысль твоя бежит легко и свободно. Она спокойно перескакивает с одного на другое. Но ты берешь перо, и перед тобой бумага. Ты стараешься облечь свои мысли в “литературную форму”. Это уже фальшивый шаг. Зачем я это пишу? Стоп. Об этом не стоит. Как и еще о многом.
…Я шел по Тверской. Из переулка длинными, упругими прыжками вылетел, как стрела, радостный и веселый, с лоснящейся шерстью доберман.
Через секунду на мостовой лежал изуродованный, дрыгающийся коричневый комок.
Грустно.
Это было очень давно. Но он мне чем-то напомнил меня. Я и запомнил это. Грустно».
А на рисунке – одна из любимых собак автора, которую он не раз запечатлевал на бумаге. Ее звали Тума.
«Была весна, и солнце только что вышло. Оно осветило одну сторону улицы, но его ласковые лучи еще не пробили голубой предутренний туман в переулках. Волчий аппетит моих восемнадцати лет безошибочно направил меня в извозчичий трактир. Мне дали селедку и пару чая. Это был вкусный завтрак в хорошем обществе. Извозчики прихлебывали чай из блюдца, степенно говорили о политике, о ценах на овес и о смысле жизни.
Потом я шел по мосту. Ледоход уже закончился. Вода стояла тихая и сонная. Вдалеке показалась льдина, мохнатая и белая, как белый медведь. Я подождал ее. Она тихо приблизилась к мосту и прижалась к быку. Солнце пригрело ее. Край льдины слегка подтаял, и она медленно скользнула под мост.
На острове я разыскал буддийский храм. Он стоял, красный с золотом, нарядный, как праздник».
И – автор перед огромным изваянием восточного божества.
Древний автобус с чемоданами на крыше мчит вдоль кромки озера. Посередине полусказочный остров. Яхточка, ловящая парусом ветер. Этим рисунком иллюстрируется следующая новелла:
«Масса чудес есть на свете, и очень многие из них столпились в одной маленькой стране. Я давно уже топчу землю и смотрю на солнце, и иногда я чувствую себя старым. К счастью, не часто. Много дней в моей жизни было дождливых, но еще больше солнечных. Четыре самых солнечных дня я провел в Армении.
Я проснулся и в окне поезда увидал чудо номер один: высоко в небе огромная снежная сверкающая вершина горы, отрезанная облаками от земли. Это Арарат. Потом за окном появилась пустыня. Земля, потрескавшаяся во всех направлениях и усеянная осколками камней. Следующее чудо – Эривань. Каждая улица Эриваня заканчивалась Араратом. А фоном для площади были две снежные вершины Алагёза. Каждый прохожий ел виноград, как на Дону лузгают семечки. И сорок прохожих ели сорок разных сортов винограда. На базаре была просто виноградная вакханалия. На земле, на коврах, в корзинах лежали горы гроздьев.
Коран с чудесными миниатюрами я увидел в городском музее. Хорош караван-сарай. В нем замерла жизнь, но в его тени притаился средневековый Восток. Тонкими контурами и красивыми зданиями прорисовывается будущий Эривань. Город завтрашнего дня.
Чудесно гостеприимство Армении, но еще лучше шашлык. Мы были в саду и слушали джаз. Музыканты были армяне, и все слушатели были армяне. Я никогда не видал столько армян в одном вместе. Несмотря на дикую жару и мужчины, и женщины были в черном.
Потом мы сели в открытый рыдван, в представлении аборигенов он был автобусом. И то, что он не развалился, тоже было чудом. Мы ехали в горы. Стояла жара, и вокруг не было деревьев. Дорога была некрасивая и безрадостная. Но высоко-высоко в горах, там, где уже стало холодно, возникло самое чудесное чудо – озеро Севан. Синяя эмаль разлилась между скалами, и глаз не видит ее конца. Посреди озера брошенный, как в сказке, рукой великана, остров – скала, окаймленная деревьями, и наверху монастырь. Мы дали друг другу слово отдохнуть на этом острове недельки две, но с тех пор прошло немало лет, но мы больше туда не попали… Нам зажарили форель, и надо сказать, среди чудес она не на последнем месте.
Автобус ехал по берегу Севана, и вода в нем была прозрачней стекла. Гладкие камешки лежали на дне, и голубые тени форелей проплывали над ними. Потом пейзаж начал резко меняться, все стало зелено. Мы приехали в Дилижан. Автобус дальше не шел.
Слева и справа высились горы. Деревья покрывали их до вершин. Редкие домики и густая зелень красивыми ярусами поднимались вверх. На одной из террас этого Колизея прилепилась крохотная гостиница. В ней мы провели ночь и утро. Два молодых архитектора, живших в ней, устроили нам сеанс красивого гостеприимства. Один из них, особенно симпатичный человек, занимался планированием реконструкции Дилижана. Он с увлечением рассказывал, что это будет лучший легочный курорт в мире. И действительно, воздух там был, как сухое белое вино. Он наверняка сделает чудесный курорт. Хотя война связала теперь ему руки. Только бы она не свихнула ему шею…
Утром нас посадил в свой ЗиС секретарь ЦК Армении (мы не были с ним знакомы, но наши “старые друзья” – архитекторы представили нас) и повез по прелестной дороге, с бесчисленными острыми поворотами, в Кировакан. Черные от дыма, с плоскими земляными крышами дома здешних деревень были обнесены каменными заборами. Вдруг промелькнула голубая деревня. Она вся была сложена из благородного базальта. Он лежал на поверхности, и его не нужно было добывать. Следующая деревня оказалась розовой. Нам объяснили: здесь на поверхности лежал туф. Впрочем, из туфа, как выяснилось дальше, были сложены даже привокзальные туалеты.
Внезапно возникла картина, напоминающая мираж. Белоснежные хаты с красными черепичными крышами, с кружевными занавесками в окнах. Украинские волы с гигантскими рогами и девушки, светловолосые девушки в украинских платьях. Молокане. Их выгнала из России Екатерина II, и до сих пор они сохранили, как в музее, свой быт.
В Кировакане мы купили билеты в международный вагон, но в купе я так и не вошел. Я все время простоял в коридоре у окна. Пропасть сменяла пропасть, голубые базальтовые скалы чередовались с розовыми горами, ущелья, дикие, как в старых восточных легендах, монастырь, заброшенный на вершину отвесного утеса. Природа здесь выглядела так, словно вчера произошло землетрясение и все еще не встало на свои места».
Конечно, последняя фраза, образная сама по себе, звучит сегодня, после катастрофического катаклизма конца 80-х в республике, жутковато. Но так видел, так чувствовал художник, побывавший в Армении, судя по всему, во второй половине 20-х годов. После 1931 года такие путешествия они совершали уже с моей матушкой. Кстати, и Ереван автор именует еще Эриванем, как он и назывался вплоть до середины 30-х. Да и горный массив Алагёз уже давно обычно называют Арагацем… А во время основательной поездки в Армению где-то в 50-х – 60-х он очень много рисовал – и пейзажи, и портреты. Среди его героев епископ Саак в священном Эчмиадзине, обнаруживший в ходе сеанса дар остроумца, а также 110-летний крестьянин Авло, который по получении небольшой финансовой благодарности от художника, произнес: «Пойду куплю табак». Для отца это прозвучало бальзамом на душу: если такой старец курит, то и ему можно пока не бросать, что настоятельно требовали и мама, и врачи. Кстати, рисовал отец тогда карандашом – любимый черный фломастер еще не возник в его арсенале, а может, и не был изобретен. Когда он появится, вначале в виде толстых самодельных ручек, куда надо было добавлять черную жидкость, а затем в виде привозных сувениров, рука художника будет так тверда и верна, что нестираемые и несмываемые линии будут точны и убедительны.
…При первой же возможности, а она возникла в начале 70-х, я тоже отправился в Армению. Рисунков насмотрелся, наслушался семейных рассказов, да и вообще новое место всегда интересно. Туда мы отправились вместе с гостем моей тогдашней редакции – румынским коллегой и его супругой. Встречали нас, выражаясь сегодняшним языком, как вип-гостей. Даже более того. Оказалось, что незадолго до того был избран новый глава армянской церкви – католикос всех армян, родом из Румынии. И моего румынского коллегу воспринимали как лицо, к нему приближенное. Это принимало гротескные формы. Помимо встреч и официальных приемов, в ходе поездок по республике хозяева подвозили нас к неказистым с виду, но готовым к нашему приезду придорожным кафе. И первое, что ставилось рядом со столом, это ящик с двадцатью бутылками коньяка. Я все же запомнил из той поездки прекрасные горные пейзажи, дома из розового туфа. И конечно, поездку на Севан.
Голубая жемчужина республики, ее гордость и боль, озеро стало жертвой плохо просчитанных экономических экспериментов. Его воды в значительной мере решили пустить на нужды гидроэлектростанции, а обнажившееся дно использовать в хозяйственных целях. В итоге и озеро попортили, и отдачи особой не получили. Когда мы там были, то остров-скала из отцовских воспоминаний уже превратился в полуостров, а хозяева рассказывали нам о строительстве почти 50-километрового туннеля для переброски вод реки Арпа в Севан. Это перемежалось цветистыми тостами на берегу озера за столом с неповторимой жареной форелью. На обратном пути в Ереван сидевший в машине позади меня представитель союза журналистов, как и по дороге наверх, к Севану, время от времени от души и совершенно неожиданно хлопал меня по левому плечу, задавая вопрос: «Как дела, Владимир? Все хорошо?» Беда была в том, что этот дядя в молодости выступал на боксерском ринге в тяжелой категории. С тех пор он еще набрал живого веса, так что дружеское «похлопывание» заставляло меня вначале вздрагивать, а затем накреняться в сторону шофера.
…Двое приятелей безмятежно проводят вечерний досуг на балконе. Художник (он сидит на стуле) запечатлел себя играющим в шахматы с другом нашей семьи Александром Корсунским – «Шуриком», «Корсуничем». Вскоре после начала войны он оказался на долгие годы оторван от всех близких ему людей. Принудительный лесоповал и прочие сибирские реалии. Когда стало возможно, родители передавали для него посылки. Я познакомился с ним только году в 57-м, когда он, наконец, приехал в Москву и пришел к нам в гости. Остроумный, много знающий человек с прекрасной реакцией. Каждый раз, когда он приезжал в Москву из Ленинграда, где теперь жил, бывал у нас. Иногда оставался ночевать, я уступал ему свой диван, а сам устраивался на полу на надувном матрасе. Мы подолгу разговаривали с ним перед сном. Общение с ним несмотря на разницу в возрасте было легким и увлекательным. Позднее свое жилье в ленинградской коммуналке Александр Иосифович любезно предоставил нам с Ольгой для нашего недельного «медового месяца», на это время деликатно перебравшись к кому-то из знакомых: устроиться в гостиницу в начале 70-х было непросто. Лет двадцать спустя мы с Ольгой решили показать Ленинград дочке Ксене. В один из дней позвонили ему. Его жена сказала, что он болен. Я знал, что незадолго до того он вернулся после нескольких недель в Америке, куда ездил по приглашению обосновавшегося там сына. Так на склоне лет он впервые попал заграницу. Из жившей в тот момент впроголодь страны – сразу в Штаты, сильнейший стресс. Эмоциональный и впечатлительный человек, он вернулся оттуда в инвалидной коляске, которую был вынужден купить ему его сын.
Когда мы приехали навестить Александра Иосифовича, стало ясно, что болеет он уже в последний раз. Лежал пластом, в полузабытьи, но нас с Ольгой все же узнал. Попрощался, тихо проговорив: «Мне пора в путь…»
«”Ваш ход, старик”. – “Ладно, – сказал я, – пожертвую вам этого коня, но как бы это не вышла вам боком”. – “Ничего, ничего, детка, все равно я эту партию выиграл. Может, начнем новую?” – “Э нет, Шурик. У меня еще кое-что для вас припасено. Сомневаюсь, чтобы вы ее так легко выиграли. Да и выиграете ли – вопрос!”.
Дышать в Москве в то лето было нечем. Солнце явно ошиблось адресом, и все лучи, назначенные для Батума, направляло на бедных, малоподготовленных москвичей. Все москвичи, особенно дворники и милиционеры, ходили с коричневыми обожженными лицами, словно только вернулись с курорта.
Шурик приносил с собой глыбу искусственного льда своего изготовления. Мы пили воду со льдом и с клубничным вареньем из огромных чашек. Мы играли в шахматы на балконе. Весело и мирно болтали. Иногда свирепо спорили. Нам было о чем спорить, наши вкусы не во всем сходились. Я его очень любил, Шурика. Нам было хорошо. Иногда мы говорили о будущей войне. Мы представляли ее разно. И ударила она нас по-разному.
Друзья уходят из моей жизни раньше, чем перестают быть друзьями.
Грустно, Шурик».
Этот друг, как мы знаем, к счастью, вернулся.
…Большой пузатый балкон занимал центральную часть четвертого, единственного «обалконенного» этажа фасада нашего дома в Трубниковском переулке. Одним концом переулок упирался в Поварскую (тогда называвшуюся улицей Воровского), а другим – в скверик, прилегавший к Арбату. (Это место известно каждому по картине Поленова «Московский дворик»).
Серый пятиэтажный дом был построен в 1912 году, о чем свидетельствовали крупные накладные цифры над нашим балконом. А над ними – герб еще с пятью ленточками вокруг колосьев, каким он был, когда в составе СССР было только пять республик. Герб был размещен на месте гигантского распластанного орла, светлые контуры которого выделялись на фронтоне. До революции здесь размещалось Ведомство уделов. А в недрах – винные подвалы. В 1952 году я наблюдал с балкона, как на фасад вешали белую мраморную доску, возвещавшую, что дом построен по проекту архитектора Павла Малиновского. Во время недавнего капитального ремонта цвет дома зачем-то изменили с традиционного серого на песочный. Заодно куда-то дели белую мемориальную доску. Теперь здесь висит более новая. Упоминающая, к счастью, фамилию архитектора и сообщающая, что здание – «памятник архитектуры», и что «здесь работал основатель научного виноделия в России Л.С. Голицын». Вообще-то, где-то до 56-го года тут могла бы появиться и другая мемориальная доска – что здесь размещался Наркомат по делам национальностей, который, как известно, возглавлял сам Сталин. И что он, соответственно, работал здесь. Об этом в наших коммуналках, во что был затем превращен будущий памятник архитектуры, старались не говорить.
Слащавое изображение коммуналок в фильмах 50–70-х годов имеет мало общего с жизнью нашей квартиры. Длиннейший коридор, сворачивающий в еще один, покороче, который вел к «местам общего пользования», с их неизменными очередями, и общей кухне, с ее неизменными сварами. Одиннадцать семей, минимальное народонаселение – 33 человека, порой оно бывало и больше. Никаких особых дружб и хождений в гости друг к другу не было. Как-то в институте ко мне подошла девушка с моего курса и спросила, не помню ли я ее – ведь мы жили в одной квартире. Не вспомнил. Хотя из этой коммуналки мы выбрались, когда я пребывал уже в достаточно сознательном возрасте, мне исполнилось 16 лет. Помню, что все старались не сталкиваться в коридоре с низкорослым соседом, который ходил всегда с кобурой у пояса и ни с кем не здоровался. Говорили, что он «начальник кадров» какого-то завода. Розовый быт всеобщей любви, открытости и добросердечия жильцов коммуналок, представленный на примере нашего дома на суд почти сорока миллионов кинозрителей и несчетного количества телезрителей фильмом «Романс о влюбленных», можно отнести к разряду мечтаний или фантазий. Действие ленты Михалкова-Кончаловского разворачивается в квартирах и во дворе-колодце как раз нашего «памятника архитектуры».
Превращенные в «Винную базу № 2» голицынские подвалы порой не вмещали всей продукции, и огромные бочки толпились во дворе. Однажды такая бочка лопнула, и красный ручеек потек через арку на мостовую вдоль бордюра. С кружками и мисками сбежались любители дармового спиртного. Один даже лег на тротуар и пытался пить из неожиданной реки. Подошел милиционер. Обращаясь к невозмутимому дворнику в фартуке и с бляхой, сказал: «Ты бы убрал все это, асфальт-то не шибко чистый». Тот ответствовал: «А что азфалт? Утром подмел, чистый он».
На короткое время в центре прославленного кинолентой двора возник неуклюжий фонтан с одной центральной струей. Потом на его месте поставили стол для пинг-понга, который уже начинали называть «настольным теннисом». Мы отчаянно махали маленькими ракетками. Наступила вторая половина 50-х, оттепельные времена. А вскоре, с началом хрущевского домостроительства, у нас появилась отдельная квартира в одном из далеких московских районов.
Спустя лет двадцать дом в Трубниковском капитально перестроили под нужды чиновников, жителей выселили. В ельцинское время, похоже, не без исторических параллелей, сюда въехало Министерство по делам национальностей. Однажды я встретил приятеля, который, как оказалось, работал советником руководителя этого министерства. Хотел напроситься в гости к нему на работу, поглядеть, что да как, благо кабинет был, как я понял, на месте нашей квартиры. Но раздумал: пусть в памяти останется не перестроенная коммуналка, какой бы она ни была. Детство все же там прошло.
И опять в записках всплывает наш балкон. Хотя речь идет о счастливых минутах творчества.
«Я возвращался домой, и ночное небо было совсем светлое. Звезды исчезли, и только на востоке, над горизонтом неправдоподобно ярко сверкала огромная звезда.
…Первый луч солнца разбудил меня. Я проснулся бодрым и счастливым.
Всю ночь я работал.
Я открыл шторы и вышел на балкон. Луч солнца ослепил меня. Я заснул усталый, но счастливый».
Это тоже о том, что любимо. О ветре и животных. Отец обычно делал наброски, когда в детстве родители водили меня в зоопарк. Но и раньше он делал там зарисовки. Об этом свидетельствуют и иллюстрация, и запись.
«Круторогий каменный козел с гордо повернутой головой стоит на воротах зоопарка. Тяжелые белые облака медленно ползут за его спиной по синему небу.
Ветер.
Листок блокнота трепещет под карандашом.
…Вышло солнце, асфальт быстро просох. Только на лаке и стеклах автомобилей дрожали капли дождя.
Дул ветер».
«Ночь. Я вошел в последний трамвай. Закрытая площадка была пуста. Ни в одном стекле я не увидел своего отражения. Эдгар По не написал один рассказ. Человека вталкивают в комнату. Стены, потолок и пол – из зеркал, но ни в одном зеркале человек не видит себя. В каждом зеркале бесконечное число раз отражается вся комната. Но человек не видит себя. Комната залита светом. Человек сходит с ума».
И после отбивки, чуть ниже:
«День. Я еду в автобусе. Сажусь у окна. Я крепко задумался. Смотрю в окно. Не узнаю улицу. Не знаю, куда еду. Где еду. На какой остановке мне нужно выйти.
Выяснилось – еду из редакции домой, маршрутом, которым езжу ежедневно».
Автора можно понять. Работа на износ, испепеляющее многолетнее напряжение… Это уже те годы, когда появилась возможность по ночам сменять холодный редакционный диванчик на домашнюю обстановку. Уже можно было подводить кое-какие итоги своей работы. Конечно, точная цифра перешедших на нашу сторону с листовками в руках немцев не была известна, но уже стало ясно: трудились далеко не впустую. Интересны в этой связи воспоминания военного летчика, полного кавалера орденов Славы Анатолия Руссова: «Наша пехота смотрела на журнал «Фронт-иллюстрирте» и на листовки, создаваемые Александром Житомирским, как на боевое оружие особой эффективности. Этого мы, летчики, на первых порах, признаюсь, не могли понять. Мы были недовольны, когда наземные войска установили нашему авиаполку квоту: одна бомба – один контейнер с листовками. Я и мои друзья верили тогда больше в бомбу, реактивный снаряд, пулю. Мы, однако, ошибались. Количество уничтоженной полком живой силы и техники укладывалось в трех-четырехзначные цифры. Это не выдерживало сравнения с той массой вражеских солдат, которые сдавались в плен на нашем участке, имея при себе листовку-пропуск… С тех пор мы в полку поверили в листовку, ждали очередных номеров журнала, никогда не забывая брать их с собой в боевой полет не только в специальных контейнерах, но и в кабину самолета, в карманы комбинезона…».
Добавим, что наши военные изобретали самые разные способы доставки журналов и листовок немецким солдатам. Выстреливали пачками печатной продукции из минометов. Связисты, разрезав телефонную линию врага, привязывали экземпляры к концам проволоки. А там, где линия фронта проходила вдоль реки и враг располагался ниже по течению, грузили пачки с печатными изданиями на небольшие плотики…
Но – вновь к книге:
«Не заглядывай на предыдущие страницы. Загляни в себя. Что ты там обнаружишь? Хе! Вино! Что же еще? Омара Хайяма! Ну и как ты себя чувствуешь? О’кей! Или, как говорит Володька, хитро прищурившись и подняв большой палец, “Шанго!”.
Я один.
Передо мной полный бокал и пустая бутылка.
И пузырек туши. А в руке перо.
Наверное, это то, что мне нужно.
Эту страницу, Володька, ты прочтешь, когда тебе будет 39 лет. Раньше читать не стоит. Не будь дураком».
Рядом – автопортрет. Тонко передано душевное состояние художника.
И постскриптум непосредственно на листе с рисунком:
«Радио перестало передавать негритянскую музыку, и Святослав Кнушевицкий играет “Сентиментальный вальс”.
И мне опять грустно».
Конечно, редакционная работа изнуряла. Но без чувства юмора она была бы еще тяжелей. Друг отца фоторепортер Марк Редькин как-то прислал в редакцию с фронта пакет с негативами для очерка, приложив к нему трофейную книгу гитлеровских парадов. Перепуганный редактор вызвал к себе художника и дрожащим пальцем ткнул в надпись на титульном листе: «Шуре Житомирскому от Адольфа Гитлера». С огромным трудом отцу удалось успокоить редактора-перестраховщика, убедить, что он не состоит в числе знакомых фюрера. В итоге уговорил попросту вырвать титул, а книгу отдать ему для фотомонтажей. Кое-что из книги действительно пошло в дело.
А вот другой случай, о котором он как-то вспомнил: «Я пришел в кабинет к редактору с эскизом очередного разворота. Как всегда, вверху написал заголовок. Любил придумывать заголовки, хотя это не входило в мои обязанности. “Нет, этот заголовок не годится”, – сказал редактор. Взял лист бумаги и стал писать и зачеркивать новые варианты заголовка. Я стою, он сидит. Проходит почти час. – “Ну вот, это то, что надо”, – произносит он. – “Но ведь это то, что написано на моем эскизе!” – “Да что вы говорите?” – удивился он… Когда я вышел из его кабинета и подошел к двери своей комнаты, увидел, что шутники-коллеги не теряли времени. На двери в жирной черной рамке красовалась моя фотография с некрологом, который заканчивался словами: “Зверски умучен в кабинете главного редактора”. Время. Число. Вынос тела. Дата похорон…»
Несколько десятков выразительных профилей людей и даже слона из зоопарка на правой части разворота книги. И короткий текст на левой странице:
«Я принес их всех с улицы. Я многое мог бы о них рассказать».
И неожиданная добавка внизу почти пустой страницы:
«В городе пахнет бензином и неприятностями».
И вот финальная запись, сделанная после Победы.
Но предварим ее отрывком из записок 80-х годов:
«…Годы работы во время войны, работы над журналом и листовками – самые яркие и вдохновенные в моем творчестве. Я рад был говорить своим искусством то, что думаю».
Итак, завершение книги «Мечты о прошлом и будущем»:
«Моя память сохранила многое. И многое не вошло в эти страницы. Я помню ослепительный магниевый свет висящих ракет. И оглушительный лай зенитных пулеметов. И ракеты плакали огненными слезами. Зенитные орудия устраивали небольшой ад, и бомбы рвались слева и справа.
Я помню лисицу, которую привел Шурик. У нее на шее был обрывок веревки, и она съела мой ужин.
Я помню белые грибы. Мы собирали их с тобой, Володька, и мы заблудились в лесу. И еще, Володька, нас вымочили до нитки три грозы в лесу. И нам очень попало от Эрики. И нам было очень хорошо.
Я помню грузинское гостеприимство. И пышные тосты.
И рассвет на палубе теплохода. Он застал меня в плетеном кресле, и я изрядно продрог и согрелся черным кофе в Сухуме.
Я помню мартовское солнце в заснеженном лесу, и голубые тени, и поскрипывание лыж.
Я помню удар шаровой молнии и перепуганных голубей.
О многом я хочу еще написать. И многое не вошло в эти страницы.
Прощай, моя случайная книга.
Прощай, мой светлый друг».
И значок-подпись автора, уже традиционно скомпонованный из стилизованных букв «А» и «Ж». Тот, что он ставил на довоенных рисунках, но не мог ставить на своих военных фотомонтажах.

Автор книги «Мечты о прошлом и будущем»
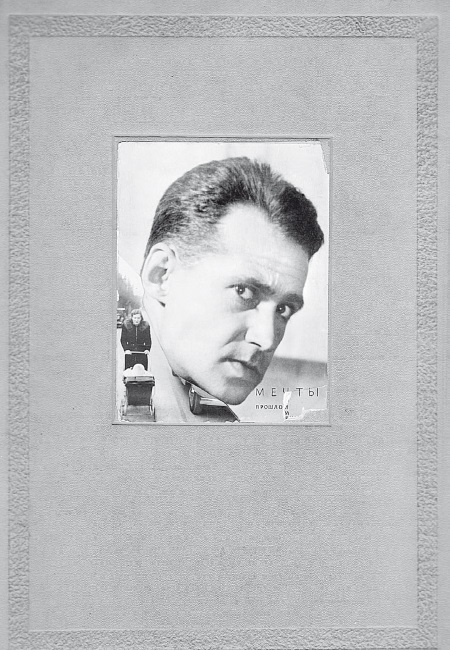
Обложка рукописной книги «Мечты о прошлом и будущем», титул, иллюстрации
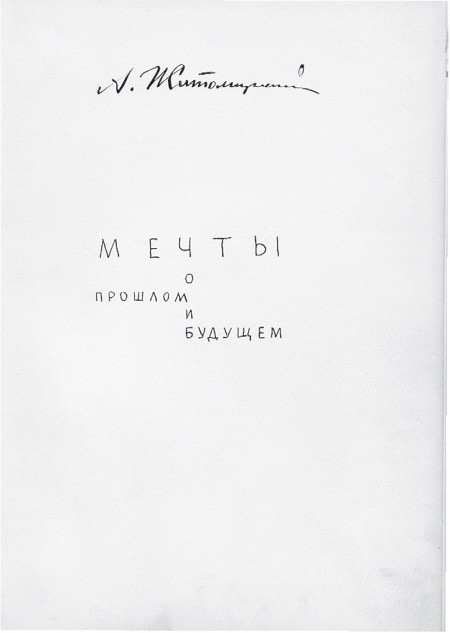
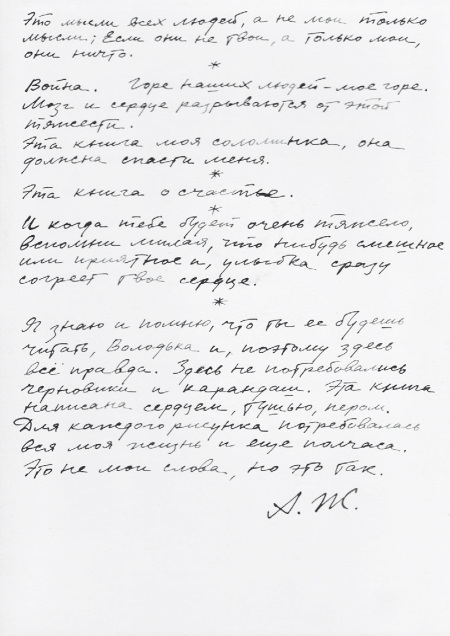

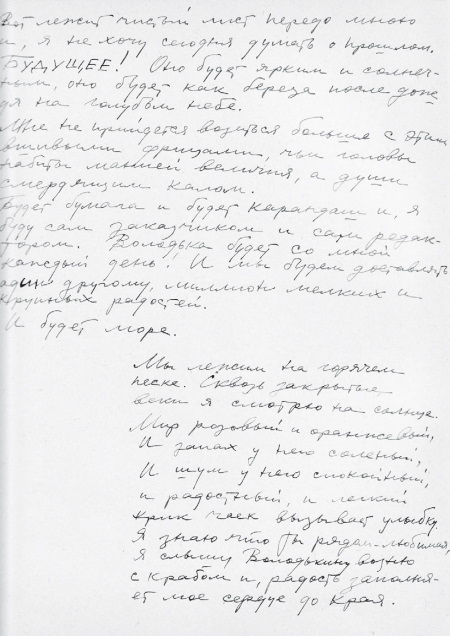



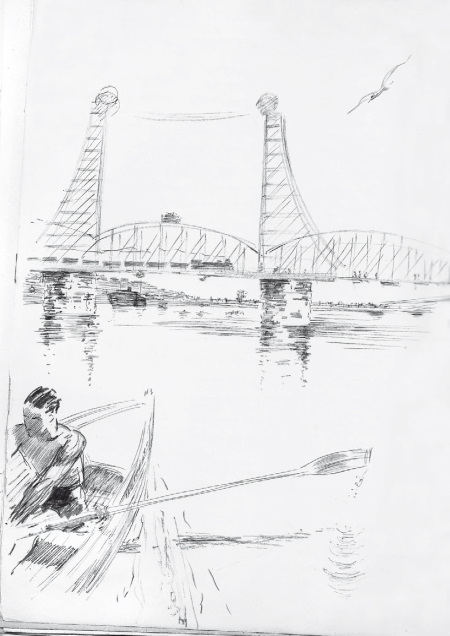








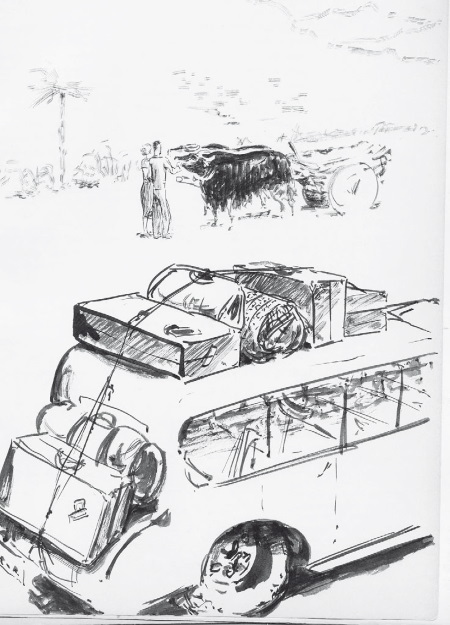


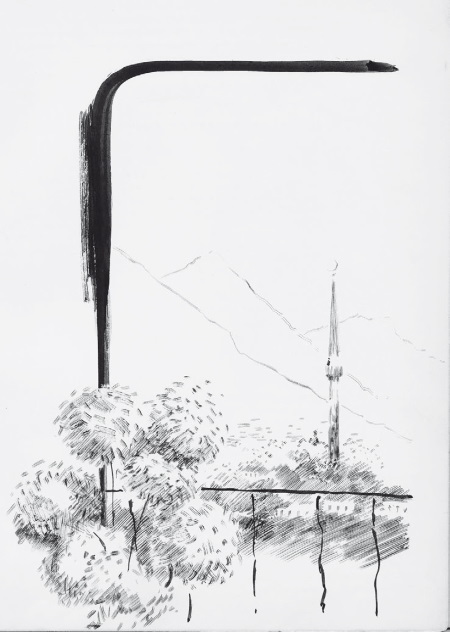
























В редакции «Фронтовой иллюстрации»

9 Мая 1945 года. Александр и Эрика в праздничной толпе на улице Горького

1946 год. Работа над очередным номером

