Глава 19
Терапия в XIX веке
Главным событием XIX века в медицине, да и во всем естествознании в целом стала клеточная теория, которую создали два немецких ученых – ботаник Маттиас Шлейден и врач Теодор Шванн, а третий немецкий ученый, Рудольф Вирхов, приспособил эту теорию к нуждам медицины, и в первую очередь – терапии, которая лечит не скальпелем, а лекарствами. Разница в том, что скальпелем можно лечить и без глубокого знания происходящих в организме процессов. Для того чтобы успешно удалить набитый камнями желчный пузырь или часть желудка с язвенной дырой, не требуется знать, как образуются камни или язвы, а вот для эффективного медикаментозного лечения нужно иметь о болезнях как можно более полное представление.
«Мало подобрать с земли палку, нужно еще и понять, что с этой палкой делать», – говорил Эрнст Геккель, имея в виду обезьяну, которой предстояло стать человеком. Мало узнать, что живые организмы состоят из клеток, нужно научиться использовать это знание.
В истории медицины много значимых вех, которые разделяют ее на периоды «до» и «после». Догаленовская и послегаленовская медицина, догарвеевская и послегарвеевская… Но среди всех этих вех есть одна самая главная, которая не просто изменила медицину, а дала ей правильную основу, – теория клеточной патологии Вирхова, согласно которой любое патологическое, то есть болезненное, изменение в организме вызвано каким-то отклонением от нормальной жизнедеятельности в его клетках.
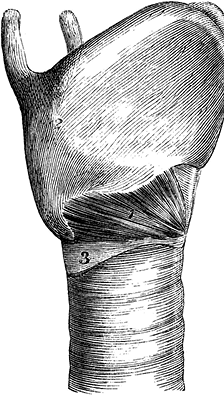
До Вирхова медицинская наука не имела под собой твердой опоры. Одна теория возникновения болезней сменяла другую, лучшие умы изощрялись в предположениях, но все предположения были неверными, потому что не основывались на реальном знании.
Можно предположить, что вся суть скрыта в клетке, и не сделать ничего для подтверждения своей догадки. Но Вирхов создал теорию, полноценную теорию, а не просто родил гипотезу.
Изучению клетки Вирхов посвятил всю свою жизнь. После окончания Берлинского университета он устроился на работу в патологоанатомическую лабораторию известной берлинской клиники Шаритэ и начал свои исследования.
Надо сказать, что в то время (в середине XIX века) клеточная теория не пользовалась большой популярностью в научном мире. Она не отвергалась, но воспринималась поверхностно, без должного внимания. О’кей, все живое состоит из клеток и что с этого?
Отчасти клеточная теория заслуживала подобного отношения, потому что была «сырой», не оформленной до конца. Маттиас Шлейден, с работ которого она началась, считал, например, что клетка может образоваться из протоплазмы другой клетки без процесса деления. Одни клетки, по мнению Шлейдена, образовывались делением, а другие словно бы появлялись сами по себе. Всесторонне Шлейден клетку не изучал, он в основном занимался только ее ядром. Но исследования Шлейдена вдохновили Теодора Шванна к дальнейшему изучению клетки. Вот как рассказывал об этом Шванн в одном из своих выступлений: «Однажды, когда я обедал с господином Шлейденом, этот известный ботаник указал мне на важную роль ядра в развитии растительных клеток. Я сразу же вспомнил, что видел похожий орган в клетках спинной струны, и в тот же момент понял крайнюю важность, которую получит мое открытие в том случае, если я сумею показать, что в клетках спинной струны это ядро играет ту же роль, что и ядро растений в развитии их клеток… Я пригласил господина Шлейдена пройти со мной в анатомический театр и показал ему там ядра клеток спинной струны. Он сразу же установил полное сходство с ядрами растений…»

Ядром оба исследователя заинтересовались не случайно. Ядро – это главный орган клетки, содержащий наследственную информацию в виде хромосом. Шлейден и Шванн ничего не знали о хромосомах, но они видели под микроскопом, что деление клетки начинается с ядра, и делали выводы.
Результатом исследований Шванна стали несколько статей, впоследствии объединенные в труд под названием «Микроскопические исследования о соответствии в структуре и росте животных и растений», который был опубликован в тысяча восемьсот тридцать девятом году. В предисловии Шванн изложил суть своего исследования: «Всем отдельным элементарным частицам всех организмов присущ один и тот же принцип развития, подобно тому, как все кристаллы, несмотря на различие в их формах, образуются по одним и тем же законам».
Но ценность исследования Шванна не только в этом. Он первым в истории разработал классификацию живых тканей, основанную на таком признаке, как особенности строения клеток, эту ткань составляющих. То, что классификация Шванна была принципиально неверной, не умаляет ее значения. Шванн показал ученым единственно верный ориентир, точку, от которой нужно отталкиваться для того, чтобы совершить переворот в естествознании, – клетку. На этом, собственно, все и заканчивалось. Начало было положено, и юная клеточная теория ждала «интеллектуальных спонсоров», которым предстояло внести вклад в ее развитие и дать ей то положение в научном сообществе, которого она заслуживала.
Вирхов был убежден в том, что все болезни начинаются с клетки, и усердно искал этому подтверждение. У него был очень сильный противник, а если точнее, то оппонент – чех Карл Рокитанский, профессор кафедры патологической анатомии Венского университета, которую он сам же и организовал. Профессор Рокитанский считался в Европе лучшим специалистом в своей области. Он был из тех, кто совмещает научную работу с практикой, помимо работы на кафедре заведовал прозектурой в одной из венских больниц и часто выступал в роли судебного эксперта. Авторитет Рокитанского в медицине середины XIX века можно сравнить с авторитетом Уинстона Черчилля в политике.
Рокитанский считал, что все болезни вызываются нарушением состава жидкостей организма, то есть жизненных соков, а клеточные изменения являются вторичными. Сначала из-за дисбаланса соков возникает болезнь, а уже после вследствие этой болезни нарушается жизнедеятельность клеток. Свои взгляды Рокитанский изложил в фундаментальном труде «Руководство по патологической анатомии», в котором впервые в истории сравнивал и анализировал результаты микроскопических исследований.
Надо отметить, что у ученых первой половины XIX века, этих первопроходцев микроскопии, были только микроскопы, причем далеко не самые совершенные. Красители придумывались «на ходу», в процессе работы, срезы для исследования делались не специальными микротомами, а при помощи обычной бритвы, результаты приходилось долго и тщательно зарисовывать, потому что не было аппаратуры для их фотографирования… И в таких сложных, можно сказать – первобытных, условиях создавались великие теории!
В гуморальной концепции Рокитанского было всего одно рациональное зернышко – представление о взаимосвязи болезней и клеток, но голова и хвост в этом представлении были перепутаны местами. В остальном же Рокитанский недалеко ушел от Платона, определявшего болезнь как «расстройство элементов, создающих гармонию здорового организма». Однако же у Платона были только слова, предположения, а Рокитанский подкреплял свою концепцию множеством микроскопических свидетельств, делавших ее весьма и весьма убедительной.
Закулисных интриг, подобных тем, которые отравляли жизнь Джозефу Листеру, в этой истории, к счастью, не было. Да и ожесточенных перепалок с обвинениями в мыслимых и немыслимых грехах тоже. Просто Рокитанский придерживался своей точки зрения, а Вирхов – своей, согласно которой болезни начинались с клеточных изменений. Свои взгляды Вирхов излагал в основанном им журнале «Архив патологической анатомии, физиологии и клинической медицины», который продолжает издаваться и по сей день под названием «Вирховского архива».
В 1858 году (вот он, рубеж, отделяющий довирховский период от послевирховского) был опубликован двухтомный труд Вирхова под названием «Клеточная патология как учение, основанное на физиологической и патологической гистологии». В переводе на обычный язык название выглядит так: «Болезненные изменения в клетках, выявленные сравнением клеток здоровых и больных органов». В дополнение к этой работе Вирхов издал сборник своих лекций, посвященных клеточной патологии. В предисловии к лекциям Вирхов отметил, что главной его целью было «довести до всеобщего сознания единство жизни во всем органическом мире и в то же время противопоставить тончайшую механику и химию клетки столь же одностороннему пониманию вульгарного механического и химического направления». Также он написал, что противопоставляет теорию клеточного строения всего живого «односторонним гуморальным и неврологическим представлениям, возникшим еще в древних мифах и перешедшим в новейшее время». Заявление это выглядело как приглашение к дискуссиям, а если точнее – как вызов сторонникам устаревших представлений и в первую очередь – Карлу Рокитанскому.
Рокитанский поступил так, как положено поступать настоящему ученому. Спустя некоторое время, понадобившееся на изучение и осмысление «Клеточной патологии», он признал правоту взглядов Вирхова и отказался от гуморальной концепции, как от ненаучной. Надо сказать, что авторитет его от этого нисколько не пострадал. Умение с достоинством признавать свои ошибки высоко ценится в научном мире.
Когда известного бактериолога Алмрота Райта, того самого, который послужил Бернарду Шоу прототипом для Колнесо Риджена в пьесе «Дилемма доктора», спросили, в чем состоит главная заслуга Роберта Вирхова, Райт ответил: «Он ввел в практику морфологический метод». Можно сказать и так, ведь суть морфологического метода заключается в непосредственном изучении предметов, а все учение Вирхова о клеточной патологии основано именно на наблюдении за клетками с последующим осмыслением результатов. Если сказать проще, то суть морфологического метода заключается в требовании говорить только о том, что видел. Вот как только врачи начали говорить о том, что видели, и перестали строить предположения на пустом месте, темпы развития медицины невероятно ускорились. Послевирховский период начался всего сто шестьдесят лет назад. А сколько всего было сделано за это время…
Всякая клетка происходит от клетки.
Клетка – это краеугольный камень в твердыне научной медицины.
Все болезни нужно сводить к изменению в клетках.
Научное сообщество встретило публикацию трудов Вирхова с огромным интересом. Труды эти практически сразу же после выхода в свет были переведены на английский, французский, русский и испанский языки. Вирхов вправе был ожидать триумфа, но триумфа не вышло. Несмотря на то что каждое утверждение Вирхова было сделано при помощи морфологического метода, то есть все выводы подтверждались вескими научными доказательствами, от которых невозможно было отмахнуться, многие ученые все же сделали это и объявили учение о клеточной патологии ненаучным. И дело было совсем не в Рокитанском и его гуморальной концепции. Ученым не понравился сам подход, сводящий уникальный и неповторимый человеческий организм к простому сообществу клеток. Такое «упрощение» в глазах многих выглядело даже не глупым, а кощунственным. Врачи привыкли рассматривать организм как нечто целостное, да и сами болезни располагали к таким взглядам, поскольку любая болезнь в той или иной мере, много или мало, но отражается на всем организме. Если уж говорить начистоту, то тем, кто осуждал Вирхова, не хватало широты взглядов и глубины мысли для того, чтобы понять его теорию.
Вихров говорил о том, что все болезни вызываются изменениями, происходящими в клетках, а его оппоненты понимали это как разложение организма на части или сведение болезней к проблемам отдельных клеток, без оценки состояния всего организма. Сильнее всего возмущались те, кто специализировался на изучении нервных болезней. Ко второй половине XIX века господство нервной системы, объединяющей организм в единое целое, не вызывало сомнений, а об эндокринной системе, которая помогает нервной руководить всеми процессами в организме, сведений пока еще было накоплено мало. И вдруг кто-то дерзает покушаться на священные устои…
Вирхову повезло. Нападки на учение о клеточной патологии прекратились еще при его жизни. К концу XIX века никто из ученых, за исключением отдельных лиц, которым принцип был важнее дела, не оспаривал взглядов Вирхова. Клеточный приоритет утвердился в медицине in aeternum, как говорили древние римляне.
Говоря о вкладе Вирхова в развитие медицины, нельзя не отметить еще один вклад, не всеобщего, а местного значения. Вирхов занимался не только медициной, но и политикой, в которую его привели забота о бедных людях и обеспокоенность состоянием санитарного дела в немецких княжествах, а впоследствии – и во всей Германской империи. В том, чем является современная Германия, есть частица труда Роберта Вирхова, не только ученого, но и гуманиста.
Примерно в одно и то же время с созданием учения о клеточной патологии в истории медицины произошло еще одно революционное событие – в январе тысяча восемьсот сорок девятого года в Соединенных Штатах появилась первая дипломированная женщина-врач (настоящий врач, а не акушерка!). Звали счастливицу Элизабет Блэкуэлл, и была она англичанкой, которую родители в детстве увезли в Америку. Медицинское образование она получила в Женевском медицинском колледже Нью-Йорка, где была первой и единственной студенткой. Поступление в колледж оказалось для Элизабет серьезным испытанием. Декан отказывал, она настаивала. Поняв, что отделаться от столь настырной особы ему не удастся, декан предложил поставить вопрос о приеме на голосование – классический пример ухода от личной ответственности под видом приверженности демократическим ценностям. Голосовать предстояло студентам, как наиболее заинтересованным или не заинтересованным в том, чтобы рядом с ними обучалась женщина. Декан предупредил Элизабет, что одного голоса, поданного против нее, будет достаточно для отказа. Но студенты единогласно проголосовали «за». Впоследствии некоторые из них говорили Элизабет, что приняли всю эту историю с голосованием за розыгрыш. Но, так или иначе, Элизабет была принята в колледж, прошла полный курс обучения и получила врачебный диплом. Профессиональный путь доктора Блэкуэлл был непростым, она не раз подвергалась дискриминации по гендерному признаку, но невзгоды ее не сломили. В Нью-Йорке она открыла лазарет для лечения бедных женщин и детей, при котором впоследствии устроила медицинский колледж для обучения женщин. Несколько раз она бывала в Лондоне, а в 1875 году переехала сюда и стала преподавать гинекологию в новой Лондонской медицинской школе для женщин. О своей жизни Элизабет Блэкуэлл рассказала в автобиографической книге «Пионерская работа по открытию женщинам пути в медицину».
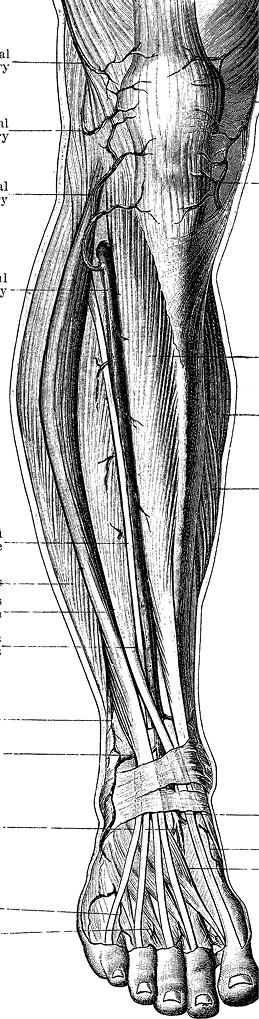
Одним из самых стойких противников теории Вирхова был русский ученый Иван Сеченов, который занимался физиологией, и в частности физиологией головного мозга. Труды Сеченова и его ученика, нобелевского лауреата Ивана Павлова, имели огромное значение для развития физиологии, как нормальной, так и патологической. Неприятие Сеченовым теории Вирхова на первый взгляд может показаться удивительным, ведь в науке невозможно быть «правильным на пятьдесят процентов» – или ты практик-рационалист, или догматик-схоласт. Можно ошибаться, но нельзя переступить через свои принципы.
«Клеточная патология, в основе которой лежит физиологическая самостоятельность клеточки, или по крайней мере гегемония ее над окружающей средой, как принцип ложна. Учение это есть не более как крайняя ступень развития анатомического направления в патологии», – написал Сеченов в тысяча восемьсот шестидесятом году, то есть через двенадцать лет после публикации «Клеточной патологии» и прилагавшихся к ней лекций. К тому времени правильность взглядов Вирхова не вызывала сомнений у большинства ученых, в том числе и у Карла Рокитанского…
Странно?
На самом деле ничего странного нет. Просто Вирхов и Рокитанский были анатомами и гистологами, изучавшими строение организма, а Сеченов был физиологом и изучал работу организма. Для гистолога конечной (или отправной, это зависит от того, с какой стороны посмотреть) точкой является клетка, а для физиолога – молекула, потому что все процессы, протекающие в организме, представляют собой химические реакции. И вдобавок, как шутят медики, все физиологи в какой-то степени являются сторонниками гуморальной теории, поскольку все эти химические реакции происходят в водной среде, в биологических жидкостях.
Второй причиной была нервная система, изучением работы которой Сеченов в основном и занимался. Собственно, все современное представление о функционировании нервной системы основано на работах Сеченова и Павлова. Воспринимая организм как единое целое, управляемое нервной системой, трудно «сузить» свое представление до отдельных клеток… Примерно такое же взаимное непонимание можно наблюдать между сторонниками хард-рока и классической музыки. По сути дела, музыка едина, но у каждого она своя. А еще любая разумная критика (разумная, а не огульная!) приносит пользу концепциям. Критика – это тот хирургический скальпель, который отделяет все ненужное и ошибочное. Человеку свойственно ошибаться, и гении не составляют исключения из этого правила. В теории Вирхова были ошибки, слабые места, которые впоследствии исправили другие ученые.
Перечислять то, что сделал в физиологии Сеченов, можно долго. Проще будет назвать самые главные его достижения, касающиеся работы нервной системы.
Сеченов доказал, что передача нервных импульсов происходит химическим путем. Он открыл наличие тормозящих центров в головном мозге и установил, что нервная деятельность состоит из двух процессов – раздражения и торможения, а не из одного раздражения, как считалось раньше. Это открытие имело для физиологии и неврологии такое же значение, как изобретение парового двигателя для механики. Итогом работ Сеченова по изучению работы нервной системы стали фундаментальные труды «Рефлексы головного мозга», «Физиология нервной системы» и «Физиология нервных центров».
Выдвинутое Сеченовым положение о рефлекторной основе психической деятельности развил его ученик Иван Павлов, разделивший рефлексы (стереотипные реакции организма) на безусловные или врожденные и условные, которые приобретаются после рождения. Но Нобелевскую премию Павлов получил за исследования по физиологии пищеварения. Впрочем, эти исследования были тесно связаны с нервной деятельностью. Известный психиатр Макс Гамильтон, тот самый, кто разработал шкалу для оценки депрессии, сказал однажды, что Павлов своими исследованиями расстроил всех владельцев домашних животных – до Павлова люди воспринимали то оживление, с которым их встречали питомцы, как проявление любви, а Павлов объяснил, что это всего лишь предвкушение кормежки.
Подобно Эрнсту фон Бергманну, Павлов сначала хотел пойти по стопам своего отца и стать священником. Но незадолго до завершения обучения в семинарии он прочел работу Сеченова «Рефлексы головного мозга» и понял, что его призвание – физиология. В Российской империи действовали ограничения, касающиеся обучения бывших семинаристов. В частности, нельзя было перейти из семинарии на медицинский или естественно-научный факультет университета. Павлову пришлось вначале поступить на юридический факультет Петербургского университета, и уже оттуда, спустя некоторое время, он смог перейти на естественное отделение физико-математического факультета. По окончании обучения в университете Павлов поступил на третий курс петербургской Медико-хирургической академии, которая в то время считалась одним из самых авторитетных учебных заведений Российской империи. Когда Павлов закончил учиться, ему было уже тридцать лет – довольно солидный возраст для начинающего врача. Но гениям свойственно быстро наверстывать упущенное (русские по этому поводу говорят, что они долго запрягают лошадь в повозку, но зато быстро едут). В тридцать четыре года Павлов защитил докторскую диссертацию, посвященную изучению сердечной иннервации. После защиты он уехал в Германию для продолжения образования, а по возвращении стал заведующим кафедрой фармакологии в академии. Для сорока одного года – хорошая карьера. Заодно Павлов стал заведовать физиологическим отделом в Петербургском институте экспериментальной медицины. Ему удалось продолжить свою исследовательскую работу и после Октябрьского переворота – до конца своей жизни он руководил советским Институтом физиологии.
Современное представление о высшей нервной деятельности опирается на работы Сеченова и Павлова, а современное представление о физиологии пищеварения – на работы Павлова. Если Вирхов внедрил в практику морфологический метод (прежде всего для гистологов), то Павлов внедрил в физиологию лабораторный метод, согласно которому выводы следовало подтверждать экспериментами с участием лабораторных животных. Лабораторный метод – это волшебный амулет, который предохраняет от ненаучных выводов вроде того, что головной мозг служит для охлаждения крови, ведь признавать можно только то, что подтверждено делом, опытным путем.
Вот пример, показывающий, какое важное значение придавал эксперименту Павлов. Для изучения физиологии пищеварения был нужен искусственный канал, соединяющий желудок подопытного животного (в основном Павлов использовал собак) с внешней средой. Такой канал позволял следить за интенсивностью выделения желудочного сока и легко получать пробы для исследования.
Нельзя просто сделать разрез на животе собаки и вставить туда металлическую трубку. Животному предстоит долго жить с этим искусственным каналом, поэтому формировать его следует так, чтобы он не причинял никакого неудобства. А желудочный сок содержит соляную кислоту и весьма агрессивные пищеварительные ферменты, что обуславливает его раздражающее действие на кожу и другие ткани организма.
На то, чтобы разработать методику создания фистул, правильных фистул, которые функционируют долго и беспроблемно, Павлову понадобилось более десяти лет. Более десяти лет! Только на подготовку эксперимента! А если бы понадобилось разрабатывать ее вдвое дольше, то Павлов бы пошел и на это, потому что без правильного эксперимента не может быть правильного исследования.
Можно сказать, что в XIX веке терапия и вся медицина в целом были поставлены с головы на ноги. Одной из ног стал морфологический метод, внедренный в практику Робертом Вирховым, а другой – лабораторный метод, внедренный Иваном Павловым. В результате медицина стала доказательной – любое утверждение принимается только после подтверждения и никак иначе.
В 1864 году произошло событие, не имеющее прямого отношения к медицинской науке, но весьма значимое в социально-историческом плане. В Женеве был образован Международный комитет Красного Креста, задачей которого стало предоставлять защиту и оказывать помощь пострадавшим в разного рода вооруженных конфликтах. Комитет стал первой межгосударственной гуманитарной организацией в истории человечества.
А началось все с книги «Воспоминание о битве при Сольферино», которую написал швейцарец Жан-Анри Дюнан, бывший свидетелем этой кровавой бойни, в которой французы с союзниками сражались против австрийцев. Страдания раненых воинов произвели невероятно сильное впечатление на Дюнана. Будучи человеком со средствами, он открыл поблизости от поля битвы лазарет, в котором раненым оказывали первую помощь, а после описал свои впечатления.
«Сколько агоний и невообразимых страданий!.. – сокрушался Дюнан. – Раны, состояние которых ухудшилось из-за жары, пыли, отсутствия воды и ухода, стали еще болезненнее. Болезнетворные испарения витают в воздухе… Недостаток фельдшеров и прочего персонала ощущается все сильнее, а обозы с ранеными прибывают… каждые четверть часа. Как ни быстро работает главный хирург и два-три человека, занятые организацией отправки раненых… как ни велика активность местных жителей, имеющих собственные экипажи, которые сами приезжают за ранеными… отбывающих значительно меньше прибывающих, и раненых собирается все больше… Теснота такая, что у них нет ни сил, ни возможности двинуться с места. Всюду раздаются крики, брань и проклятия…»
Завершились «Воспоминания» вопросом: почему бы главам военных ведомств разных стран не выработать какие-нибудь международные, договорные и обязательные правила, которые послужили бы основанием для создания Обществ помощи раненым в разных государствах?
Публикация книги сопровождалась выступлениями Дюнана, его статьями в газетах и письмами различным адресатам из числа влиятельных особ. Дело получило большой резонанс, который, к счастью, не прошел впустую, а воплотился в создание Комитета. Все современные гуманитарные организации могут считать себя «внуками» и «внучками» Жан-Анри Дюнана.
РЕЗЮМЕ. В XIX ВЕКЕ МЕДИЦИНА СТАЛА ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ, И ЭТО САМОЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТО МОГЛО С НЕЙ ПРОИЗОЙТИ ЗА ВСЕ ВРЕМЯ ЕЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ.

