Круг
Когда стояла над мертвым сыном, почувствовала, что под ногами у нее разверзается бездна, которая легла зиянием между ее прежней жизнью и днем завтрашним. И не запрудить, не заполнить, не одолеть этой пропасти, ибо ею стала вся ее жизнь.
Когда босую ввел ее когда-то черный кизляр-ага в султанскую ложницу, а потом металась она на зеленых султанских простынях, была бездна плоти глубже морской. Теперь, у сорокалетней, на вершине могущества и отчаяния, разверзлась перед ней бездна духа глубже всех преисподних, обещанных в угрозах истерзанным людям, и протяженность ее уже шла не вниз, а вверх, перевернутая, достигает она звезд.
Бездна была уже и не у ног, не под ногами – она окружала со всех сторон, охватывала мертвой петлей, подобно тому кругу, изображение которого преследовало Роксолану, куда бы она ни ступила: в хамамах и мечетях, на арках и на окнах гарема и султанских покоев, на светильниках и дощечках с сурами Корана, на деревянных решетках и каменных плитах, на цветистых настенных панно и ручках дверей.
С детства осталось воспоминание: когда гремел гром и молнии рассекали небо, ударяя в леса за Гнилой Липой, душа ее испуганно сжималась, а потом раскрывалась с радостью, ибо молнии всегда поражают кого-то, а не тебя, не тебя. Теперь все молнии били только в нее безошибочно и жестоко, а она была заперта в кругу своего самого высокого в империи (а может, и во всем мире?) положения, одинокая, покинутая, и не столько из-за человеческой жестокости и равнодушия, сколько из-за своей недосягаемости. Досягаема только для страданий и для величия, от которого страдания становятся и вовсе невыносимыми.
Хотела оставить возле себя Баязида, но султан решил взять его с собой в поход. Взял также и Джихангира, чтобы показать младшим сыновьям безмерность извечных османских земель. Возле султанши был теперь Селим да еще ее доверенный Гасан-ага, который должен был оберегать ее покой или же, как считали все придворные, выполнять все прихоти, иногда самые удивительные, к тому же и всегда тайные.
Никто не знал, чем наполнены дни султанши. Сын Селим? Такой похожий на мать, с точно такой же непокорностью в зеленоватых глазах, может, и душой такой же? Не объединяло их ничто. Если бы можно было забыть голос крови, охотно забыла бы и это. Селим убивал дни в пиршествах, на охоте, в разврате. Оставленный при нем визирь Мехмед Соколлу был достойным напарником для шахзаде во всем злом, ибо доброго от них не ждал никто, а сами они давно уже о нем не вспоминали. Топкапы похож был на какое-то дикое пристанище охотников – всюду разбросано оружие, где-то воют охотничьи псы, валяются свежесодранные шкуры оленей и вепрей. Во дворцовых садах среди медно-красных скал Селим устроил для себя развлечение. В каменной стене выдолбили углубления, закрыли их крепкими деревянными решетками и посадили в эти ниши диких орлов. Под каждым из орлов подпись. Хищники названы были именами врагов султана – императора Карла, римского папы, шаха Тахмаспа, короля Фердинанда, дожа Венеции. Селим любил приходить со своей разгульной братией ночью к орлам, с пьяным хохотом целился из мушкета, бил под низ их клеток, гремел выстрел, крошился камень, огромные птицы со злобным клекочущим криком хищно срывались с места, пытались ударить крыльями, но в нишах было слишком тесно для этого, крылья оставались свернутыми, только ударялись о камень так, что летели перья. А Селим торжествовал:
– А что, император, как тебе, негодяй?! А ты, папа, почему вопишь? А шах? Или уснул? А ну-ка, Мехмед, подай мне мушкет!
В конце лета истосковавшаяся султанша забрела к этой скале с орлами, долго стояла, смотрела на заточенных гигантских птиц. Птицы посматривали на нее с убийственным равнодушием, словно бы ее уже давно не было на свете. Не существовало для них ничего, кроме жертв, а теперь сами стали жертвами людского коварства и жестокости, потому и смотрели на людей со злобным презрением. Нахохлившиеся, чернокрылые, какие-то землистые, будто умершие, смерть во всем – в стальных когтях, в каменном клюве, в остекленевших глазах цвета перьев, будто посыпанных землей. Сидят, дремлют, ничего не хотят знать, только сны – о полетах, о высоте, о свободе.
Тогда она, сама не зная зачем, начала открывать клетки одну за другой, идя вдоль каменной стены, открыла все, отступила, взмахнула руками, будто на кур: «А киш, киш!» Орлы сидели неподвижно. То ли не верили, то ли не хотели получать свободу от этого слабого существа, то ли не хотели покидать ее в одиночестве? Однако жалость все же была чужда им. Один, за ним другой, третий, тяжело выбирались они из своих темниц, неуклюже взлетали на верхушки деревьев, будто ожидая всех остальных или убеждаясь, что здесь не таится какое-нибудь коварство. Только после этого устремились они ввысь, все в разные стороны, но все вверх, вверх, пока не скрылись с глаз.
Роксолана села на траву и тихо заплакала. Какая пустота в душе, какое отчаяние…
Вспомнилось, как вывозила сыновей, когда еще были маленькими, за Эдирне-капу, чтобы по первому снегу ловить на размокших пустынных глиняных полях куропаток, у которых подмокли крылья и они не могли летать. Кормили куропаток целую зиму в золотых клетках, а после новруза снова выехали за Эдирне-капу, где все уже зеленело и цвело. И каждый из малых ее сыновей выпускал птичку, приговаривая: «Азат, бузат, дженнети гьезет!» («Вот ты свободна, так охраняй рай!»)
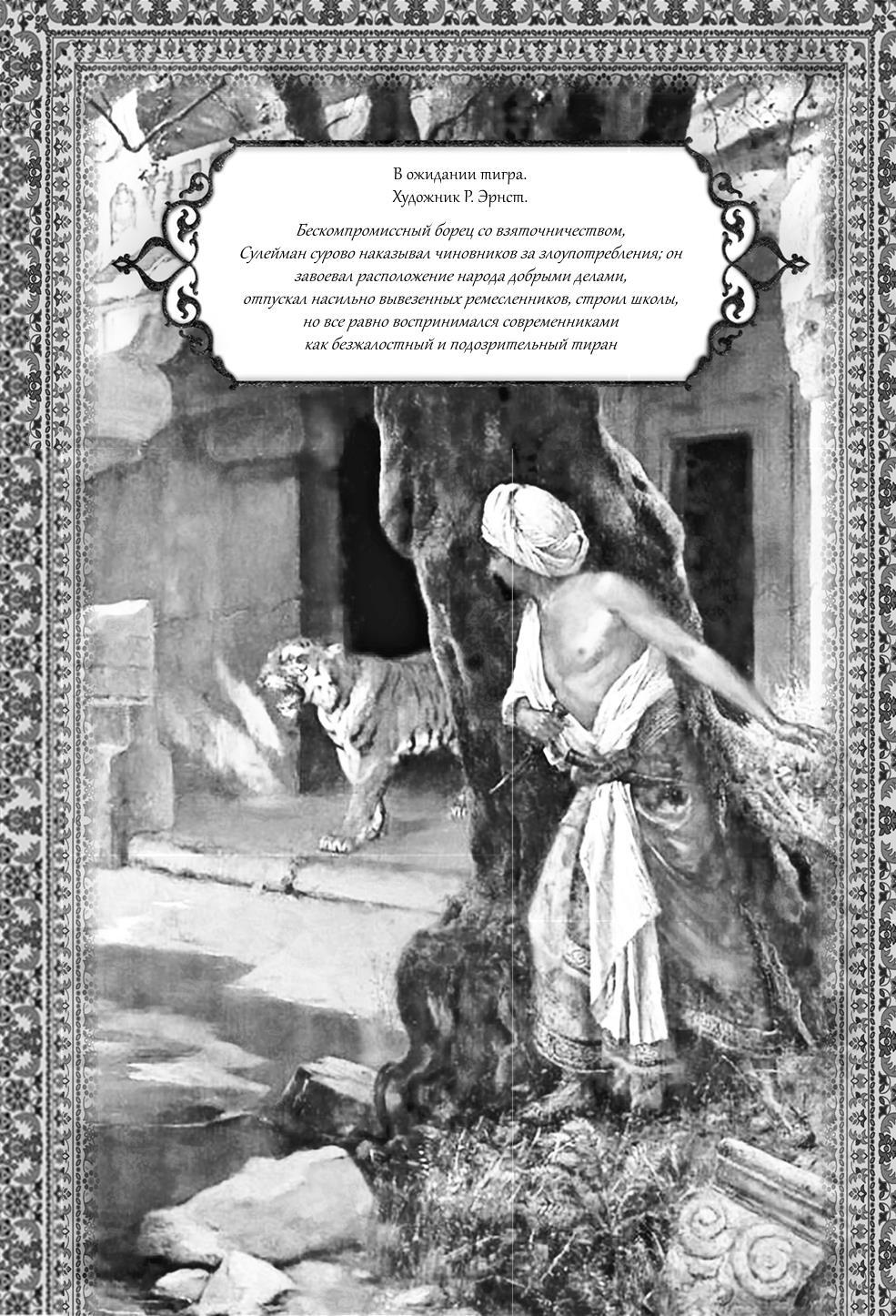
А ее никто никогда не выпустит из гигантской золотой клетки, именуемой жизнью султанши, матери султанских сыновей, и она должна до смерти охранять здесь рай, но не для себя.
И неоткуда ждать спасения, нужно жить, довольствуясь добродетельностью, милостью и величием.
Ездила по Стамбулу. Сопровождали ее целые толпы придворных холуев, она подзывала к себе только старого Коджа Синана. Пояснял, как продвигается строительство мечетей Сулеймание и Шахзаде. Она снова кружила и кружила по запутанным улицам огромного города, проезжая мимо мусульманских базаров, византийских площадей, акведуков, цистерн, не могла остановиться, что-то искала и не могла найти. Несколько раз возвращалась к маленькому невольничьему базару между форумами Константина и Тавра. Какое глумление над людьми! На одном форуме византийские императоры появлялись во всей своей пышности, на другом – императорские палачи выжигали глаза пленным болгарам. А теперь между этими памятниками христианского жестокого величия мусульмане продают людей в рабство, потому что, мол, в хадисе пророка сказано: «Узы рабства продлевают жизнь».
Наконец, остановилась на Аврет-базаре, где был самый крупный невольничий рынок Стамбула. Вышла из кареты, обошла весь базар, где уже было полно рабов, захваченных султаном у кызылбашей, мусульмане продавали теперь мусульман, но ведь они такие же люди, и такой же позор!
Зодчий Синан, которого султанша держала возле себя, равнодушно наблюдал за всем, что происходило на невольничьем рынке. Его давно уже не трогала мирская суета, он сосредоточился на своих замыслах, превосходивших возможности человеческой природы. Роксолана иногда поглядывала на зодчего, не скрывая любопытства в глазах. Хотела бы проникнуть в его душу, разгадать ее необычную сущность. Вот человек! Пришел на свет и ушел, а строения будут стоять века, величественные, как его душа. Но и они не передадут всей глубинной сути. Станут только оболочкой его души. А чем была она наполнена? Никто никогда не узнает. Горе? Страдание? Восторг? Неужели пристрастия не исчезают, не рассеиваются, как пылинки в поле, а могут обрести окаменевшую форму и стать красотой навеки?
Синану сказала:
– Хочу, чтобы на месте этого рынка была поставлена мечеть, возле нее – большое медресе, приют для бедных и больница.
– Слушаю ваши повеления с предельным вниманием, моя повелительница, – послушно склонил голову зодчий.
– Я хотела бы начать это, не откладывая. До возвращения его величества падишаха всего этого, разумеется, не сделать, но и затягивать на долгие годы следует ли? А то за всю жизнь и не успеешь ничего закончить.
– Жизнь долгая, ваше величество. Добрые дела всегда приходят к своему концу даже сами по себе. Как говорят: пока дом строится, хозяин не умрет.
– Тогда я пожелаю вам прожить сто лет, – улыбнулась Роксолана.
– Да продлит Аллах ваши дни, моя султанша.
Этими строениями на Аврет-базаре султанша хасеки оставила память о себе. И весь район Стамбула между Аксараем и Фатихом назван был хасеки, и название это сохранилось на все века, навсегда.
Думала ли об этом Роксолана, стоя осенним утром на Аврет-базаре, где продавали в рабство пленников Сулейманова похода, где советовалась с великим Синаном о сооружениях, которыми хотела проявить милосердие к простому люду, надеясь на милосердие к самой себе?
Султану писала в дальние дали:
«Мое счастье, мой повелитель, как Ваше благочестивое и благословенное самочувствие, как Ваша доброжелательная голова и как Ваши благословенные ноги? Не болят ли от дальней дороги, не слишком ли далеко отошли от своей рабы? Мой властелин, глаза мои, обещайте, что возвратитесь в скором времени.
А еще, мое счастье, которому пожертвовала оба своих глаза, помните, что Ваш раб Рустем-паша – вернейший из рабов Ваших, не отстраняйте его от своего честного взгляда, мое счастье, не слушайте больше ничьих советов, мой падишах, ради Вашей святой головы, ради меня, Вашей рабыни, мой счастливый падишах…»
Венгерская королева Изабелла попыталась было перед этим высвободиться из-под Сулеймановой опеки, заключила тайный договор с Фердинандом, в соответствии с которым отрекалась от сана, получала для себя Себежское княжество, а Яноша-Сигизмунда должна была женить на одной из Фердинандовых дочерей. Пусть другие воюют, а ты, Австрия, счастливая, знай заключай выгодные браки! Целый год свыше пятидесяти тысяч австрийцев пытались взять Буду, но валы ее оставались неприступными. Сулейман со своим зятем еще раз прошел по Венгрии, разбил австрийцев, расправился с венгерскими старшинами, многих из которых забрали в Стамбул и бросили в темницы. Наверное, не было камня в подземельях Стамбула, где не осталось бы венгерской крови, венгерского стона и проклятий. Только слез там никто не нашел бы, потому что венгры никогда не плакали.
Королева Изабелла обратилась к султанше хасеки с просьбой помиловать хотя бы тех венгров, которые еще остались в живых.
Гасан-ага сам обследовал все зинданы, прошел застенки, заглянул во все адские закоулки, вывел на свет божий уцелевших, пересчитал до единого, пригрозил надзирателям, чтобы с пленных не упал и волосок, доложил султанше. Роксолана попросила у Селима фирман, разрешающий освободить венгров и обеспечить их возвращение домой. Шахзаде махнул рукой:
– Пускай Мехмед-паша позаботится! Он все умеет. Правда, ему по вкусу больше ловить, чем отпускать, но если такова воля великой султанши, то он сделает!
Роксолана обратилась с письмом к Изабелле. «Ваше величество, – писала она, – дражайшая дочь, обе мы родились от одной и той же матери – Евы…»
Странная вещь: чем больше расширялся круг ее обязанностей, тем плотнее сжимался круг другой – безысходности, какой-то отрешенности, заброшенности. Мир узнавал ее чем дальше, тем больше и больше, а для той земли, из которой Роксолану вырвали почти тридцать лет назад, она становилась все более и более безвестной, не было там живой души, которая бы ее помнила, никто не устремлялся к ней мыслью, не откликался словом, и не поможет никто и ничто – ни султан со своим смертоносным войском, ни ее слезы и мольбы, ни молитвы, ни величайшие чудеса на свете.
И отдалялась от нее родная земля, отдалялась дальше и дальше, ускользала неудержимо, как детство, как молодость, и уже едва мерцал дом родительский за чужой зарей, и запамятовала, как седеет рожь за Чертовой горой, как стучит в оконные стекла сухой снег, как пахнет прошлогодняя листва и весенняя земля под нею, хотя до самой смерти будет помнить, что так не пахнет земля нигде в мире. «Ой, заiржали конi воронi на станi. Ой, забринiли кованi вози на дворi…»
Докатились вести о смерти польского короля Сигизмунда. Королем стал его сын Сигизмунд-Август, рожденный, кажется, в том же году, что и ее покойный Мемиш. Значит, годилась королю в матери. Еще знала о браке Сигизмунда-Августа. Первая его жена, австрийская принцесса, умерла, он выбрал себе жену по любви, взял девушку не из королевского рода, литовку Барбару Радзивилл; все магнаты восстали против короля, угрожали лишить его трона, если не прогонит он эту искусительницу. Подсчитывали, сколько любовников было у Барбары до брака. Каноник Краковский Владислав Гурский называл королеву «последней курвой». Воевода сандомирский Ян Тенчинский, тот самый, которого Роксолана когда-то гоняла из Стамбула в Рогатин, говорил, что охотнее видел бы в Кракове турка Сулеймана, чем в Польше такую королеву. В Германии распространяли скабрезные рисунки о Барбаре, у которой рамена и шея вместо излюбленных ею жемчугов украшены были мужскими срамными телами.
Такого не испытала даже Роксолана, потому что принесла с собой чистоту, перед которой умолкали величайшие злословы.
Позвала к себе Гасан-агу.
– Собирайся в дальнюю дорогу.
Он поклонился. Знал: ни спрашивать, ни отказываться не следует.
– Повезешь мое послание польскому королю. Ни через кого не передавай, добейся приема и вручи самому королю. И скажи ему то, о чем в письме писать не могу. Он не спросит тебя – скажешь ему сам. Что мы приветствуем его брак. Что наблюдаем за ним хотя и издалека, но внимательно и доброжелательно. Что следовало бы ему, как и его отцу, хлопотать перед султаном о заключении вечного мира. Что я обещаю уладить через султана все спорные и запутанные дела. Что мира просят не для части своих земель, а для всего королевства, ибо до сих пор Ягеллоны восточные украинские земли приносили в жертву, заслоняясь ими от Крымской орды, которую напускали на них султаны, чтобы держать в вечном страхе. Пусть добивается у султана, чтобы тот прибрал к рукам крымского хана. Я буду помогать королю. Без него мне трудно, без меня он тоже бессилен, но пусть знает, что я его помощница в этом деле. Скажи ему все это и возвращайся.
О своем родном Рогатине не сказала ничего. Что говорить? Теперь могла уже охватить мысленным взором всю свою покинутую землю. И прийти в отчаяние: несчастный мой народ!
Но в послании к королю Сигизмунду-Августу не выдала себя ни единым словом. Письмо было выдержано в торжественно-холодном тоне, как и надлежало в ее высоком положении.
«Мы доводим до сведения Его Королевского Величества, что, узнав о Вашем вступлении на королевский престол после смерти Вашего отца, Мы приветствуем Вас, и Всевышний – свидетель тому, сколько радости и удовольствия принесла нашему сердцу эта приятная весть. Стало быть, это воля Бога, которой Вы должны покориться и согласиться с его приговором и велением. Вот потому Мы написали Вам это дружеское письмо и послали его к подножию трона Вашего Величества через нашего слугу Гасан-агу, прибывшего с помощью Бога; и потому Мы настоятельно просим Вас ко всему тому, что он выразит устно Вашему Величеству, отнестись с полной верой и доверием, как к тому, что непосредственно передано нашему представителю. И наконец, я не знаю, что Вам еще сказать такое, что было бы тайной для Вашего Величества.
Покорнейшая слуга хасеки султанша».
Прилетели гонцы с вестью о том, что доблестный и благородно мыслящий султан Сулейман под защитой благополучия прибывает в раеподобный Стамбул.
Роксолана тотчас же послала навстречу падишаху краткое приветствие: «Я, ничтожная, благодаря буйному саду потусторонней щедрости удостоилась цветка блаженства – великой вести о возвращении его величества, крова власти, орудия правосудия, властелина и повелителя рая на земле…»
А она оберегала этот рай. Не выпущенная из клетки, в темном кругу вечной муки и неволи, оберегала рай!
За два года, проведенных в походе, Сулейман завоевал тридцать один вражеский город, разорил тринадцать провинций, соорудил двадцать восемь крепостей. Он был доволен своим зятем, сераскером Рустем-пашой, сын Баязид учился у своего великого отца преодолевать безбрежные просторы, а сына Джихангира, чтобы не подвергать опасности его слабое здоровье, падишах оставил наместником на берегу моря в Трабзоне, чтобы был неподалеку от Амасии, где сидел шахзаде Мустафа, – так самый младший сын будет надзирать за самым старшим, и таким образом мир в государстве будет еще более прочным.
Султан возвратился постаревшим, усталым, больным. Весь пожелтел, окаменел, стал еще более немногословным и более замкнутым, чем прежде. Въезжал в столицу верхом, а коня под собой почти не чувствовал. Закостенела поясница, одеревенел крестец, онемели руки, в душе пустота и тоска беспредельная, как просторы, оставленные позади. Что ему просторы, что земли, покоренные, разрушенные, уничтоженные? Опустошение земли ведет за собой опустошенность души. Кто уничтожает землю, уничтожает также и себя. И не поможет ничто – ни драгоценные украшения, ни пышные здания, ни суета величия. Он считал, что мечом своим добывает величие, а теперь убедился, что мечом все только уничтожается. Был на недосягаемой высоте, а мелкие страхи облепили его, как птички – старое дерево. Старость рассыпалась по жилам, будто сухой песок. Песочные часы времени, возраста, умирания. А мир тем временем жил, не уменьшался, не хотел умирать.
Вытаптывая своим железным войском полмира, сам султан всегда руководствовался неписаным правом сохранения жизни, неистребимой силой инстинкта, телесного вожделения, которое в конечном счете ведет к продолжению рода. В походах приводили ему молодых рабынь, и он радовался, когда случай посылал ему существо, напоминавшее оставленную в Стамбуле любимую жену, которая олицетворяла для него красоту и прелесть жизни. Осыпал лаской и щедростью такую женщину, женил на ней кого-нибудь из своих приближенных, а сам снова и снова грезил о Хюррем.
Какой же должна была быть эта женщина, если она заслонила такому всемогущему человеку все сокровища и роскоши земные и небесные? Сочетала в себе все, что могло сделать женщину совершенной и милой: чуткость сердца, величие души, нежность в общении, изысканный ум, чарующую внешность.
И в этом походе Сулейману привели молоденькую рабыню-кызылбашку. Тоненькая девчушка, тоньше брови султана. Но поразила и ужаснула его своей бездонной жизненностью. Танцевала всю ночь, побывала в султановой постели, снова танцевала. Он хотел быть великодушным, даровать ей отдых – она удивилась:
– Отдых? Усталость? Отчего же? Я еще и не натанцевалась!
Лишь тогда понял, что такое для него хасеки. Предпочел бы потерять империю, все на свете, чем свою загадочную Хюррем хасеки. До сих пор не знал, любит ли она его, любила ли, согласен был на все, лишь бы она была рядом с ним. Ничего не значили душа, чувства, настроение, все, что скрыто от взглядов, – батин, лишь ее внешность – захир, тело, голос, взгляды, вечное лукавство и еще что-то, для чего еще не найдены слова. Иногда это было одно лишь тело, иногда только душа, метался между этими непознанными сущностями непознанной женщины и знал, что освобождения ему не будет…
Еще никогда так подолгу не был в походе султан. Может, в последний раз испытывал свое чувство к хасеки, надеясь на освобождение из-под ее власти, ибо самая опасная из страстей, не считая страха перед богами и перед смертью, есть любовь к женщине. Потребность Сулеймана в плотской любви к женщине была столь же естественной, как полет для птицы, как плетение паутины для паука, линька шкуры для змеи. Но перед пугливым телом Роксоланы, которое оставалось неизменным на протяжении десятилетий, точно заколдованное, никогда не чувствовал себя властным самцом – имел в себе что-то словно бы даже рабское. И не исчезало оно, не уничтожалось ни расстояниями, ни временем, ни его старением и увяданием.
Возвращался в Стамбул и думал только о хасеки. Послал ей богатые подарки. Потом выехали, вопреки всем известным обычаям, вперед визири и имамы, чтобы поклониться великой султанше от имени падишаха. И она, тоже вопреки старинным предписаниям, выехала из ворот Топкапы до Айя-Софии вместе с шахзаде Селимом, велела расстелить навстречу султанскому коню красные сукна и радостные ковры приветствия, и так они встретились после двухлетней разлуки. Рядом с султаном держался сын Баязид, улыбался матери еще издалека, не заботясь о требованиях султанской степенности. Он был так похож на султана, что показалось Роксолане: молодой Сулейман возвращается из похода на Белград, на Родос или куда-то там еще. Вздрогнула – и исчезло видение. Два их сына были с ними и между ними, третий был далеко, рядом со своим и своих братьев смертельным врагом Мустафой. Как будет дальше? Страшный круг сужался, охватывал ее горло, невозможно было дышать, ноги подкашивались, казалось, вот-вот упадет, лишится жизни, но не падала, продолжала жить и твердо шла навстречу султану, гордо подняв свою маленькую головку, легкая, тоненькая, стройная, будто та пятнадцатилетняя Хюррем, по белым коврам черногубой валиде.
Прикоснувшись к величию, она не испугалась, не бежала, не погибла, а сама пошла по пути величия и даже достигла невозможного – преодолела величие.
Султан снова сел в столице, а султанша продолжала ездить по Стамбулу, присматривала за строительством, принимала послов, писала письма властелинам Европы.
Гасан-ага привез послание польского короля. Сигизмунд-Август прислал султану янтарную трость с золотым набалдашником, а Роксолане – меха, такие пышные и мягкие, что она не знала, когда будет носить их в теплом Стамбуле.
Гасан хотя и утомлен дорогой, но был довольный, бодрый, готовый снова отправиться в землю, куда султанше не было возврата.
– Имел беседу с королем? – спросила она его.
– Как было велено, моя султанша. Расспрашивали меня без конца о Стамбуле, о султане, о вашем величестве.
– Все там сказал?
– Все, ваше величество. Еще и от себя добавлял, когда возникала необходимость.
– И что же король?
– Благодарил за вашу доброту и приязненность.
– Просил о чем-нибудь?
– О мире говорил. Обещал написать.
– Написал. Да не так. Может, не понял твоей речи?
– Ваше величество! Он все понял. Но боится. Прикрывались раньше Украиной от орды, будет прикрываться и он. Так спокойнее. Да и что он может, если шляхта каждое слово у него изо рта вынимает и обратно вкладывает.
– Но ведь он король!
– Король – не султан. Это только султан не боится никого, а его боятся все. Дрожь пронизывает их от самого слова «Стамбул». Я уже так и этак намекал, что султан теперь дальше от Стамбула, чем они сами, – верят или не верят. Тогда я уже и вовсе напрямик. Дескать, все исламские воины, считающие разрыв с его величеством падишахом ужасными пытками, а разлуку с войной – источником всяческих страданий и неприятностей, следом за августейшим стременем отправились в бесконечный путь. Нет, говорю, в Стамбуле ни войска, ни султана, и можете попугать Крым, никто ему не поможет. А они мне: «А султанша?» И пока я там с ними разглагольствовал, татары перекопские вторглись, набрали множество люда и увели на свою землю в рабство. Говорили, какого-то их князя Вишневецкого тоже полонили и увели с собой.
Роксолана была в отчаянии.
– Поедешь к королю еще раз. Поговорю с султаном, и поедешь снова. Расскажешь там все. Потому что никто ничего не знает.
– Да там еще и послы понаврали, – вздохнул Гасан. – Нечего и говорить. Я им: у нас тут, мол, все принадлежит султану, кроме души, которая собственность Аллаха, а они мне: «А султанша? Разве султан не принадлежит ей? А если так, то кто же у вас выше?»
И ей невольно вспомнился любимый псалом отца: «Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеша мя, и паче снега убелюся». Последние слова чуть было не повторила вслух. «И паче снега убелюся». Очиститься? Как очиститься, защитить свое доброе имя, свою невиновность? И где взять сил, если ей нужно еще защищать сыновей своих, с которыми неизвестно что будет?
– Повезешь послание королю, – сказала Гасану твердо.
Снова писала от своего имени:
«Пусть всевышний оберегает Его Королевское Величество и дарует Ему долгие годы жизни. Покорнейшая слуга сим уведомляет, что Мы получили Ваше дружеское письмо, принесшее нам необычайную радость и удовольствие, которые ни с чем невозможно сравнить, чтобы описать их. Итак, из содержания письма Мы узнали, что Вы в добром здравии и желаете дружбы, которую Вы засвидетельствовали Вашей искренней подруге, точно так же засвидетельствовали и Вашу искреннюю дружбу и благосклонность к Его Величеству Падишаху, который является опорой мира, – как видите, я не в силах сравниться с Вами в выражениях. Пусть бог Вас оберегает, и чтобы Вы всегда были радостны и довольны. Как свидетельствует Ваше величественное письмо, а также донесение, сделанное моим слугой Гасаном, знаки дружбы, выраженные ему Вашим величеством, обязывают мое сердце к благодарности. Я поведала обо всем Его Величеству Султану, и это принесло ему неслыханное удовольствие, которое я не в силах Вам выразить. И он сказал: “Мы со старым королем жили как два брата, и если угодно всемилостивому Богу, мы будем жить с этим королем как отец и сын”. Вот что он сказал и с радостью велел написать это султанское письмо и послать его к подножию Вашего трона с моим слугой Гасаном. Итак, пусть Ваше Величество знает о том, что любым делом, которое оно будет иметь к Его Величеству Падишаху, я заинтересуюсь и скажу свое слово хотя бы и десять раз на добро и благосклонность к Вашему Величеству, считая это долгом моей благодарной души.
В знак дружбы и с тем, чтобы письмо это не оказалось пустым, я посылаю Вам две пары сорочек и штанов с поясами, шесть платочков и рушник, все в одном свертке. И пусть Ваше Величество простит мне, что я посылаю Вам эти строки, которые не заслуживают Вашего внимания, но если угодно Богу, я и в дальнейшем хочу посылать их Вашему Величеству.
На этом желаю Вам здоровья и расцвета во время Вашего правления. Покорнейшая слуга хасеки султанша».
Снова появились в Стамбуле баилы Пресветлой Венецианской Республики Бернардо Наваджеро, Доменико Тревизано, доносили своему сенату о силе, которую обрела в Стамбуле Роксолана, о ее власти над Сулейманом. И долго еще будут пересказывать это донесение и, поверив в неограниченное могущество Роксоланы, в галерее Питти во Флоренции поместят ее портрет среди изображений османских султанов – единственная женщина среди этих усатых чалмоносцев! – но мог ли кто-нибудь заглянуть в душу султана и султанши, этих двоих таких неодинаковых, собственно, враждебных друг другу людей, но в то же время не представляющих жизни друг без друга. И кто знает, кому было больше радости в те напряженнейшие годы их совместной жизни – Роксолане от побед над султаном или Сулейману от поражений перед этой незаменимой женщиной?
Она сочетала в себе мягкость обычаев цивилизованных стран с гостеприимством первобытных народов. Пленила всех своей вежливостью, искренностью, очарованием в беседе, даровитостью, щедростью, любовью к наукам, искусству и роскоши, добротой, чуткостью и признательностью. Шла к этому долго и трудно, со всех сторон окруженная врагами, беззащитная против угроз и искушений, лишенная какой бы то ни было опоры, кроме собственной души да еще родных песен, напоминавших о прошлом, о ее корнях, о рождении и происхождении, ими словно бы излечивала свой кипящий мозг, на который наползало безумие.
Султан полюбил ее, порабощенную, униженную, угнетенную. Собеседница, которой доверялось все самое сокровенное, средство наслаждения, игрушка. Страдала, рвалась из этого унижения и тем жила и, выходит, была счастлива.
Пока была угнетенной, жила надеждами. Победила – и стала несчастной, ибо увидела, что ничего не достигла, а только оказалась над пропастью, а на шее волосяной аркан. «Як у нашого свата на петрушцi хата. Як петрушка пiдогнила, хата ся завалила».
В молодости криводушничала, неискренне заискивала перед султаном ради самосохранения, теперь – ради своих сыновей. И не было конца, а душа ведь не бездонная. Невозможно каждый день петь хвалу султану, клясться в любви и верности, ибо тогда отлетает что-то из души, словно листья с дерева, и воцаряется в тебе какая-то пустота и мертвенность, а потом приходят презрение и ненависть.
Из принудительной любви вырастает только ненависть.
Все люди равны в несчастье и смерти, да только не султаны и не сыновья султанские. Ведь даже в Апокалипсисе за концом света наблюдают сто десять тысяч попечатанных, и конец света не для всех. Ее сыновья были османами, но словно бы не настоящими, потому что опоздали прийти на свет, их опередил Мустафа, точно так же, как Роксолану опередила в гареме черкешенка. Как будто кто-то рвался в этот проклятый гарем! Но уже случилось, и теперь она должна искупать неизвестно чьи провинности. Она и ее дети. Всемогущая – и бессильная до отчаяния. Ненавидела султана всю жизнь – и должна умолять всех богов, чтобы продлили ему жизнь, потому что это жизнь ее сыновей, над которыми висит ужасная угроза, имя же этой угрозы – Мустафа.
Если бы она была коварной и кровожадной, как изображают ее в своих сплетнях послы и путешественники, разве не убрала бы уже давно, не упразднила бы все преграды для своих сыновей? Разве не изменила бы свою стать, не растоптала бы естественную жалость, не заслонила бы для жалости все входы и просветы души, не разбудила бы всех демонов убийства, которые чутко дремлют в султанских дворцах? «Есть ли у них доля власти, и тогда они не дадут людям и бороздки на финиковой косточке?»
Но была женщиной-славянкой, не обнажала своих ран, а прятала их заботливо и чутко. Это лишь султаны устилают землю трупами, считая, что невиновны только мертвые. Для нее же невиновны все живые. Даже Мустафа. Даже он.

