Избранные письма
П. и М. Шелли

Тимоти Шелли267
Оксфорд, Юниверсити-колледж,
6 февраля 1811
Дорогой отец!
Ваше отличное толкование основ религии мне очень нравится. Мне редко случалось читать столь ясное изложение общепринятых догм. Вы убедительно доказываете, что для людей, вовсе неспособных мыслить – а таковые составляют значительное большинство даже в цивилизованном обществе, – необходима сдерживающая сила религии предрассудков, т. е. что им лучше держаться веры своих отцов, какова бы она ни была; ибо они не могут выполнять свой долг без некой опоры, а лучше хилая опора, чем никакой. Это – для тех, которым лучше все принимать на веру. Но если существо разумное, вернее, наделенное способностью развития мышления, в своем совершенствовании вырастает из того состояния, когда оно не умело рассуждать и не испытывало в этом потребности, и теперь не только рассуждает, но и проявляет интерес к выводам, которые из этих рассуждений следуют, неужели Вы отказываете ему в праве пользоваться своим разумом и именно там, где это всего важнее для его нынешнего и будущего счастья, – в том важнейшем вопросе, который требует особого напряжения этой отличительной способности Человека? Вы не можете лишать его того, что составляет, или должно составлять, самую его суть, иначе Вы отнимаете у него эту суть и превращаете из «разумного животного» в «неразумное», лишенное отличительных черт Человека, animal bipes, implume, risibile268. Я перерос упомянутую грань, ибо рассуждаю на эту тему, интересуюсь такими рассуждениями и, добавив их к собственным, мог бы убедительно доказать Вам, что свидетельства двенадцати апостолов недостаточны для подтверждения истинности их учения, не говоря уже о том, каким ненадежным стало это свидетельство после столетий и стольких исторических эпох.
Если бы двенадцать человек сообщили Вам под присягой, что видели в Африке змею длиною в три мили, и утверждали, что эта змея питается одними лишь слонами, тогда как Вам известно, что по всем законам природы такой змее не может хватить слонов, – неужели Вы бы им поверили? Здесь перед нами подобный же случай – и, таким образом, ясно, что мы не можем, если поразмыслить, уверовать в факты, несогласные с общими законами природы; для таких фактов нет достаточных доказательств, вернее, существующие доказательства недостаточны. Я мог бы показать это логически, если Вам угодно или если сказанное не кажется Вам убедительным. – Что касается религиозности Локка, Ньютона и других, я хочу рассказать анекдот о последнем. В Кембридже он держал кур и, сделав для них ящик, оставил в нем большое отверстие для наседки и второе, поменьше, для цыплят. Как это непоследовательно для гения, пытавшегося разгадать механизм вселенной! – Христианские верования Локка сейчас уже не могут нас удивлять, особенно если вспомнить Вольтера, лорда Кеймса269, мистера Юма270, Руссо, доктора Адама Смита et mille alios271, которые все были деистами и все – людьми самой строгой нравственности; все они при жизни удостоились величайших похвал и были законодателями в литературе и морали. Истина, какова бы она ни была, никогда еще не причиняла ущерба подлинным интересам человечества; и никогда не бывало в истории более мирных времен, чем те, когда о религии никто не упоминал. Гиббонова272 «История упадка и гибели Римской империи» убедительно это доказывает. Я почел нужным изложить Вам мои воззрения, дорогой отец, и объяснить, на чем они основаны, насколько это возможно при столь несовершенном средстве общения, как письмо. – Могу ли я просить, когда у Вас найдется время, сообщить мне Ваши возражения (если таковые еще остались) против моих взглядов. «Религия связывает мыслящего человека теми самыми путами, какими удерживает от бесчинств неразумного». И это – мое главное возражение против нее. Пришествие Христа было объявлено благой вестью; однако трудно верить, как может быть благою весть, обрекающая дьяволу более половины человеческого рода, ибо, по словам святого Афанасия273, «кто не верит, тому уготован огонь вечный». – Словно вера зависит от нашей воли, словно это действие, а не страсть души.
На этом я кончаю письмо, ибо знаю Вашу нелюбовь к длинным письмам и боюсь, что утомил Вас. Каковы бы ни были мои убеждения, остаюсь уважающим и любящим Вас сыном
П. Б. Шелли
Тимоти Шелли
Лондон, 29 марта 1811
Дорогой отец!
Вам, конечно, уже известно о несчастье, постигшем меня и моего друга мистера Хогга274; я очень огорчен тем, что лишился возможностей, какие мне предоставлял Оксфорд, но еще более я огорчаюсь, когда думаю о той тревоге, которую всегда вызывали у Вас мои заблуждения и неудачи и которую, я боюсь, Вы сейчас ощущаете в сильной степени.
Дело было так. – Вы хорошо знаете, что я перестал верить в Писание не из распущенности, а в результате размышлений. Продолжая размышлять на эту тему, мы с моим другом обнаружили, к нашему удивлению, что (как это ни странно) доказательства бытия божия не являются убедительными. Свои сомнения мы последовательно изложили в сочинении «О необходимости атеизма», думая таким образом получить удовлетворительный или неудовлетворительный ответ от людей, посвятивших себя изучению богословия. И как же к нам отнеслись? Отнюдь не так, как того заслуживало наше честное и открытое поведение. Наши доводы никем не были публично опровергнуты; исключив меня и моего друга, наши противники показали уязвимость своих позиций и одновременно свою закоснелость. Вероятно, необходимо добавить, что сперва подозрения пали на меня одного. Меня вызвали в зал Коллегии, и, когда я не согласился отречься от своего сочинения, меня исключили. Мой друг мистер Хогг пожелал непременно разделить мою участь; в результате исключили нас обоих. Я слишком хорошо знаю, что Ваша отзывчивая душа будет тронута моим несчастьем. Я надеюсь облегчить Вашу печаль, сказав, что мне самому совершенно безразличен произвол, учиненный над нами в Оксфорде. Прошу Вас передать мой почтительный и нежный поклон матушке и привет Элизабет. Сегодня я им не пишу, но был бы рад получить от них известие275. Позвольте обратить Ваше внимание на «Обращение», которое заслуживало ответа, а не исключения.
Остаюсь, дорогой отец,
Вашим неизменно любящим и почтительным сыном
Перси Б. Шелли
Тимоти Шелли
Поланд-стрит 15,
вторник, утро 9 апреля 1811
Дорогой отец!
Так как Вы изъявили желание узнать о моем решении, от которого зависит будущее Ваше отношение ко мне, я считаю своим долгом – как ни больно мне оскорбить Ваше чувство долга перед самим собою и семьей и чувства христианина – решительно отвергнуть оба предложения, изложенные в Вашем письме, и заявить, что на все подобные предложения я неизменно буду отвечать подобным же отказом.
Признательный за Вашу доброту, любящий и почтительный
Ваш сын
Перси Б. Шелли
Тимоти Шелли
Эдинбург, 27 сентября 1811
Дорогой отец!
Вы не удостоили ответом ни одно из моих писем, хотя их содержание было таково, что требовалось, по крайней мере, подтвердить их получение. Я не могу долее притворяться, будто не понимаю причины Вашего молчания; не могу также не высказаться относительно этой причины. Я это уже сделал в своем последнем письме, вполне почтительно, так что у Вас нет оснований обижаться, тем более что Вы действительно заняли ту позицию, какой я опасался. Я женился – об этом Вы не имеете права сожалеть. Истинный отец должен желать, чтобы сын честно устроил свою жизнь, а Вы не осмелитесь назвать иначе мое нынешнее положение; оно санкционировано законами моей страны, оно предписано также и религией, которую Вы исповедуете: я осуществил свои гражданские права, узаконив свое положение. Я не преступил ни обычаев, ни приличий, ни даже общепринятых религиозных обязанностей. В этом отношении мое поведение окажется безупречным перед самым строгим судом. Я полагаю, что не найдется никого, кто решился бы, наперекор очевидности, утверждать, что я совершил нечто преступное. Если я не спросил Вашего совета, то потому, что Вы не смогли бы войти в мое положение. Каким бы мудрым судьей Вы ни были в других случаях, Вы, надеюсь, не претендуете на непогрешимость суждений или безошибочность интуиции; было бы почти невозможно предвидеть Ваше мнение о выборе другого человека, особенно если его вкусы вообще составляют полную противоположность Вашим. – Допустим, однако, что я оскорбил Вас; допустим, что я преднамеренно Вас огорчил, и для моей вины нет никаких смягчающих обстоятельств. Но разве Вы не христианин, отец? Если уже поздно взывать к Вашей отцовской любви, я обращаюсь к Вашему долгу перед богом, которому Вы молитесь, к тому страшному дню, когда, согласно Вашим верованиям, решится судьба смертных, кои обретут тогда бессмертие, – отец, разве Вы не христианин? Так не судите же, да не судимы будете. Вспомните, что христианство учит прощать обиды; и если бы даже мое преступление было чернее, чем отцеубийство, то и тогда прощение было бы Вашим долгом. Как! Неужели Вы не простите? Какими же предстанут людям христианские правила, которыми Вы похваляетесь? Ведь если Вы не прощаете, то не можете быть христианином; лицемерно притворяясь христианином, Вы оказываетесь ниже безнравственного атеиста; ибо атеист нравственный осуществил бы на деле то, что Вы проповедуете, и мирно даровал бы виновному то прощение, на которое Вы не способны, при всей Вашей похвальбе.
Простите же! И покажите мне, что проповедь не расходится у Вас с делом; вернее, покажите это людям – если уж Вы не боитесь божьего суда, то этот трибунал наверняка будет Вас судить. – Я не совершил ничего такого, что не было бы естественно и законно. У молодежи подобные свадьбы увозом – вещь обычная, а неумолимые отцы в наше время встречаются только в устарелых фарсах да в глупых романах; быть может, Вы хотите ввести их в моду, но я надеюсь, что свет, вместо того чтобы подражать Вам, посмеется над Вами.
Однако под прощением я не разумею пустой формальности, когда ограничиваются одним словом «прощаю» и на этом кончают, как бы исполнив свой долг. Не тому учил Иисус Христос. Вы должны сотворить плоды, достойные покаяния276. Вы должны отнестись ко мне как к сыну, и по всем законам человеческим излишек Ваших достатков должен быть употреблен на мое содержание. Этого я имею право ожидать.
Мои слова могут показаться суровыми, но их вызывает только Ваша неумолимость. Нет более почтительного сына, чем я, и все сказанное выше выражает мое мнение лишь в том случае, если Вам изменит доброта, которая до сих пор всегда Вас отличала. Прощайте. Кланяюсь матушке, сестрам и всем домашним.
Остаюсь любящим Вас сыном
П. Б. Шелли
Будьте добры немедля выслать 50 фунтов – мое содержание за три месяца – на Эдинбургский почтамт.
Сэру Биши Шелли277
Йорк, Нони-стрит, дом мисс Дансер,
13 октября 1811
Сэр!
Простите, что я, никогда ранее Вам не писавший, обращаюсь к Вашей доброте сейчас, когда оказался в беде. Я утратил – и считаю, что утратил незаслуженно – расположение отца за то, что женился по собственному выбору. А ведь если есть что-либо важное для счастья, так именно это; и, разумеется, тот, кого дело касается больше всего, имеет и больше всего прав его решать. Послушание в подобных случаях неуместно, ибо нравственность не может быть не чем иным, как только путем к наивысшему счастью; и когда высказывается мнение, противоречащее этому основному принципу, разум вправе подвергнуть его сомнению. Я привык откровенно высказывать свои убеждения; это навлекло на меня немало бед, но из-за этого я не перестал говорить то, что думаю. Язык нам дан для того, чтобы выражать наши мысли, – а кто стремится сковать его, те – ИЗУВЕРЫ и ТИРАНЫ; они-то и ввергли меня в бедствия. От Вашей справедливости и великодушия я жду правильного истолкования того, что облеченные властью люди могут назвать дерзостью. Между тем у меня ее нет и в мыслях. Я пишу правдиво и искренне. Если Вы пришлете немного денег, чтобы помочь мне и моей жене (а я знаю, что Вы великодушны), я не только стану чтить Вас как деда, но и любить как своего избавителя.
Прощайте.
С почтением,
Перси Биши Шелли
Тимоти Шелли
Йорк, 15 октября 1811
Дорогой отец!
Вы, очевидно, писали мистеру Хоггу-старшему. Я не знаю содержания Вашего письма, но, судя по некоторым неприятным результатам, Вы написали в нем нечто такое, что восстановило против меня семью моего друга. Это – низкий, подлый и презренный способ преследования; мало того, что Вы лишили меня средств к существованию (а Вы мне их прямо и недвусмысленно обещали); Вы еще пользуетесь родством, которое делает меня беззащитным против Вас, чтобы клеветать на меня. Неужели Вы забыли, что такое клевета? Неужели память Ваша так слаба, что Вы не помните, какая опасность грозила Вам за отзыв о книгопродавце Стокдейле? Но к законам страны, защищающим от Вас других людей, я не могу прибегнуть. Вы поступили со мной гнусно. Когда меня исключили за атеизм, Вы сказали, что лучше бы я погиб в Испании. Такое пожелание очень похоже на убийство; на мое счастье, убийство карается английскими законами, а трусы этого страшатся. Я постараюсь как можно скорее встретиться с Вами; если Вы не хотите слышать моего имени, я буду повторять его. Не думайте, что я – червь, раздавленный несчастьем. Будь у меня достаточно денег, я бы встречал Вас в Лондоне и кричал Вам в самое ухо: «Биши, Биши, Биши», да, «Биши», пока Вы не оглохли бы.
[Письмо не подписано]

Сэр Тимоти Шелли, 2-й баронет замка Горинг (1753–1844) – отец Перси Биши Шелли
Тимоти Шелли
Кесвик, Кемберленд,
13 декабря 1811
Дорогой сэр!
Я только что вернулся из Грейстоука, куда был приглашен герцогом Норфолком, желавшим поговорить со мной о прискорбной размолвке, вызванной некоторыми моими поступками. Его совет заключался в том, чтобы я написал к Вам и выразил сожаление, что оскорбил чувства столь близких мне лиц. Я могу сделать это со всей искренностью, ибо, когда я вижу свою вину, никто с большей готовностью, чем я, не сознается в ней и не стремится исправить вред, который могло причинить мое поведение.
Когда меня исключили из Оксфорда, Вы соблаговолили назначить мне содержание в сумме 200 фунтов в год. К этому Вы присовокупили обещание предоставить мне самую полную свободу; пользуясь этим, я женился на девушке с безупречной репутацией; а раз уж так случилось, обстоятельства потребовали тайны, хотя я очень сожалею, что пришлось к ней прибегнуть. За это я был лишен содержания; без денег, не зная ни души на 400 миль вокруг, я оказался перед угрозой самой безысходной нищеты. Можно проявить некоторое снисхождение, если вспомнить, что письма, которые Вы тогда от меня получили, были написаны именно в этом состоянии беспомощности и заброшенности. – А теперь позвольте сказать Вам, что я очень желал бы примириться с Вами; я прошу Вас простить причиненные огорчения; прошу верить, что я искренне и твердо хочу успокоить Вашу тревогу; семейные ссоры я считаю большим злом и очень сожалею, что в какой бы то ни было степени подал к ним повод.
Надеюсь, что следующие мои слова Вы не сочтете за обиду или непочтение, но я считаю своим долгом предупредить, что в вопросах политики и религии я не могу обещать скрывать свои взгляды, какие бы выгоды ни сулили мне подобные уступки. Я считаю нечестным подать Вам надежды, которых я не сумею оправдать. – Во всем, что я сказал, мною руководило самое искреннее желание вернуться к тем отношениям, какие еще не так давно существовали между нами. Я не лицемерю, когда говорю, что сожалею о причиненных Вам огорчениях. Но я не хочу унижаться, делая уступки там, где этого не позволяет долг. Это было бы недостойно нас обоих. Надеюсь, что Вы примете это во внимание, и остаюсь, искренне желая, чтобы мы вполне друг друга поняли,
Вашим почтительным и любящим
П. Б. Шелли
Тимоти Шелли
Кесвик, 23 декабря 1811
Дорогой сэр!
Ваше письмо, доставленное вчера вечером, было мне очень приятно; спешу подтвердить его получение и выразить радость по поводу того, что я уже не вызываю Вашего недовольства. Мистер Вестбрук в настоящее время дает своей дочери 200 фунтов в год; это не позволит повториться тем неприятностям, какие мы имели в Эдинбурге.
Мои принципы остаются все теми же, за которые меня исключили из Оксфорда; когда случается, что на эту тему заговаривают в обществе, я высказываюсь спокойно и с умеренностью. – Надеюсь, что Вы не возражаете против моего образа мыслей. Я мог бы скрыть его, но это было бы ложью и лицемерием. Поверьте, что все, сказанное мной, продиктовано искренним уважением.
Надеюсь, что иногда буду иметь удовольствие получать от Вас письма; надеюсь также, что матушка и сестры здоровы. Мистер Уиттон вскрыл одно из писем, адресованных матушке. Я не знаю в точности, как обстоит дело, о котором я там пишу, но не считаю, что был неправ, когда в него вмешался.
Прошу передать привет матушке и сестрам и остаюсь, с совершенным почтением,
любящим Вас сыном
Перси Б. Шелли
Вильяму Годвину278
Кесвик, Кемберленд,
3 января 1812
Вас удивит это письмо от незнакомца. Меня не представили Вам и, вероятно, никогда не представят, следовательно, это могут назвать вольностью; но, хотя такая вольность не дозволена обычаями, разум ее не осуждает; ради блага человечества необходимо, чтобы пустой этикет не «держал человека вдали от другого». Имя Годвина всегда вызывало во мне уважение и восхищение, я привык видеть в нем светоч, слишком яркий для обступившей нас тьмы. С тех пор как я ознакомился с его идеями, я горячо желал приблизиться, на правах личного знакомства, к высокому уму, чьими творениями я наслаждался.
Поэтому Вы не должны удивляться тому волнению, с каким я узнал, что Вы живы и где живете. Я числил Вас среди великих усопших. Я сожалел, что Ваша славная жизнь окончилась. Но это не так – Вы живы и – я твердо верю – по-прежнему обращаете все свои помыслы на благо человечества.
Я еще только вступил на жизненную арену, но мои чувства и мысли – те же, что и Ваши. – Мой путь был короток, но я уже немало пережил. Я столкнулся со многими людскими предрассудками, немало страдал от преследований, но из-за этого не перестал желать обновления мира. Враждебность, которую я встретил, лишь укрепила убежденность в правоте моих взглядов. Я молод – я горячо предан делу человеколюбия и истины; не подумайте, что во мне говорит тщеславие. Мне кажется, что не оно диктует мне этот автопортрет. Я лишь беспристрастно описываю свое душевное состояние. Я молод – Вы выступили прежде меня; не сомневаюсь, что в сравнении со мной Вы – ветеран в боях с преследователями. Что же странного, если я, отбросив предрассудки, нарушив обычаи, хочу принести пользу и для этого ищу дружбы с Вильямом Годвином? Прошу Вас ответить на это письмо. Как ни ограниченны мои способности, желание мое горячо и твердо. – Посвятив мне полчаса, Вы сделаете доброе дело. Быть может, мне дали неверный адрес. Быть может, по причинам, о которых мне не дано судить, Вы ищете уединения. Словом, я могу не получить ответа на свое письмо. Если так, то я разыщу Вас, когда буду в Лондоне. Я уверен, что сумею найти слова, чтобы убедить Вас, что я не совсем недостоин Вашей дружбы. Во всяком случае, если для этого нужно желать всеобщего счастья, то это желание я докажу.
Прощайте. С нетерпением буду ждать Вашего ответа.
Перси Б. Шелли
Вильяму Годвину
Кесвик, 10 января 1812
Сэр!
Не может быть сомнения, что Ваши занятия я ценю намного выше того удовольствия или пользы, которые достались бы на мою долю, если бы Вы пожертвовали для меня своим временем. Как бы мало времени ни заняло прочтение этого письма и сколько бы удовольствия ни доставил мне ответ, я не настолько тщеславен, чтобы воображать, что это удовольствие важнее того счастья, которое Вы способны принести за это же время другим.
Вы жалуетесь, что обобщенность моего письма лишает его интереса; что Вы не видите во мне индивидуальности. Между тем, как ни внимательно я знакомился с Вашими взглядами и сочинениями, мне необходимо познакомиться с Вами, прежде чем я могу подробнее сказать о себе. Как бы чисты ни были побуждения, едва ли непрошеное обращение незнакомца к незнакомцу может иметь иной характер, кроме самого обобщенного. – Спешу, однако, исправить свою оплошность. Я – сын богатого человека из Сассекса. С отцом у меня никогда не было согласия во взглядах. С детства мне внушали и от меня требовали безмолвного послушания; требовали, чтобы я любил, потому что это – мой долг, – едва ли нужно говорить, что принуждение возымело обратное действие. Я пристрастился к самым неправдоподобным и безумным вымыслам. Старинные книги по химии и магии я поглощал с восторгом, почти готовый в них уверовать. Ничто внутри меня не сдерживало моих чувств; внешних препятствий было множество, и мне их ставили весьма сурово; но их действие было лишь кратковременным.
Из читателя романов я стал их сочинителем; еще не достигнув семнадцати лет279, я опубликовал два – «Сент-Ирвин» и «Застроцци», которые оба совершенно не характерны для меня сейчас, но выражают мое тогдашнее душевное состояние. Я велю послать их Вам; не считайте, однако, что это налагает на Вас обязательство тратить попусту Ваше драгоценное время. – Прошло уже более двух лет с тех пор, как я впервые познакомился с Вашей бесценной книгой о «Политической справедливости»; она открыла мне новые, более широкие горизонты, повлияла на образование моей личности; прочитав ее, я сделался мудрее и лучше. – Я перестал зачитываться романами; до этого я жил в призрачном мире; теперь я увидел, что и на нашей земле достаточно такого, что может будить сердце и занимать ум; словом, я увидел, что у меня есть обязанности. – Вы представляете себе, какое действие могла оказать «Политическая справедливость» на ум, уже стремившийся к независимости и обладавший особой восприимчивостью.
Сейчас мне девятнадцать лет; в то время, о котором я пишу, я учился в Итоне. – Едва у меня сложились мои нынешние взгляды, как я стал их проповедовать. Это делалось без малейшей осторожности. Меня дважды исключали280, но принимали обратно по ходатайству отца. Я поступил в Оксфорд. – Оксфордская среда была мне невыносима, чужда моим взглядам. Я не мог опуститься до тамошнего образа жизни; высокая поэзия, героические деяния, обращение человечества к истине, установление равенства между людьми – вот что наполняло мою душу. – Вы можете себе представить, какой контраст я составлял с тамошним моим окружением. Пребывание в Оксфорде я заполнил изучением классиков и сочинением стихов. – Тем временем я стал атеистом – если понимать «бога» в обычном смысле. Я издал памфлет281, излагавший мои убеждения и путь, каким я к ним пришел. Я анонимно разослал несколько экземпляров умным и ученым людям, желая решить спор с помощью разума. Я не намеревался отрекаться от своего сочинения. В числе других его получил мистер Коплстоун282 в Оксфорде; он показал его декану и профессорам Юниверсити-колледжа. Послали за мной; мне было сказано, что если я отрекусь от написанного, то дело на том и кончится. Это я отказался сделать и был исключен. Чтобы Вам была понятнее эта часть моей повести, необходимо сказать, что я являюсь единственным наследником имения в 6000 фунтов годового дохода. – Мои взгляды заставляют меня считать майорат большим злом. Понятия моего отца о фамильной чести противоречат моим понятиям об общественном благе. Этими последними я не пожертвую ни при каких условиях. – Отец всегда считал меня позорным пятном на его чести. Он решил лишить меня содержания и этим вынудить поступить на военную службу и принять назначение в какой-нибудь дальний гарнизон; а в мое отсутствие возбудить дело против моего памфлета, чтобы поставить меня вне закона и сделать своим наследником моего младшего брата. – Таковы главные события в истории человека, который Вам пишет. Есть и другие, но я счел нужным сделать выборку – не потому, чтобы хотел что-либо скрыть, но потому, что их перечисление было бы нескромным. – Судите же теперь, в каком случае Вы принесете больше истинной пользы: позволив мне поддерживать с Вами знакомство или продолжая занятия, от которых поддержание этого знакомства могло бы Вас оторвать. Сейчас я усердно тружусь. Я пишу «Исследование причин, по которым Французская революция не смогла принести счастья человечеству»283. Я поставил своей целью не упускать ни одной возможности для распространения истины и счастья. Я женат на женщине, исповедующей подобные же взгляды. – К Вам, который образовал мой ум, я всегда буду относиться с подлинным уважением и благоговением.
Искренне Ваш
П. Б. Шелли
Вильяму Годвину
Дублин, 24 февраля 1812
Дорогой сэр!
После весьма утомительного путешествия по морю и суше мы прибыли к нашей цели; я на несколько дней запоздал уведомить Вас об этом, зато сейчас могу вложить в письмо свою только что отпечатанную брошюру284 и таким образом избежать лишних почтовых расходов. Я намеренно упростил язык своей брошюры, чтобы приспособить ее содержание к вкусам и понятиям ирландского крестьянина, отупевшего от векового невежества и порока. – Я полагаю, что сейчас в нем стали пробуждаться лучшие чувства; личные интересы в какой-то мере уступили общим под влиянием гонений на католиков и акта об унии; поступки Принца285 вызвали негодование, которое может привести к стихийному бунту, – подобным кризисом нельзя не воспользоваться. – У меня печатается еще одна брошюра286, где я обращаюсь уже к другим общественным группам с призывом создать филантропическое общество. Ему не будет угрожать противоестественное единогласие; если меньшинство будет откалываться по отдельным вопросам, общество может распасться на двадцать отдельных обществ, и все они будут едины в главном, хотя и разойдутся в частностях.
Наше путешествие было очень утомительным. Переправляясь с острова Мэн, мы были отнесены бурей к северной оконечности Ирландии. Харриет (моя жена) и Элиза (свояченица) были крайне утомлены сильной качкой, длившейся двадцать восемь часов. Сейчас они несколько оправились. Я очень признателен Вам за рекомендательное письмо к мистеру Керрану287. – Его речи заинтересовали меня еще прежде, чем я решил поехать в Ирландию. Он, по-видимому, единственный человек, ставший в страшное время мятежей на защиту заключенных. Я побывал у него дважды, но не застал его дома. Надеюсь, что мотивом, побуждающим меня печататься в столь молодом возрасте, является не желание выделиться, но стремление принести пользу. Прежде всего, мое здоровье не позволяет мне рассчитывать на столь долгую жизнь, как Ваша, – кто в девятнадцать лет страдает нервами и легко утомляется, тот не может надеяться, что будет здоров и крепок в пятьдесят. Поэтому я решил бережливо расходовать свои силы, чтобы успеть свершить возможно больше. – Я заметил, что за сочинением и в споре мой ум, отдавая все, что имеет, одновременно черпает новые силы; темы рождаются у меня в беседе; иной раз я начинаю писать на какую-либо тему, еще не имея определенной точки зрения – она выявляется в ходе самого рассуждения. Вот почему я пишу и печатаю, ибо не напечатаю ничего такого, что не побуждало бы к добру, и, следовательно, если мои сочинения вообще оказывают какое-либо воздействие, то это воздействие доброе. – Мои взгляды на общество и мои надежды встречают сочувствие лишь у немногих; но любовь к добродетели и истине свойственна многим. Я стану пользоваться только этими средствами в моей деятельности; и как бы несбыточна ни казалась иным предлагаемая мною цель, поступая добродетельно, они тем самым вместе со мною будут содействовать ее достижению. – Для моралиста и философа мои сочинения представят плоды ума, быть может, необработанного, но который с самого начала шел по собственному пути; отвергать эти ранние его черты значило бы стереть те, которые от встреч со светом не утратили угловатой оригинальности. Но довольно о себе.
Мне жаль, что Вы не сможете приехать летом в Уэльс; я мечтал встретиться с Вами впервые в таком месте, которое было бы похоже на место встречи Флитвуда и Руффиньи288. Ваши мудрые наставления слились бы тогда в моей душе со зрелищем Природы, где она предстает во всей своей прекрасной простоте и великолепии, и так запомнились бы навек. Этому пока не суждено быть. Я буду, однако, надеяться, что когда-нибудь в будущем закатные лучи Вашей жизни осветят мою душу среди подобных зрелищ. – Осенью я приеду в Лондон; летом нас обещает навестить в Мерионетшире очень дорогой нам друг289, и должен признаться, что я не настолько стоик, чтобы не чувствовать, как радости дружбы усиливаются под воздействием красоты и величия природы. К тому же Вы знаете, что я являюсь, или воображаю себя, немного поэтом. – Вы упоминаете о моей жене; она шлет Вам и всем Вашим близким свой самый сердечный привет. Это – женщина, чьи стремления, надежды, опасения и горести были столь схожи с моими, что несколько месяцев назад мы поженились. Я надеюсь до конца этого года представить ее Вам и Вашей семье, как представился я сам. Такую вольность я могу позволить себе только с теми, кто сделал меня тем, что я есть.
Прощайте. Скоро я напишу еще. Передайте мой почтительный привет всем Вашим близким. Я чувствую себя почти у Вашего домашнего очага.
Искренне Ваш [подпись отрезана]
[P. S.] Прислали ли Вам книги? Я послал Вам брошюру, за которую меня исключили290. С тех пор мои взгляды не изменились. Я знаю, что Мильтон верил в христианство, но не забываю, что Вергилий верил в древнюю мифологию.

Сатана спускается на Землю. Иллюстрация к поэме «Потерянный рай» Джона Мильтона. Художник – Густав Доре. 1866 г.
Именно на образ Сатаны в поэме Мильтона ориентировалась Мэри Шелли при написании своего романа
Вильяму Годвину
Дублин, Сэквил-стрит,
8 марта 1812
Дорогой сэр!
Ваше письмо доставило пищу моим мыслям – прошу Вас, наставляйте меня и направляйте. Прощайте мне все мои слабости и мою непоследовательность; к моему искреннему уважению и любви, внушенным Вашими высокими качествами, не примешивается даже мысль о каком-либо внешнем давлении на меня; когда Вы мне выговариваете, это говорит сам разум; я подчиняюсь его решениям. – Я знаю, что тщеславен, что берусь играть роль, быть может, несоразмерную с ограниченностью моего опыта, что мне недостает скромности, которую обычно считают необходимым украшением юношеской непосредственности. – Я не пытаюсь скрывать от других и от себя самого эти недостатки, если они таковыми являются. Я сознаю, что заблуждался, когда вел себя именно так; но думаю, что в противном случае мои заблуждения были бы серьезнее. «Убеждение, что он действует на благо, присутствует в любом действии человека»291. – Да, конечно, я убежден, что мои нынешние действия направлены на благо; если я утрачу это убеждение, тогда изменятся и мои действия. Исследовать факты, несомненно, нужно, более того, без них нельзя обойтись. Я стараюсь читать книгу, содержащую нападки на самые дорогие мне идеи, с тем же спокойствием, что и книгу, где я нахожу им подтверждение. – Ваши сочинения я читал не поверхностно; они произвели на меня глубокое впечатление; их доводы еще свежи в моей памяти; я ежедневно имею случай обращаться к ним, как к союзникам в деле, которое я отстаиваю. Им и Вам я обязан бесценным даром, вдохнувшим в меня силы, тем, что избавился от умственной хилости и пробудился от летаргии, в которую был погружен два года назад и которая породила «Сент-Ирвин» и «Застроцци» – произведения болезненные, хотя и не оригинальные.
Я отнюдь не забыл того, что Вы писали о союзах. – Но «Политическая справедливость» была впервые издана в 1793 году; с того времени, как распространились ее идеи, минуло почти двадцать лет. И что же? Разве люди перестали сражаться? Разве исчезли на земле пороки и несчастья? – Разве осуществилось рекомендуемое Вашей книгой общение у домашнего очага? Из множества читателей этой бесценной книги сколько было ослеплено предрассудками; сколько людей прочли ее лишь ради удовлетворения минутной тщеславной прихоти, а когда она перестала быть новинкой, отбросили ее и поддались моде на аргументы мистера Мальтуса!292 Я предложил создать «Филантропическую ассоциацию»293, которая, как мне кажется, не противоречит принципам «Политической справедливости», но в точности им соответствует. «Обращение»294 предназначалось главным образом для ирландских простолюдинов. Кто еще находится в столь тяжелом положении, как они? Пьянство и тяжкий труд превратили их в машины. Устрица, подвластная приливам, находится, как мне кажется, почти на том же умственном уровне. – Неужели невозможно пробудить нравственное чувство у тех, кто, по-видимому, так мало пригоден для осуществления высокой миссии человека? Быть может, простое изложение нравственных истин, приспособленное к их пониманию, произведет самое лучшее действие. Общество движется не вперед, а назад; если в надеждах, которые я лелею, есть хоть доля истины, это должно измениться. Но даже если человечество стоит на одном месте, то и тогда ему нужна деятельность гуманистов. Я с досадой и нетерпением думаю о том, как мало успела человеческая мысль за последние 20 лет. – Сознаюсь, мне очень хочется, чтобы что-то было сделано. Но вернемся к предлагаемой мною «Ассоциации». В «Замечаниях» о ней я пишу следующее: «Чтобы любое число людей, встречаясь ради человеколюбивых целей, в дружеской дискуссии выясняли те вопросы, по которым они расходятся, и те, в которых они согласны; и, проверяя их разумом, достигали единогласия, основанного на разуме, а не того поверхностного согласия, какое мы слишком часто находим у политических партий; чтобы по любому важному вопросу меньшинство, не согласное с мнением большинства, могло отколоться. В результате такого отсева некоторые ассоциации могут включать не более трех-четырех членов». – Я не думаю, чтобы подобные общества противоречили Вашей главе о союзах; они не предлагают насильственных или немедленных действий; их цель – способствовать изучению положения и осуществлять рекомендуемое Вами доверительное общение. Посылаю Вам «Предложения», а скоро пришлю и «Замечания»295.
До сих пор я не представлял себе, в какой нищете живут люди. Дублинская беднота, несомненно, самая жалкая из всех. В узких улочках гнездятся тысячи – сплошная масса копошащейся грязи! Каким огнем зажигают меня подобные зрелища! И сколько уверенности они придают моим стараниям научить добру тех, кто низводит своих ближних до такого состояния, худшего, чем смерть. Именно к ним я мысленно обращался. Как быстро изменились мои взгляды на этот предмет. И, однако, как глубоко сама эта перемена укрепила убеждения, приведшие меня сюда. – Я не думаю, чтобы моя книга в малейшей степени призывала к насилию. Я так настойчиво, даже повторяясь, твержу о мирных средствах, что каждый воитель и мятежник, прежде чем стать таковым, будет вынужден отвергнуть почти все положения моей книги и таким образом снимет с меня ответственность за то, что он им стал. Я содрогаюсь при мысли, что даже кровлей, под которой я укрываюсь, и ложем, на котором сплю, я обязан людскому бессердечию. Надо же когда-нибудь начать исправлять это. – Ясно ли я изложил свои взгляды? – Неужели мы и теперь расходимся?
Я еще не виделся с мистером Керраном. Я был у него не раз, оставил свой адрес и памфлет. Но до отъезда из Дублина я увижу его непременно.
Посылаю газету296 и «Предложения». Я не имел понятия, что посланный мною пакет будет отправлен по почте. Я думал, что он будет доставлен Вам дилижансом. – Харриет, вместе со мной, посылает Вам поклон. – Может быть, Вы все же перемените решение относительно Уэльса? Разве Вашим детям не будет полезна поездка?
Искренне уважающий Вас
П. Б. Шелли
[P. S.] В газете Вы найдете упоминания обо мне. Я тщеславен, но не так глуп, чтобы быть польщенным – а не раздосадованным – газетной похвалой. – Я повторил свою просьбу касательно «Сент-И[рвина]» и «З[астроцци]».
Слово «затраты» я употребляю в своем «Обращении» в нравственном смысле.
Вильяму Годвину
Дублин, Графтон-стрит, 17,
18 марта 1812
Дорогой сэр!
Я уже сообщал, что подчиняюсь Вашему решению297, и слово у меня не расходится с делом. Я изъял из обращения сочинения298, в которых высказал ошибочные взгляды, и собираюсь покинуть Дублин. Но я это сделал не потому, что считаю, будто объединения, такие, какими я их себе мыслил, способны принести вред. Совершенствование человека может быть ускорено или задержано; союзы, которые я рекомендовал, содействовали бы первому; возможность отколоться позволила бы избежать показного единогласия, а гласность не допустила бы никаких насильственных перемен.
Я не из тех, кто из гордости не желает признать своей близорукости или высказать убеждения, противоречащие прежним. Я признаю, что мои планы объединения невежественных людей несвоевременны; опасными я их не считаю, ибо одновременно я требовал полной гласности; к тому же я не думаю, чтобы крестьянин стал внимательно читать мое обращение, а прочитав его, проникся кровожадными чувствами. Нестерпимо больно видеть человеческие существа, способные подняться к вершинам науки, подобно Ньютону и Локку, и не пытаться пробудить их от спячки, столь далекой от этих вершин. Часть города, называемая Либерти299, представляет зрелище такой нищеты и бедствий, что его не выдержал бы и более хладнокровный человек, чем я. Но я подчиняюсь. Я не стану больше обращаться к неграмотным. Я буду ожидать событий, участие в которых будет для меня невозможно, и содействовать достижению цели, которая будет достигнута спустя столетия после того, как я стану прахом; надо ли говорить, что такое решение требует стоицизма. Вернуться к бездушной суете обыденной жизни, заинтересоваться неинтересными мелочами – этого я не смогу. Чтобы всецело абстрагировать свои взгляды от себя самого, несомненно, нужно неслыханное бескорыстие; а ведь нет ничего более абстрактного, чем трудиться для отдаленных веков. – Моя идея «Ассоциаций» была, конечно, результатом тех понятий о политической справедливости, которые я впервые почерпнул из Вашей книги на эту тему. Но я недаром прочел в ней также и о дружественных беседах, которые Вы советуете проводить повсеместно, и недаром получил предостережение против формального единогласия. Последнее я имел случаи наблюдать на банкетах. Особенность моих ассоциаций состояла бы в том, чтобы принять первые и избежать второго. – Кроме того, я хотел пренебречь ближайшими требованиями ради более общих и отдаленных целей совершенствования общества. Я хотел воспользоваться нынешней возможностью и попытаться содействовать приближению этого, а целью моей было создание кружков для дружественных собеседований, которые не получили еще всеобщего распространения. Мне кажется, что в пору издания «Политической справедливости» Вы ожидали более скорых перемен к лучшему; я считаю, что если бы Ваша книга была так же широко распространена, как Библия, мир выглядел бы сейчас совсем иначе. Я прочел Ваши письма; прочел с тем вниманием и уважением, какого они заслуживают. Если б я, подобно Вам, был свидетелем французской революции, возможно, что я стал бы еще осторожнее. – Я видел и слышал достаточно, чтобы усомниться во Всесилии Истины в том обществе, где мы живем. Я буду сообщать Вам о всей своей деятельности; а если стану ошибаться, поправляйте меня строго.
Если б я был один и не был связан некоторыми обязательствами, я приехал бы в Лондон немедленно. – Сейчас я должен это несколько отложить. – Мы уедем из Дублина через три недели. Одна особа исключительных дарований300, которую я имею счастье числить среди своих друзей, обещала навестить меня в Уэльсе. Миссис Шелли очень просит меня еще раз попытаться уговорить Вас тоже приехать в Уэльс – если уж Вы не можете, быть может, Ваша милая семья – с которой все мы жаждем познакомиться – захочет вместе с нами подышать чистым воздухом гор? – Чтобы все было по форме, миссис Шелли передает поклон миссис Годвин и всей семье и повторяет приглашение. С нами здесь находится мисс Вестбрук, моя свояченица; и в одном у нас во всяком случае нет недостатка, а именно в пылкости и искренности.
Не опасайтесь больше, что я стану способствовать в Дублине какому-то насилию и опасным мерам. Я не пришел к определенному мнению относительно ассоциаций. В одном смысле они кажутся мне полезными, в другом – вредными. Я подчиняюсь Вашему решению. Меня не назовешь гордецом, чрезмерно замкнутым или упрямым. Надеюсь, время покажет, что Ваш ученик более достоин Вашего хорошего мнения, чем до сих пор оказывалось, – во всяком случае, он будет неизменно искренен с Вами и верен Вам.
П. Б. Шелли
Тимоти Шелли
Нантгвилт, Райадер, Радноршир,
24 апреля 1812
Дорогой сэр!
Последнее Ваше сообщение, полученное через мистера Уиттона, не позволяет надеяться на восстановление в ближайшее время тех добрых отношений, которые я желал бы сохранить с Вами и со всей семьей. Мне пришло в голову, что возможной причиной Вашего внезапного гнева является моя попытка тайно переписываться с Эллен. Вам отлично известно, что я не мог писать открыто ни одной из моих сестер и, естественно, попытался поддержать хотя бы у одной из них привязанность ко мне, когда я в размолвке с остальными. Кроме того, я хотел с помощью этой переписки развить ее ум и заставить раскрыться сердце.
Я сейчас нахожусь в Нантгвилте, в графстве Радноршир и, желая поселиться с женой в уединенном месте, думаю снять здесь дом и ферму. Ферма имеет около 200 акров, дом очень хороший, арендная плата составляет 98 фунтов в год. Нужно, однако, заплатить за мебель и инвентарь, что составит 500 фунтов. Такую сумму я могу достать только под огромные проценты, да и то с трудом. Если Вы ссудите ее мне, то я, благодаря Вам, буду иметь вполне достаточный годовой доход, который иначе будет растрачен в поисках какого-либо иного способа содержать себя и жену.
Вы можете доставить Вашему наследнику возможность спокойно и с достоинством продолжать занятия, которые со временем, на более обширном поприще, позволят ему не посрамить Ваш род.
Если Вы склонны ссудить мне эту сумму на упомянутую цель, но не хотели бы давать ее наличными, Вашей подписи будет достаточно. Я нахожусь сейчас в доме мистера Хупера (Нантгвилт), который разорился; с его уполномоченными я веду переговоры об аренде, покупке мебели и пр. В случае согласия на мою просьбу, как и в случае отказа, прошу Вас оповестить меня по возможности скорее, ибо я нахожусь в довольно неприятном состоянии неизвестности. Ваша невестка больна перемежающейся лихорадкой, и это усугубляет подавленность, вызываемую нашим неустроенным положением. Я надеюсь, что в Филд-плейс все находятся в добром здоровье.
С уважением Перси Б. Шелли
Вильяму Годвину
Нантгвилт, Райадер, Радноршир, Южный Уэльс,
25 апреля 1812
Дорогой сэр!
Мы наконец в какой-то степени устроены. Найти в Уэльсе дом (как и многое другое) оказалось труднее, чем я предполагал. Уезжая из Дублина, мы думали поселиться в Мерионетшире, где провел свое детство Флитвуд, но там мы не смогли найти даже временного пристанища. Мы тщетно изъездили весь Северный и часть Южного Уэльса, и эти странствия заняли почти все время с тех пор, как я писал Вам в последний раз.
Мы покинули Дублин! Нигде я не видел столь разительных контрастов роскоши и нищеты, как в этой несчастной стране. Как я почувствовал справедливость размышления, вложенного Вами в уста Флитвуда: что в деревне, где нищета встречается редко, ее вид учит милосердию, тогда как в городе, взывая о помощи непрестанно, она, напротив, делает человека черствым к страданию ближнего. В Англии общественное неравенство не чувствуется столь резко, как здесь. Но, несомненно, даже при нынешнем политическом устройстве положение Ирландии можно как-то улучшить. – Керран наконец навестил меня. Я дважды у него обедал. Это, безусловно, человек с большими способностями, но мне кажется, что он себя недооценивает, когда растрачивает их на свои излюбленные темы. Быть может, мне не хватает чувства юмора или его непрестанные шутки предъявляют к этому чувству непосильные требования. У него не тот склад ума, к какому я питаю наибольшее уважение и любовь. Словом, хотя у Керрана, несомненно, сильный интеллект и богатое воображение, я не испытывал бы к нему того восхищения, какое вызвал первый его приход, не будь он Вашим близким другом.
Нантгвилт, где мы сейчас живем, находится поблизости от мест, глубоко запечатлевшихся в моей памяти благодаря мыслям, которые владели мною, когда я побывал здесь впервые. Призраки старых друзей выглядят смутно и странно, воскресая после стольких перемен, происшедших с тех пор, как они были для меня живыми. Я еще не рассказывал Вам подробно свою короткую, но полную событий жизнь; если при встрече я не сделаю этого со всей честностью и искренностью, я буду недостоин такого друга и наставника, каким являетесь для меня Вы. – Мы еще не знаем наверняка, сможем ли мы арендовать дом, где сейчас остановились. При нем имеется ферма в 200 акров, а арендная плата составляет всего 98 фунтов в год. Дешевизна, красота природы и уединенность делают это место подходящим во всех отношениях. У меня здешний ландшафт – горы и утесы, словно ограждающие тихую долину, куда, быть может, никогда не ворвется житейская суета; невинные нравы валлийцев – неизменно вызывают мысли о Вас, Вашей жене и детях и еще одном моем друге301; без этого мое представление о счастье не может быть полным. – Уважаемый друг, если возможно, оторвитесь на одно лето от бездушной деловой суеты и приезжайте в Уэльс.
Прощайте. Харриет вместе со мной шлет привет Вам, миссис Г[одвин] и всей семье, и так же, как я, просит всех вас навестить нас.
[Подпись отрезана]
Вильяму Годвину
Нантгвилт, 3 июня 1812
Дорогой сэр!
Спешу рассеять неблагоприятное впечатление, по-видимому, произведенное на Вас моим молчанием. В письме к моей жене миссис Годвин упоминает о Вашем письме, посланном в Ирландию; оно до меня не дошло; я помню ясно, что последнее Ваше письмо было помечено числом, значительно более ранним, чем 30 марта. С тех пор, как я Вам писал, я был нездоров и измучен каждодневными юридическими проволочками, связанными с арендой нашего дома. Я не хочу сказать, что это, или что угодно другое, может вполне извинить небрежность в отношении Вас; но, быть может, моя вина уменьшается тем, что я со дня на день ожидал более благоприятного настроения, а также письма от Вас.
Я надеюсь, высокочтимый друг, что скоро Вы позволите мне показаться Вам; Вы сможете вглядеться в лицо, которое неспособно лгать, и тогда заблуждение будет для Вас невозможно. Я с удовольствием перечитываю заключительную часть Вашего письма и умоляю отбросить мысли, продиктовавшие Вам первую часть; поверьте, что они более не повторятся. До моей женитьбы я непрерывно хворал; эти недуги нервного происхождения нередко мешали мне в занятиях; однако в периоды улучшения я усердно читал романы, притом такие, где было больше всего чудес, и погружался в фантазии Альберта Великого302 и Парацельса303; первого я читал по-латыни и, вероятно, больше успел в ней в результате этого чтения, чем преподавания ее в Итоне. Подрастая, я охладел к натуральной магии и к призракам; я прочел Локка, Юма, Рида304 и всех философов, какие мне встретились, не отказываясь, вместе с тем, от поэзии, которой я оставался верен при всех моих блужданиях и сменах вкусов. Однако по-настоящему думать и чувствовать я начал лишь после прочтения «Политической справедливости», хотя с того времени мои мысли и чувства сделались тревожнее, мучительней и живее, и я и тем более склонен к действию, нежели к умозрениям. Прежде я был республиканцем – образцом государства были для меня Афины, но теперь я считаю Афины столь же далекими от совершенства, как Великобританию от Афин. Я боюсь, что мне недостает той кроткой и ровной доброжелательности, о которой Вы спрашиваете, но я надеюсь, что становлюсь лучше; во всяком случае, стремлюсь к этому, а «желание неизменно рождает и способность». Мои познания о веке рыцарства весьма скудны. Не думайте, что так оно будет и впредь. Всю свою жизнь я размышляю и читаю; большую часть этой работы я совершил впустую; но хочу надеяться, что мне пригодится хоть что-то из столь неразумно накопленных запасов. Я только что прочел «Le Système de la Nature par M. Mirabaud»305. Не знаете ли Вы настоящего имени автора? Книга кажется мне необычайно талантливой.
Посылаю Вам это письмо с обратной почтой, ибо хочу поскорее заверить Вас в своей верности. Скоро я напишу еще, более подробно, и дам более удовлетворительные ответы на вопросы, заданные Вами в конце Вашего письма.
С искренним уважением,
П. Б. Шелли

В июне 1814 года Мэри Годвин и Перси Биши Шелли обвенчались в старой церкви Сен-Панкрас, неподалеку от могилы вольнодумной матери Мэри. Жена Перси Хариетт, узнав об этом, прислала тогда ему письмо, после чего покончила жизнь самоубийством.
«…Я прощаю вас… Будьте счастливы тем счастьем, которого вы меня лишили…»
(Хариетт Шелли. Последнее письмо к мужу)
Вильяму Годвину
Лаймут, 7 июля 1812
Дорогой сэр!
Человек, посланный мной вчера в город за почтой, вернулся. Он принес письма от Вас и Вашей семьи, которые были пересланы из Кум-Элана и Чепстоу.
Какое странное совпадение, что в последнем своем письме я подробно описал свою жизнь и объяснил Вам причины, из-за которых, после неудачи с домом мистера Итона306, я был вынужден искать жилище подешевле. – Сердце мое забилось от радости, когда я прочел о Ваших опасениях; надеюсь, что я до некоторой степени их рассеял. – Мое письмо от 5-го докажет Вам, что я не стремлюсь ни к роскоши (которую ненавижу), ни к удовлетворению прихотей (которые презираю). Я был бы недостоин высокого назначения, ожидающего каждого Вашего друга и ученика, если бы на практике не следовал тому учению, пламенная проповедь которого навлекла на меня ненависть и подозрения. – Наша хижина, ибо она действительно ничем иным не является, не лучше окружающих крестьянских жилищ. Постели – из самых простых, даже грубых материалов; единственно полное отсутствие удобств помешало мне в моем предыдущем письме настаивать на просьбе, столь дорогой моему сердцу: чтобы Вы приехали в этот прелестный уединенный приют и положили конец знакомству издалека, мешающему нашему полному сближению. Я уже начал фразу в середине второй страницы моего письма, чтобы звать Вас сюда, но Харриет остановила меня, напомнив, что Вы слабы здоровьем, а наши комнаты не лучше, чем у слуг. Я так и не закончил фразу. Она добавила, что нам надо поскорее ехать в Лондон, и там все вы должны жить с нами. Так мы в тот миг подумали, и так я Вам написал, не комментируя. Таково мое оправдание. – Тем не менее, высокочтимый друг, примите мою благодарность; считайте, что я еще больше полюбил Вас после того, как Вы пожурили меня за предполагаемые ошибки; как нежный и мудрый отец, будьте постоянно на страже, подстерегая пороки, которые еще не проявились, но уже начертаны на скрижалях моего характера; чтобы я не сходил с пути, Вами первым проложенного в жизненной пустыне.
В предыдущем письме я говорил, что есть однажды приобретенные привычки, которым необходимо следовать. – Я не хотел сказать, что роскошный дом или выезд являются насущной необходимостью; но если бы я работал за станком или ходил за плугом, а моя жена стряпала и хозяйничала, то при нынешнем устройстве общества мы скоро стали бы совсем другими людьми и, хочу добавить, менее полезными человечеству. Существует также стыдливость, не позволяющая лицам разного пола, не связанным известными отношениями, спать в одной комнате. Возможно, что в обновленном обществе труд крестьянина и рабочего будет сочетаться с просвещенным умом и отличным воспитанием; возможно, исчезнет и предрассудок в отношении лиц разного пола. Но сейчас пахарю трудно приобрести утонченность ума; а сближение полов, при нынешних нравах, приведет к самым пагубным последствиям. В доме мистера Итона было слишком мало спален – их едва хватало для нас, а где-то надо спать и Вам, и Вашей семье; ибо верьте, дорогой друг, мне не хочется снимать дом на сколько-нибудь долгий срок, если Вы не можете туда приехать.
Быть может, я написал недостаточно связно? Или недостаточно правильно и ясно сказал о привычках? Простите, ибо я спешу как можно скорее высказать свои мысли.
Харриет пишет Фанни307. Если она особо приглашает Фанни, это не означает, что приглашение адресовано ей одной. Здесь спален достаточно, и если Вас не смущает их скромная обстановка, надо ли повторять: приезжайте, дорогой и чтимый друг, мы будем счастливы.
Прощайте. Искренне и всегда Ваш
П. Б. Шелли
Миссис Тимоти Шелли
Кофейня Сент-Джеймс,
7 ноября 1812
Дорогая матушка!
Я пишу Вам с просьбой прислать мне, если возможно, гальваническую машину и солнечный микроскоп, оставшиеся в Филд-плейс. Последний инструмент необходим мне для той области науки, которой я сейчас занимаюсь.
Пользуюсь случаем послать привет Вам и сестрам и заверить, что готов выполнить в городе любое Ваше поручение, и что благодаря помощи одного бескорыстного друга, доставившего мне некоторую независимость, я не так стеснен в средствах, как Вы можете думать, и могу оказать Вам любую маленькую услугу.
Как бы Вы ни были обижены тем, что я женился втайне от Вас, Вам будет приятно узнать, что сейчас я один из счастливейших людей и что только мысль о временном отчуждении между мной и моими близкими мешает мне стать самым счастливым.
Искренне любящий Вас сын
Перси Б. Шелли
[P. S.] Вы можете немедленно выслать указанные мною вещи почтовой каретой, так как через день или два мы уезжаем из города в нашу хижину в горах Карнарвоншира.
Тимоти Шелли
Дорогой отец!
Я снова осмеливаюсь писать Вам и выразить свое искреннее желание, чтобы меня сочли достойным возобновить отношения с Вами и моей семьей – отношения, на которые я потерял право из-за своих безумств. – Недавно я высказал свои чувства по этому поводу в письме к герцогу Норфолку. Я был приятно удивлен, когда он на днях навестил меня, и я очень жалел, что болезнь помешала мне явиться к нему на следующее утро в назначенный час. Однако, если бы я сумел убедить Вас, что я преодолел некоторые наихудшие черты своего характера и готов на все уступки, какие могут понадобиться в интересах моей семьи, я смею думать, что в посредничестве Его Светлости уже не будет нужды. Я надеюсь, что близится время, когда мы увидим друг в друге отца и сына, проникнемся еще большим, чем прежде, взаимным доверием, и я перестану быть причиной неудовольствия для моей семьи. Я рад был услышать от Джона Гроува, который с нами вчера обедал, что Вы находитесь в добром здоровье.
Моя жена и я шлем Вам почтительный поклон, а я остаюсь Вашим любящим и почтительным сыном
Перси Б. Шелли
Харриет Шелли
Труа, в 120 милях от Парижа,
на пути в Швейцарию,
13 августа 1814
Милая Харриет!
Пишу тебе из этого мерзкого города; пишу, чтобы показать, что я не забыл тебя. Пишу, чтобы звать тебя в Швейцарию, где ты найдешь по крайней мере одного надежного и неизменного друга, которому всегда будут дороги твои интересы и который никогда умышленно не оскорбит твоих чувств. Этого ты не можешь ждать ни от кого, кроме меня. Все другие равнодушны или себялюбивы, или, как миссис Бойнвил, имеют собственных близких, на которых сосредоточена вся их привязанность.
Я напишу тебе подробнее из Невшателя или Ури. До получения следующего моего письма пиши мне в Невшатель, au bureau de Poste308.
Из Парижа мы двигались пешком; мул вез наш багаж, а также Мэри309, которая была нездорова и не могла идти. Наш путь лежал через плодородный край, но мало интересный как своими жителями, так и ландшафтами. За четыре дня мы проделали 120 миль. В последние два дня мы ехали местами, по которым прошла война. Не могу описать тебе страшные зрелища разорения. Деревня за деревней совершенно разрушены и сожжены: между прекрасных деревьев белеют бесчисленные развалины. Жители голодают. Когда-то зажиточные семьи нищенствуют в этом несчастном крае. Нет пищи, нет крова – всюду грязь, нищета и голод (ничего подобного ты не увидишь по пути в Женеву). Должен сказать тебе, что, несмотря на их ужасные бедствия; жители почти не вызывают во мне сострадания. Это самые неприветливые, негостеприимные и несговорчивые люди на свете.
Отсюда в Невшатель мы поедем на какой-нибудь повозке, так как я растянул ногу и не смогу идти. Я надеюсь, что к тому времени это пройдет, а в последний день пути я совершенно не мог ходить, и Мэри уступила мне мула. Если не считать этого, путешествие было довольно приятным. Нам не встретилось ни одного разбойника, которыми нас пугали в Париже. Ты узнаешь о наших приключениях более подробно, если только, приехав в Невшатель, не окажется, что я скоро буду иметь удовольствие увидеть тебя лично и отвезти в какой-нибудь уютный уголок, который найду для тебя в горах.
Я написал Пикоку310, чтобы он занялся нашими денежными делами. Он невнимателен и холоден, но все же не настолько коварен и неблагодарен, чтобы забыть нашу к нему доброту. К тому же он в этом деле заинтересован и поэтому постарается.
Прошу тебя захватить с собою оба документа, которые должен тебе приготовить Таурден311, а также копию дарственной записи.
Своих денег не трать. Но что делать с книгами? Посоветуйся с кем-нибудь на месте. Целую мою милую маленькую Ианту.
Всегда искренне твой
Ш.
Писал наспех. Мы сейчас выезжаем.
[Письмо не подписано]
Мэри Уолстонкрафт Годвин
Лондон, понедельник,
24 октября 1814
Стэплз-Инн находится на территории Миддлсекса. Мы совершенно безопасно можем встретиться312 у Адамса, Флит-стрит, № 60. Я приду в лавку ровно в 12 часов.
Наша разлука нестерпима; я не в силах выносить твое отсутствие. Я думал, что это будет не столь мучительно. У меня в сердце, там, где была ты, – тоска и пустота. Но это ненадолго, любимая. Благоразумием и терпением мы победим наших врагов. Нужно быть осторожными и энергичными.
Скоро я с тобой увижусь.
Не опоздай. Захвати с собой письмо.
Мэри Уолстонкрафт Годвин
Лондон, вечер понедельника,
24 октября 1814
Я не мог встретиться с тобой у Адамса; не сумел прийти до часу, и мы, конечно, разминулись.
Моя любимая, скоро мы будем вместе. Мучения разлуки внушат мне небывалое красноречие и энергию, соответственную опасности. Я сейчас печален и подавлен; но это – счастье в сравнении со счастливейшими минутами моей прежней жизни. Еще несколько дней, быть может – часов, и самые заклятые наши враги уже не смогут нас разлучить.
День я провел у Боллахи313. Я красноречиво описал ему ужас своего положения. Он ленив и апатичен, но это не хладнокровный негодяй, вроде Хукемов. Он послал за своим приятелем, биржевым маклером мистером Уоттсом. Это – старый лысый человек, добродушный на вид. Он сказал, что, быть может, сумеет ссудить мне 400 фунтов! Ответ он даст в четверг. Он, кажется, тронулся моими несчастьями и возмущен предательством Хукемов. Я имею основание думать, что, если он ссудит мне денег под будущее наследство, это можно будет записать на кредит человеческой натуре.
Я потрясен повсеместным коварством, злобой и бессердечием людей. Мэри целиком искупает самые черные их дела. Но должен тебе признаться, что меня ошеломила холодная несправедливость Годвина314. Места, где я видел благородный облик этого человека, живее напоминают мне столь горькую для меня жестокость. Хукемы меня не тревожат. Я уничтожу их иронией и сарказмом, если окажется, что они замышляли зло. Но в разлуке с тобой, свет моей жизни, моя надежда, я временами почти с отчаянием думал о том, каким холодным и мелочным оказался Годвин.
Когда и где мы встретимся? Я сейчас в Лондонской кофейне. Напиши мне. Но не посылай посыльного. Пошли Пикока или приходи сама. Ουκ έχω άργύριον315.
Посылаю тебе «Таймс». Прочти, где я отметил чернилами, и сдержи ужас и негодование до нашей встречи.
Я так страстно люблю мою Мэри, что мы не можем быть разлучены надолго.
Передай привет Джейн316. Мне кажется, она к тебе искренне привязана.
Εμον κριτέριον τῶν άγαθῶν τοδε317.
Мэри Уолстонкрафт Годвин
Ночь на 27 октября 1814
О, любовь моя, зачем наши радости столь кратки и тревожны? Неужели так будет еще долго? Знай, лучшая моя Мэри, что вдали от тебя я опускаюсь почти до уровня грубых и нечистых. Я словно вижу их пустые, неподвижные глаза, уставленные на меня, и вдыхаю отвратительные миазмы, которые грозят подавить во мне волю. О, хоть бы перед сном осиял меня искупающий взгляд Мэри! Похвали меня за терпеливость, любимая, за то, что я не бегу безрассудно к тебе – урвать хоть минуту блаженства. – К чему промедление – разве и ты не стремишься ко мне? Все, что есть во мне хорошего и сильного, влечет меня к тебе – упрекает в медлительности и холодности – смеется над страхами и презирает благоразумие! Отчего я не с тобой? – Увы! Встретиться нам нельзя.
Я написал длинное письмо к Джейн, хотя вовсе не был расположен писать. Я надписал конверт измененным почерком, чтобы удивить ее.
Я не выразил тебе, ибо не мог, своего восхищения твоим письмом к Фанни. Какими простыми и впечатляющими словами ты высказала свою мысль, как обосновала каждую ее часть, какую полную нарисовала картину того, что хотела изобразить, – все это превзошло мои ожидания. Как упрям и жесток должен быть тот, кто не признает в тебе самого тонкого и очаровательного ума, не признает, что среди женщин тебе нет равных, – и я владею этим сокровищем. Как же безмерно мое счастье. Я окрылен им – и что бы ни случилось, я счастлив.
Если не дам знать до того, приходи завтра в 3 часа в собор Св. Павла. Прощай; вспоминай любовь – в вечерний час перед сном.
Свою молитву я не забываю.
[Письмо не подписано]

Джульетта. Иллюстрация к новелле «Метамарфоза» Мэри Шелли.
После смерти Перси, писательница постоянно нуждалась в деньгах и писала за смешные гонорары небольшие новеллы для различных изданий.
Художник – Луиза Шарп. Гравер – Джей Си Эдвардс. 1831 г.
Мы точно облака вокруг луны полночной.
О, как они спешат, горят, дрожат всегда,
Пронзают темноту! – но гаснет свет непрочный,
Их поглотила ночь и нет от них следа.
(«Изменчивость». Перси Биши Шелли. Перевод К. Бальмонта)
Вильяму Годвину
Лондон, Норфолк-стрит 13,
6 марта 1816
Сэр!
Первая часть Вашего письма касается предмета, очень мне близкого и относительно которого я хотел бы полного объяснения с Вами. Признаюсь, что мне непонятно, каким образом существующие между нами денежные обязательства в чем-либо влияют на Ваше ко мне отношение. Этих обязательств не было, – во всяком случае, с Вашего ведома или согласия, – когда я вернулся из Франции, а между тем Ваше поведение в отношении меня и Вашей дочери было в точности таким же, как сейчас. Быть может, следует сделать исключение для отзыва, какой Вы дали обо мне в беседе с Тернером318, что, впрочем, никак не подтверждается Вами и могло быть им истолковано чрезмерно благоприятно. Я считаю, что ни я, ни Ваша дочь, ни ее ребенок319 не должны встречать то отношение, какое к нам всюду проявляют. Мне всегда казалось, что именно Вы, с чьим мнением люди считаются, должны особенно заботиться о том, чтобы к нам относились справедливо и чтобы молодую семью, невинную, доброжелательную и дружную, не ставили на одну доску с распутницами и совратителями. Когда наибольшую безжалостность и жестокость проявили Вы сами, я был поражен и, признаюсь, возмущен тем, что, зная меня, Вы из каких бы то ни было побуждений могли поступать так жестоко. Я оплакивал крушение надежд – тех надежд, которые, под действием Вашего гения, возлагал некогда на душевные Ваши достоинства, – когда оказалось, что ради себя, своей семьи и своих кредиторов Вы готовы возобновить со мной отношения, от которых однажды с гневом отказались и на которые Вас не могло склонить сострадание к моим мукам и лишениям, добровольно взятым мной на себя ради Вас же. Не говорите мне вновь о прощении; моя кровь кипит и сердце исполняется горечи против каждого существа, имеющего человеческий образ, при мысли о враждебности и презрении, которые я, шедший к людям с добрыми делами и пылкой любовью, испытал от Вас и от всех людей.
Чувства, которые Вы во мне всколыхнули, не дают мне возможности ответить подробно на деловую часть Вашего письма. Я могу сказать только, что Вы чересчур оптимистичны, но я сделаю все, что могу, чтобы не разочаровать Вас. Я предвижу немало трудностей и даже опасность, но я не склонен преувеличивать свои затруднения. Я наверняка пробуду в Лондоне несколько дней, быть может и дольше, смотря по тому, сколько потребуют дела. А пока прошу Вас найти письмо, где я говорю о Брайанте320, и переслать мне как можно скорее его адрес. Я оставил его письмо на Бишопгейт. При первой возможности я подробно отвечу на Ваше письмо, если не представится иного способа объясниться.
[Письмо не подписано]
Вильяму Годвину
Лувр, 3 мая 1816
Вы, несомненно, хотите знать о моих делах. Я был бы рад дать Вам о них более благоприятный отчет, нежели тот, который вынужден представить сейчас. Я сожалею о своих стесненных обстоятельствах потому, что в числе других подобных планов не сумею доставить Вам те удобства и независимость, какие, по справедливости, давно уже должно было бы обеспечить Вам общество.
Канцлерский суд постановил321, чтобы ни я, ни мой отец не распоряжались имением. Решено также, что весь лес, оцененный, как говорят, в 60 000 фунтов, должен быть срублен и продан, а деньги внесены в суд на случай выкупных платежей. Это Вы уже знаете от Фанни.
Таким образом, по отношению к Вам я снова оказываюсь почти в том же положении, какое описывал Вам в марте. От отца я не получу ничего, кроме милостыни. Возможности достать денег под обеспечение будущего наследства весьма сомнительны; а сделки под ежегодную ренту наверняка могут дать лишь очень немного.
Отец должен выдать мне известную сумму на погашение тех обязательств, которые я брал на себя за время, пока решалось дело. Эта сумма очень невелика и почти целиком уйдет на уплату тех моих долгов, которые я вынужден был указать, чтобы вообще получить эти деньги; останется несколько сот фунтов; из них Вы в течение лета получите 300 фунтов. Эту сумму я должен обеспечить своим будущим наследством; документы будут составлены за полтора-два месяца, и я должен вернуться, чтобы их подписать и получить деньги. Если только моему отцу не станет известно, что я обращался также к другим заимодавцам, деньги для Вас наверняка будут получены ко времени общего учета векселей.
Боюсь, что с Брайантом ничего не выйдет. Он обещал ссудить мне 500 фунтов, просто под расписку; разумеется, он не сдержал слова, и это не сулит ничего хорошего в будущем. Эта возможность перед нами не закрыта, но я считаю, что единственным, во всяком случае лучшим, ходом было бы Ваше вмешательство. Может быть, Вам не хочется, чтобы Вас сочли за моего личного друга, но это необходимо, если только Вы согласны. Я убежден, что это будет весьма благоприятствовать делу. Должен предупредить, что соблюдение тайны является сейчас необходимостью.
Хейуорд322 тоже кое-что хочет устроить. Он надеется, что сможет достать мне 300 фунтов под обеспечение наследством.
Ни Брайант, ни Хейуорд не знают, что я уехал из Англии; так как я, по всей вероятности, и даже наверное, должен буду через несколько недель вернуться для подписания документов, если на это согласятся, и, во всяком случае, для получения денег от отца, то я решил, что они меньше станут стараться, если узнают, что я за границей. Я сообщил им, что на две-три недели еду в деревню. Я даже оставил за собой квартиру на Марчмонт-стрит.
Причины, побудившие меня покинуть Англию и изложенные мной в одном из предыдущих писем к Вам, с тех пор требуют этого все более настоятельно. Надолго оказавшись в положении, когда то, что я почитаю предрассудком, не позволяет мне занять равноправное положение среди людей, я предпринял решительный шаг. Я увожу Мэри в Женеву, где обдумаю, как устроить нашу жизнь; я оставлю ее там лишь на время поездки в Лондон, где займусь исключительно делами.
Итак, я покидаю Англию – быть может, навсегда. Я вернусь туда один и не ради дружеских встреч, или дружеских услуг, или чего-либо, способного смягчить чувства сожаления, почти раскаяния, какие испытывает в подобных обстоятельствах каждый, кто покидает родину. Вас я почитаю и думаю о Вас хорошо, быть может, лучше, чем о ком-либо из прочих обитателей Англии. Вы были тем философом, который впервые пробудил – и как философ и поныне в значительной степени направляет – мой ум. Мне жаль, что те Ваши качества, которые наименее достойны похвал, пришли в столкновение с моими понятиями о том, что правильно. Но я слишком дал волю негодованию и был к Вам несправедлив. – Простите меня. – Сожгите письма, в которых я проявил несдержанность, и верьте, что как бы ни разделяло нас то, что Вы ошибочно зовете честью и репутацией, я навсегда сохраню к Вам чувства лучшего друга.
П. Б. Шелли
Мой адрес: Женева, до востребования. Я писал наспех, ежеминутно ожидая отплытия пакетбота.
Томасу Лаву Пикоку
Женева, 15 мая 1816
Дорогой Пикок!
После десятидневного путешествия мы прибыли в Женеву. На нашем пути – как на дороге жизни – перемежались дождь и солнце, хотя многочисленные дожди были для меня, как Вы знаете, весенними ливнями, которые быстро проходят и сулят погожее лето.
В некоторых отношениях поездка была восхитительна, но хлопоты, необходимые, чтобы ехать без задержек, и постоянный страх перед расходами изрядно уменьшают удовольствие от любого путешествия.
Нравы французов любопытны, хотя англичанам они меньше по душе, чем когда-либо. Угрюмое недовольство проявляется ими постоянно.
Я меньше презираю эту нацию, когда вижу, что, будучи рабами и оказавшись для этого вполне пригодными, они все же не научились носить свои цепи с улыбками угодливой признательности. Всего лучше было бы им любить истинную свободу и добиться ее – но хорошо уж и то, что рабство вызывает у них ропот.
Вы живете на берегах тихой реки, среди небольших лесистых холмов. Вы живете в свободной стране, где можно действовать без помех и владеть имуществом без опасений; покуда вообще существуют государства со всеми себялюбивыми понятиями, до них относящимися, Англия остается наиболее свободным и просвещенным.
Быть может, Вы избрали благую часть; но если я вернусь и последую Вашему примеру, я не стану жалеть о том. что повидал иные края. Много дурного и много хорошего, много такого, что вызывает отвращение, и такого, что возвышает душу, не познает и не почувствует тот, кто не покидал пределов родной страны.
Пока человек остается тем, каков он сейчас, опыт, о котором я говорю, не научит его презирать страну, где он родился; напротив, подобно Вордсворту323, он лишь тогда поймет, какая любовь связывает его с родиной, когда разлука с ней заставит его сердцем почувствовать ее красоту; наши поэты и мыслители, наши горы и озера, сельские дороги и поля, у нас особенно своеобразные, – вот связи, которые, пока я живу и чувствую, ничто не может порвать. Все это – и память об этом, если мне не суждено возвратиться, – все это и привязанности, от которых они неотделимы, ибо некогда составляли их часть; все это навеки сделает для меня дорогим имя Англии, моей родины, даже если я туда не вернусь. Это и есть для меня родина; в этом соединяется все, что мне в этой мысли дорого.
Однако, я полагаю, Вы не для того платили за это письмо, чтобы читать одни лишь чувствительные излияния: боюсь, что я еще не скоро сделаюсь заправским туристом, но скажу: чтобы попасть в Женеву, мы перевалили через Юру – ответвление Альп. Хлопоты с лошадьми и с огромными гостиничными счетами, с возницами и с врунами-трактирщиками Вы легко себе представите; заполните эту часть картины согласно собственному опыту, и наверняка выйдет похоже. Юрский хребет очень высок. Он образует ландшафты поразительной красоты. Непроходимые сосновые леса, где не ступал человек и куда ему не добраться, простираются здесь во все стороны. Порой они спускаются по склону горы, сопровождая путника в долину, одевая отвесные скалы, цепляясь узловатыми корнями за голые расселины. Иногда дорога подымается высоко в царство вечной стужи, и там лес становится реже, а деревья гнутся под тяжестью снега. Деревья здесь поражают своей величиной и разбросаны отдельными купами по белой пустыне. Я еще не видел более дикой и мрачной местности, чем та, которую мы проехали за последний день пути. Безмолвие, свойственное этим безлюдным горам, составляло странный контраст с голосами наших проводников, ибо в здешних местах приходится нанимать несколько человек, чтобы помогать лошадям тащить экипаж по снегу и не давать ему свалиться в пропасть.
Сейчас мы в Женеве; здесь или в окрестностях мы, вероятно, пробудем до осени. Но очень скоро, через две-три недели, я, возможно, вернусь в Англию для участия в последних усилиях Лонгдилла324 по устройству моих дел; разумеется, я при этом повидаюсь с Вами; а пока мне интересно все, что Вы напишете о себе.
Мери сейчас занята, пишет; иначе она написала бы Вам по-латыни, на которой мне не удается выражать свои мысли. Не жду от Вас подражания тому, что Вы наверняка сочтете непростительным и варваризмами.
П. Б. Шелли
Томасу Лаву Пикоку
Женева, 17 июля 1816
Мое желание найти уголок на земле и назвать его нашим домом, и убеждение, что привязанность к этому уголку является источником прекрасных и добрых чувств, наконец привело меня к решению приобрести такое жилище.
Вы – единственный человек, который достаточно расположен ко мне, чтобы с охотою заняться этим делом, и вкусы которого достаточно схожи с моими, чтобы я мог доверить Вам его осуществление.
Я не обременяю Вас извинениями по поводу хлопотливого поручения. Это всего-навсего переговоры о найме дома, приведение в порядок запущенного сада, починка какой-нибудь изгороди и перевозка книг. Мне ничего не нужно, кроме сельского образа жизни и дальних прогулок.
Хорошо бы, если б Вы перевезли из Бишопгейта все мои книги, всю мебель и все другие принадлежащие мне вещи. Я писал к … с просьбой переслать все мои вещи оттуда к вам. Я написал также Л[онгдиллу], чтобы с 3 августа отказаться от тамошней квартиры.
Когда все мое имущество окажется у Вас, я хотел бы, чтобы Вы подыскали квартиру для меня, Мэри, Вильяма и котенка, который сейчас отдан en pension325. Пусть это будет дом без мебели, по возможности с хорошим садом, поближе к Виндзорскому лесу; арендовать его надо на четырнадцать лет или на двадцать один год. Дом не должен быть слишком тесным. Мне хочется, чтобы все как можно больше напоминало Бишопгейт; думаю, что нечто подобное можно найти на Саннинг-хилл, Уинкфилд-плейн или около Вирджиния-уотер.
Домов сейчас много, и они чрезвычайно дешевы; но я в этом деле всецело полагаюсь на Вас.
Разумеется, Вы напишете о том, что Вами сделано, и я немедленно переведу деньги на все расходы, какие Вы почтете необходимыми. Но может быть, Вы продадите из бишопгейтской мебели то, что не надобно – например, эти ужасные портьеры и т. д.
Пожалуйста, напишите Л[онгдиллу], что я уполномочил Вас 3 августа вместе со слугами леди Л[амли] пересчитать по описи вещи, если им угодно, и сделать все, что понадобится. Я удовольствовался бы домом в Бишопгейте, хоть он и дорог, если б леди Л.326 согласилась подождать с оплатой до получения мной наследства. Это я говорю для того, чтобы Вы могли сделать ей такое предложение, если увидите возможность этого.
Я намерен вернуться в Англию и навсегда поселиться в этой отличной стране. Весьма вероятно, что мы вернемся будущей весной – быть может, и раньше, быть может, позже, но вернемся непременно.
Рассказ о причинах и следствиях моего путешествия я приберегаю на будущее, до какой-нибудь зимней прогулки или летней экскурсии. Одно несомненно: прежде чем мы вернемся, мы повидаем, услышим и переживем много такого, о чем будем рассказывать и что сделает нас несколько более достойными людской дружбы, нежели перед отъездом.
Мы предполагаем327, если удастся, спуститься по Дунаю водным путем, посетить Константинополь и Афины, потом Рим и города Тосканы и вернуться через южную Францию, все время по большим рекам – Дунаю, По, Роне, Гаронне; реки – это не то, что дороги, творения человеческих рук; подобно нашему духу, их свободный путь ведет по непроходимым пустыням и мимо прекраснейших уголков, не доступных иначе. Имеют они и более низменное преимущество – путешествовать по ним дешевле.
План путешествия на Восток только сейчас завладел нашим воображением. Боюсь, что когда дойдет до практических подробностей, он окажется неосуществимым, подобно всем другим дерзким и прекрасным мечтам; но мы, во всяком случае, напишем Вам, где бы мы ни оказались и какие бы приключения ни готовила нам судьба.
Взамен сообщите мне все английские новости. Что с моей поэмой?328 Надеюсь, что она нашла приют в лоне своей матери, Забвения, из которого только я мог так безжалостно ее извлечь.
Пишите о политической обстановке в Англии, о литературе – говоря о ней, я имею в мыслях Кольриджа, – а также о себе, о Ваших делах и Ваших исторических трудах.
Я успел написать это, когда пришло Ваше письмо к Мэри, помеченное 8-м числом. То, что Вы пишете о Бишопгейте, разумеется, меняет часть моего письма, где о нем говорится. Признаюсь, я не без грусти узнал о предстоящем разорении329; но, может быть, для меня даже лучше, что столь дорогое обиталище теперь для нас недоступно.
Вам придется приютить моих бездомных пенатов, посвятить им какой-нибудь новый храм и в моем отсутствии исполнять обязанности жреца. Это невинные божества, и их культ не требует кровавых или нелепых жертв.
Предоставим как Маммону, так и Иегову тем, кто наслаждается злом и рабством, – их алтари запятнаны кровью или осквернены золотом, этой ценою крови. А алтари пенатов – это дрова, пылающие в очаге, или окна, оплетенные вьющимися растениями; вместо гимнов там слышится мурлыканье котят и пение чайника, долгие беседы о прошлом и об умерших, детский смех, теплый летний ветерок, залетающий в мирный дом, и злая зимняя вьюга, которая тщетно хочет туда ворваться. Кстати, о пенатах: разве не похож я на Юлия Цезаря, посвящающего храм Свободе?
Как я сказал в начале этого письма, в выборе дома я целиком полагаюсь на Вас. Я предпочитаю Виндзорский лес из-за рощ и парков и обитающих там животных. Но я неравнодушен также и к красотам Темзы, и любая подходящая местность, о которой Вы напишете, может заставить нас позабыть полюбившийся нам Бишопгейт.
В пользу Темзы говорит и то обстоятельство, что вблизи нее поселились Вы. Но не забудьте, что мы ищем жилище постоянное, на всю жизнь, а потому внутренность его имеет для нас большее значение, нежели окружающий пейзаж; каков бы он ни был в начале, он вскоре примет ту окраску, какую ему придадут наши привычки.
Я рад, что обстоятельства не позволяют мне выбирать самому. Я подчинюсь Вашему выбору, как люди подчиняются неизбежности своего рождения.
Лорд Байрон – чрезвычайно интересный человек; как жаль поэтому, что он – раб самых низких и грубых предрассудков, да к тому же шальной, как ветер.
П. Б. Ш.
Лорду Байрону
Шамони, отель «Лондон»,
22 июля 1816
Дорогой лорд Байрон!
Мы только что прибыли в Шамони – вечером следующего дня после нашего отъезда. Мне представляется случай послать Вам письмо. Не стану пытаться описывать места, по которым мы проехали. Я надеюсь вскоре прочесть в поэтических строках о чувствах, которые они вызовут у Вас. Долина Арвы (она в сущности является продолжением долины Шамони) становится чем дальше, тем прекраснее и, наконец, в местечке Серво, там, где Монблан и соседние с ним горы замыкают долину с одной стороны, превосходит и затмевает все, что я доныне видел или воображал.
Дело не только в том, что горы эти громадны по размерам, а леса необозримы; в самих их очертаниях и красках есть величие, которое производило бы впечатление даже и при меньших масштабах. Я пишу в надежде – позволите ли Вы ее высказать? – что мы увидим Вас здесь до нашего отъезда. Едва вступив в эту восхитительную долину, мы решили остаться здесь на несколько дней. Когда мы подъезжали, обрушилась лавина. Мы слышали грохот ее падения, а спустя несколько мгновений стал виден клубящийся след ее пути; поток, вытесненный ею из русла, затопил всю лощину, в которой протекал. Я хотел бы, чтобы чудеса и красоты этих «дворцов Природы»330 побудили Вас посетить их, пока мы, которые столь высоко ценим Ваше общество, еще находимся здесь.
Как наш маленький Вильям?331 Здоров ли?
Клер шлет Вам привет, Мэри также просит передать поклон.
Преданный Вам
П. Б. Шелли
P. S. Дороги здесь прекрасные, и для путников все предусмотрено. До Салланша можно доехать в экипаже, а потом, хотя остаток пути можно проделать в char du pays332, я советую Вам последовать нашему примеру и нанять мулов. Можно обойтись без проводника, хотя у нас он был; ибо дорога, за одним лишь незначительным исключением, отличная и совершенно ровная. Между Женевой и Шамони есть, видимо, небольшой подъем.

Томас Лав Пикок (1785–1866) – английский писатель-сатирик и поэт. В своих художественных произведениях, в первую очередь в романах, писатель остро высмеивал обычаи и нравы, бытовавшие в современном ему обществе. Значительное влияние на поэтическое творчество оказал его друг, поэт Перси Биши Шелли.
Художник – Генри Уоллис. 1916 г.
Лорду Байрону
Портсмут, 8 сентября 1816
После девяти дней скучного пути по суше и по морю мы добрались сюда. Но во время путешествия по Франции у нас были и приятные минуты, подобные проблескам солнца в ненастье. Мы ехали не через Париж, а более коротким путем, через Версаль и Фонтенбло, где останавливались, чтобы осмотреть знаменитые дворцы, которые, как я расскажу Вам после, заслуживают внимания как памятники людского могущества; они величавы, хотя и несколько потускнели; второй из них был ареной некоторых из наиболее интересных эпизодов Французской революции – этого главного события нашей эпохи. Переезд из Гавра был тяжелый – 26 часов. Сейчас мы как раз успели пообедать, и мне говорят, что почта отправляется через несколько минут, – но я спешу возможно скорее сообщить Вам о благополучном прибытии «Чайльда»333. Единственное приключение, постигшее его с тех пор, как он покинул отчий кров, не имело в себе ничего славного. Его приняли за контрабандиста, и засаленный таможенник вертел его так и сяк, думая, не спрятаны ли в нем кружева и т. п. Сейчас он в безопасности – заперт в моем саквояже.
Через три дня я напишу Вам снова. Прощайте – берегите здоровье – будьте покойны – и верьте, вместе с Кольриджем, что «надежда – наш священный долг и матерь всех других добродетелей». Поверьте, что такого человека, как Вы, она не покинет, если только не гнать ее безжалостно.
Мэри присоединяется к моим искренним пожеланиям счастья. Клер велит передать Вам нечто лучше задуманное, нежели выраженное.
Ваш искренний друг
П. Б. Шелли
[Р. S.] Прошу передать мой поклон Хобхаузу – а также мистеру Дэвису334. Надеюсь, что первый развеял всякие угрызения, какие Вы могли чувствовать, когда расстались с Полидори335. История, которую он мне рассказал вечером накануне моего отъезда из Женевы, заставила меня похолодеть.
Лорду Байрону
Лондон, Марчмонт-стрит 26,
11 сентября 1816
Дорогой лорд Байрон!
Я только что виделся с Мерреем и передал ему поэму336. Он был со мной чрезвычайно учтив и сказал, что ему не терпится прочесть ее. Он уже слышал, что ее считают лучшим из всех Ваших произведений и что таково мнение госпожи де Сталь337. Завтра я побываю у мистера Киннерда338. Меррей говорит, что леди Байрон находится в Лондоне и здоровье ее значительно улучшилось. Это подтверждается уже самим ее приездом.
Мэри и Клер расстались со мной в Портсмуте и отправились в Бат. Я приехал на прежнюю свою квартиру; в ней очень пусто и одиноко. Никого со мною нет, кроме призраков старых воспоминаний, и каждый является с каким-нибудь упреком, на который не находишь ответа. Мой поверенный, оказывается, находится в Ланкастере. Я написал ему, чтобы он приехал; но это заставит меня еще больше времени провести в этой многолюдной пустыне. Вчера вечером у меня была Фанни Годвин, она рассказала о делах своего отца, которому, к счастью, скоро будет оказана помощь. Она сказала, что его роман очень продвинулся339. Сказала также, что художник Норткот340, пламенный поклонник всех Ваших произведений, посоветовал Годвину прочесть «Гленарвон»341 и утверждает, что многие места в нем свидетельствуют о необыкновенном таланте.
Урожай еще не собран. Явных признаков недовольства пока незаметно, хотя народ, как говорят, сильно бедствует. Но вся тяжесть положения обнаружится вполне только зимой. Всей душой надеюсь, что отчаяние не толкнет народ на преждевременную и бесцельную борьбу.
Скоро напишу Вам снова – сейчас меня терзает спазматическая головная боль, которая не дает связно мыслить. Прошу Вас написать мне и прислать о себе хорошие вести. Глубокий интерес, какой я чувствую ко всему, что Вас касается, заставляет меня с нетерпением ждать малейших подробностей.
Остаюсь, дорогой лорд Байрон, Ваш искренний друг
П. Б. Шелли
Лорду Байрону
Бат, 29 сентября 1816
Дорогой лорд Байрон!
Вы уже знаете от Киннерда о том, как уладилось дело с «Чайльд-Гарольдом». Вам за него причитается 2000 гиней. Меррей не возражал, хотя вышло маленькое недоразумение из-за того, что он думал получить его за 1200, но все тотчас же разъяснилось. Надеюсь скоро известить Вас, что получена первая корректура. Я виделся с Киннердом и имел с ним длительную беседу. Он сообщил мне, что леди Байрон сейчас совершенно здорова и живет с Вашей сестрой342. Это сообщение очень меня порадовало. Я считаю, что вторая часть его является решительным опровержением единственной серьезной клеветы, какую на Вас когда-либо возводили. На эту тему, во всяком случае, свет должен отныне молчать. Киннерд говорил также о некоторых слухах, какие, по его словам, усердно распространяет о Вас Каролина Лэм. Я не могу относиться к подобным сплетням с той серьезностью, с какою относятся к ним иные. Они были бы безобидны уже из-за самой своей невероятности, если б не были еще безобиднее из-за своей глупости. Это – искры от горящей соломы, которые гаснут, когда она сгорает. Поверьте, что Вам суждено занять такую высоту во мнении человечества, куда не досягнет мелочная вражда. Надо только, чтобы Вы ясно сознавали свое предназначение и не пренебрегали им, и это разом освободит Вас от всех докучных тревог, какие причиняют слишком чувствительным умам суждения переменчивой толпы. Сейчас Вы в Италии343 и, быть может, позабыли все, о чем явилась Вам напомнить моя непрошенная забота. Вы созерцаете предметы, которые возвышают, вдохновляют и успокаивают. Чувства, вызванные этим созерцанием, Вы сообщаете человечеству, а быть может, и далеким потомкам. Неужели это мало – надежда рождать великое и доброе, которому суждена, быть может, вечная жизнь? Неужели это мало – стать источником, из которого мысли других людей будут черпать силу и красоту? Неужели этого мало для честолюбия того, кто может презирать всякое иное честолюбие? Вы уже обнаружили дарования необыкновенные. Создав уже столь много и с легкостью, совершенно несоразмерной с результатами, чего не сможете Вы свершить в будущем? Что было бы с человечеством, если бы Гомер или Шекспир ничего не сочинили? Или если бы ложная скромность или заблуждение относительно своего таланта помешали им создать те непревзойденные творения, которые стали для нас таким благодеянием? Я не сравниваю Вас с ними. Мне неизвестно, каких высот мысли Вам суждено достигнуть. Знаю только, что талант Ваш огромен, и он должен развернуться в полной мере.
Не то чтобы я советовал Вам добиваться славы. Побуждения Ваши должны быть более чистыми и простыми. Вы должны лишь стремиться выразить свои мысли; должны искать отклика в тех, кто способен думать одинаково с Вами. Слава последует за теми, кого она недостойна вести за собою. Я не хотел бы, чтобы Вы немедленно принялись за эпическую поэму или иной труд, который потребует сосредоточения всех Ваших сил. Я хотел бы, чтобы ничто не мешало Вашему естественному развитию или торопило его. Я восхищаюсь многим из уже написанного Вами. Я надеюсь еще на многое, созданное с той же свободой и пылкостью чувств. Я надеюсь всего лишь на то, что Вы, когда ясный ум Ваш покажет Вам «истину вещей»344, почувствуете, что Вы из всех людей избраны на великий подвиг мысли; и что с той минуты все Ваши занятия будут вести к одной этой цели; что все Ваши привязанности и все земные надежды, какие Вам остались, будут связаны с этим замыслом. Что именно это должно быть – судить не мне. Однажды я осмелился предложить Французскую революцию как тему, содержащую все наиболее интересное и поучительное для человечества. Но, посвящая себя столь великому свершению, Вы не должны руководиться чьим-либо разумением, кроме Вашего собственного, – а моим менее всего.
Увидим ли мы Вас весной? Как Ваши дела? Не напишете ли мне о них? Хотя я очень хотел бы знать, как обстоит с Вашими имениями, я не побывал у Хенсона345, опасаясь, что мой визит будет неуместен. Сейчас мы все в Бате, здоровы и довольны. Клер пишет Вам, Мэри читает у камина; кошка и котенок спят под кушеткой, и маленький Вилли346 только что уснул. Мы подыскиваем дом в каком-нибудь уединенном месте; и главной радостью, какую мы станем тогда ждать, будет Ваше посещение. Если Вы не сдержите своего обещания, Вы нарушите все наши планы сельской жизни. Более того: из жизненной цепи выпадет тогда звено, которого нам очень будет недоставать – так мы ценим Вас и Ваше общество. Прощайте.
Ваш искренний друг
П. Б. Шелли
Лорду Байрону
Бат, Эбби-Черч-ярд, 5,
20 ноября 1816
Дорогой лорд Байрон!
Мы рады были узнать, что Вы благополучно прибыли в Милан и не оставили мысли побывать весною в Англии. Газеты сообщают, что Вы отправились в Албанию. Но я надеюсь, что сведения, полученные от Вас лично, более достоверны. Бедной Клер подходит время родить, и хотя она чувствует себя не хуже, чем большинство женщин в ее положении, мне кажется, что она пала духом. Она почти утратила давнюю живость и беззаботность, которых Вы в ней, должно быть, и не помните. Я показал ей Ваше письмо, чего не сделал бы, если бы мог предвидеть, в какое состояние оно ее приведет. Я не сомневаюсь, что и Вы этого не ожидали. Но малейшее упущение и самое случайное слово часто ранят человека, больного телом или душою. Все мои заверения, что Вы поступите как должно, были бы излишни; она питает к Вам неограниченное доверие, и, естественно, каждое воображаемое проявление невнимания с моей стороны считает за измену Вам. Едва ли нужно заверять Вас, что и Мэри, и я окружим ее всем необходимым вниманием и заботой. Если Вы не хотите сами писать Клер, пришлите ей несколько добрых слов через меня, а я, принося необходимую жертву предрассудкам, брошу письмо в огонь.
Вы, разумеется, получили известия о волнениях в Англии. Весь общественный порядок находится там в угрожающем состоянии. Самым верным предвестником близких перемен является то значение, какое внезапно приобрела народная партия, а также все более громкие и яростные призывы демагогов. Но народ проявляет разумное спокойствие даже в чрезвычайных обстоятельствах, и реформа может осуществиться без революции. Парламент соберется 28 января; а до тех пор – ибо толпа не совершает насилий, она только собирается, принимает резолюции и петиции, – до тех пор все классы общества будут угрюмо ждать результатов парламентской сессии. Говорят, что налоги нельзя собрать; если так, то не удастся погасить и национальный долг – а разве землевладельцы не обязались его уплатить? Я надеюсь, что без полного переворота, который отдал бы нас в жертву анархии и поставил над нами властителями невежественных демагогов, можно ждать от предстоящей парламентской борьбы самых радикальных изменений в английском политическом устройстве.
Меррей и еще один книгопродавец открыли военные действия в рекламных колонках «Морнинг кроникл». Последний – этакий нахал! – публично утверждает, будто Вы продали ему за 500 гиней право издания нескольких стихотворений. Кстати, Меррей отказался прислать мне на просмотр корректуру Ваших поэм, ссылаясь на то, что Вы, в письме к нему, якобы поручили их исключительно заботам Гиффорда347. Еще не зная этого, я увидел объявление о скором выходе их в свет; а обратившись к Меррею, получил приведенное выше объяснение. Мне было несколько неловко перед Мерреем, когда оказалось, что я хочу взять на себя заботы, которых мне не поручали. Разумеется, я не могу теперь сделать то, что сделал бы со всей тщательностью, – т. е. проследить за правильностью текста, – но не сомневаюсь, что это сделает и мистер Г[иффорд]. Я не уверен, что Меррей не досадует на меня, так как из-за меня переплатил 800 фунтов. «Эдинбургское обозрение» напечатало рецензию на «Кристабель»348 и вынесло о ней весьма неблагоприятное суждение. Там сказано также, что Вы напрасно ее хвалили. По-моему, «Эдинбургское обозрение» столь же мало пригодно судить о достоинствах поэта, как Гомер для составления комментария к ньютоновой системе.
Примите нашу благодарность за интересное описание импровизаторов и миланских достопримечательностей. У нас никаких новостей нет.
Остаюсь, дорогой лорд Байрон, Вашим искренним другом
П. Б. Шелли
Мэри Уолстонкрафт Годвин
Лондон, 16 декабря 1816
Сегодняшний день, любимая, был для меня днем мучительных переживаний, какие неизбежно вызывает зрелище злобы, глупости и жестокосердия. Ли Хант был все время со мной; его нежная и трогательная заботливость, его дружелюбные упоминания о тебе помогли мне перенести ужас этого испытания.
Детей мне еще не отдали. Я повидался с Лонгдиллом, который советует действовать обдуманно и вместе с тем решительно. Мне кажется, он заинтересовался этим делом. Я сообщил ему, что должен жениться на тебе, и он сказал, что в таком случае отпадают все предлоги, чтобы не отдавать детей. Хант с большой деликатностью заметил, что это будет для тебя утешительной вестью. – Да, любовь моя, единственная моя надежда, это будет еще одним из бесчисленных благодеяний, которыми ты меня осыпала, но все же меньшим, чем величайший из этих даров – ты сама, – только благодаря тебе могу я вынести ужас воспоминаний о неслыханных злодеяниях, приведших к этой трагической смерти349.
Завтра мне предстоит узнать от Дессе350, придется ли мне отстаивать свои права на детей. – Меня по крайней мере утешает мысль, что если возникнет спор о детях, он закончится нашим официальным бракосочетанием; и что ты не только подарила мне целый мир истинного счастья, но даже и связанные с этим формальности принесут свою пользу.
По-видимому, несчастная женщина – самая невинная из всего этого семейства чудовищ – была выгнана из отцовского дома и доведена до проституции, пока не сошлась с грумом по фамилии Смит351, а когда он ее бросил, она покончила с собой. – Нет сомнения, что эта мерзкая гадина, ее сестра352, не добившись выгод от родства со мной, довела бедное создание до гибели, чтобы заполучить наследство старика – он находится при смерти. Во всяком случае, все указывает на то, что, хотя я потрясен ужасной гибелью человека, некогда столь мне близкого, мне едва ли есть в чем раскаиваться. Хукем, Лонгдилл, словом, все воздают мне должное, подтверждают, что я вел себя по отношению к ней честно и великодушно, и все в один голос винят омерзительных Вестбруков. Если они осмелятся передать дело в Канцлерский суд, на свет всплывут ужасы, которые покроют их позором.
Что Клер? Я не пишу ей, но тебе я могу сказать, как близко я принимаю к сердцу ее благополучие. Было бы излишне поручать ее твоим заботам. Передай ей мой нежный привет и успокаивай ее, как умеешь.
А успокаивать тебя мне нет надобности. – Я здоров, хотя несколько расстроен и утомлен; но теплое внимание Ханта поддерживает меня больше, чем я в состоянии выразить. А ты, любимая, самая лучшая, – ты ищи успокоения в собственном чистом сердце, в сознании того, как ты мне дорога и сколько для меня значишь, – сколько тебе, быть может, суждено сделать добра. Помни о моих бедных малютках – Ианте и Чарлзе. Какую нежную мать они в тебе найдут! – И милый Вильям353 тоже! Глаза мои полны слез. Завтра напишу еще. Напиши мне большое письмо и ответь Ханту.
П. Б. Шелли

Уильям Шелли (1816–1819) – старший сын Мэри и Перси Биши Шелли, рожденный вне о браке и назван в честь отца Мэри Уильяма Годвина. Многие критики отмечают странность: в романе Мэри Шелли младшего брата Виктора Уильяма убивают. Спустя короткое время после написания романа умер и сын Мэри Уильям. Причиной смерти стала инфекционная болезнь, предположительно, малярия.
Спустя шесть месяцев после смерти Уильяма Мэри родила второго сына, но похоронила мужа
Бежим же со мной, дорогое дитя,
Пусть ветер сорвался, над морем свистя,
Бежим, а не то нам придется расстаться,
С рабами закона нам нужно считаться.
(«Уильяму Шелли». Перси Биши Шелли. Перевод К. Бальмонта
Лорду Байрону
Лондон, 17 января 1817
Я пишу Вам, дорогой лорд Байрон, после того как испытал самые нежданные и тяжкие беды354, и сейчас подвергаюсь опасностям и преследованиям. Однако у меня есть для Вас и добрые вести. Клер благополучно родила прелестную девочку355. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо; о ребенке Мэри говорит, что он великолепно сложен и с первого дня обнаруживает совершенно необычную живость и осмысленность. Впрочем все это, и больше, Вы узнаете из писем Клер.
Моя бывшая жена умерла. Это произошло при обстоятельствах столь ужасных, что я едва решаюсь о них думать. Сестра ее, о которой Вы от меня слышали, несомненно (если не в глазах закона, то на деле) убила ее ради отцовских денег. Поэтому событие, которое я считал для меня безразличным, после гораздо более тяжкого удара356, потрясло меня так, что я не знаю, как я это пережил. Сейчас ее сестра подала на меня в Канцлерский суд с целью отнять у меня моих несчастных детей, ставших мне теперь дороже, чем когда-либо; лишить меня наследства, бросить в тюрьму и выставить у позорного столба за то, что я революционер и атеист. Как видно, живя у меня, она похитила некоторые бумаги, подтверждающие эти обвинения. По мнению адвоката, она, несомненно, выиграет дело, хотя мне, быть может, удастся избегнуть полного разорения в денежном смысле. Итак, меня повлекут перед судилище деспотизма и изуверства и отнимут у меня детей, имущество, свободу и доброе имя за то, что я обличал их обман и бросил вызов их наглому могуществу. Но я не сдамся, хотя мне намекали, что можно купить победу ценой отречения. Я слишком горжусь тем, что избран их жертвой.
Вот неполный перечень моих бедствий (хотя осенью случилось нечто, потрясшее меня гораздо сильнее); я привел его не затем, чтобы Вам докучать или привлекать к ним Ваше внимание, но чтобы сказать, что «я написал бы Вам раньше, не будь я сражен несчастьями, превышающими всякую меру».
В прошлом месяце я неожиданно получил письмо от Вашего друга Ли Ханта, которого после этого навестил. Это отличный и весьма доброжелательный человек. Я мало встречал таких, каким он мне кажется. Он участливо выслушал повесть о преследовании, какому подвергает меня распутная и мстительная женщина357, и теперь помогает мне советом и собственным участием.
Вот все мои новости, дорогой лорд Байрон, кроме этого могу сообщить то, что для Вас уже не новость: что я часто говорю, а еще чаще думаю о Вас; и хотя я не виделся с Вами полгода, меня все еще гнетет собственная незначительность и бессилие, мешающее мне доказать, сколь мне дорого Ваше благополучие. Прощайте.
Преданный Вам П. Б. Шелли
[P. S.] Хант просит Вам кланяться.
Лорду Байрону
Олбион-хауз, Марло, Бэкингемшир,
23 апреля 1817
Дорогой лорд Байрон!
Это письмо отправляется искать Вас по свету, и очень мало вероятности, что это удастся. Ходят слухи, что Вы в Венеции, и утверждают, будто Вы готовитесь к экспедиции в Грецию и Азию. В прошлый раз я писал Вам под впечатлением некоторых горестных событий и в разгаре судебного преследования, которое сейчас уже обрушило на меня свой самый тяжкий удар358, о коем говорить излишне, хотя другому делу – против «Королевы Маб»359 – пока не дан ход. Но все людские беды либо приканчивают свою жертву, либо сами кончаются, и сейчас я, как обычно, спокойно и счастливо живу в доме, который снял неподалеку от Марло.
Однако я пишу Вам не за тем, чтобы рассказывать о себе, но чтобы рассказать о Клер и о маленьком создании, которое мы – не имея еще права дать ей христианское имя, – зовем Альба, т. е. Заря. Она очень красива и, несмотря на некоторую хрупкость сложения, совершенно здорова. У нее самый умный взгляд, какой я когда-либо видел у такого крошечного ребенка. У нее черные волосы, синие глаза и прелестно очерченный ротик. Мы выдаем ее здесь за ребенка наших лондонских друзей, которого отправили в деревню, чтобы поправить здоровье; а Клер – снова на положении девицы. Все эти предосторожности стали сейчас более необходимы, чем когда-либо, так как мы возобновили отношения с Годвином, а это явилось результатом моей женитьбы на Мэри, перемены – если можно считать это переменой, – главной причиной которой было ее желание щадить чувства Годвина. Излишне говорить, что мы пошли на это только ради удобства и что наше мнение о значении этого так называемого освящения союза и обо всех связанных с ним предрассудках остается прежним.
Каковы же Ваши намерения относительно девочки? Мне нечего говорить, что мы с Мэри с удовольствием позаботимся о ней во время Вашего отсутствия и вообще столько времени, сколько Вам будет удобно. Но нам необходимо, чтобы Клер жила с нами; следовательно, всегда может обнаружиться, что ребенок – ее. Нет ничего легче, чем объявить, что так оно и есть и что ребенок – плод тайного брака, заключенного во Франции. Но умные люди говорят, что такое объяснение заставит думать, что он – мой, а при подобном обвинении жители нашей христианнейшей страны не потерпят моего здесь пребывания. Наилучшим выходом из затруднения было бы Ваше скорое возвращение. Мы слыхали, будто в Албании свирепствует чума, и надеемся, что это удержит Вас от поездки в страну, откуда европеец никогда не может твердо рассчитывать возвратиться.
Что касается нашей страны, Вы, конечно, слышали, что министры одержали победу, и никто при этом не роптал, если не считать голодающих, а для их усмирения имеются наемные войска. Кое-чего я, вероятно, не знаю. Мы здесь проводим время с той спокойной размеренностью, которой так приятно наслаждаться, но о которой нечего рассказать. У меня есть мои книги и сад с лужайкой, окаймленной высокой живой изгородью и затененной елями и кипарисами вперемежку с яблонями, которые сейчас цветут. На реке у нас есть лодка, в которой мы совершаем прогулки, когда дни стоят ясные и солнечные, как в последнее время. Можно ли надеяться, что Вы когда-нибудь навестите нас? Клер была бы самой счастливой из нас всех при виде письма от Вас. Сейчас я не сказал ей, что пишу Вам. Мэри просит передать искренний привет, а я остаюсь неизменно преданный Вам
П. Б. Шелли
Лорду Байрону
Марло, 9 июля 1817
Дорогой лорд Байрон!
На днях я был у Роджерса360 по делам, касающимся Ханта, и услышал о Вас, а именно, что Вы ездили в Рим, а сейчас вернулись в Венецию. Первое я узнал уже из сцены в Колизее361 в «Манфреде». Отчего же я ничего от Вас не получал? Сперва я истолковал Ваше молчание благоприятно, как знак скорого возвращения. Это отчасти подтверждается объявлением о продаже Ньюстеда362. Я буду в числе первых, кто будет приветствовать Вас здесь.
Сейчас я пишу единственно чтобы осведомиться о Ваших намерениях относительно маленькой Альбы. Она все еще находится у нас, под вымышленной фамилией. Но это для нас несколько затруднительно. Ее присутствие неизбежно вызывает расспросы. Близится время, когда от наших слуг и гостей уже нельзя будет отделываться отговорками. Здесь в городе живут две весьма достойные молодые особы, которые готовы взять ее к себе, если на это будет Ваше согласие. Тогда Клер сможет ее навещать; и я вынужден посоветовать этот временный выход, если иное решение сейчас для Вас неудобно. Если Вы возвратитесь в Англию осенью или даже зимою, мы сумеем без труда отложить решение вопроса до того времени.
Должен сообщить Вам, что Ваша маленькая дочь здорова и весела. Она очень хорошеет и, хотя для своего возраста миниатюрна, отличается необычайной живостью и понятливостью. Наша женевская няня по целым дням гуляет в саду с ней и с Вильямом; как и его, мы купаем ее в холодной воде.
Вы, вероятно, знаете, что гражданская и религиозная тирания, угнетающая нашу страну, обрушилась и на меня. От этого она не стала для меня ни хуже, ни лучше, ибо всегда была предметом моей безграничной ненависти. Но мне, быть может, придется уехать из Англии. Возможно, что решение Канцлерского суда относительно двух других моих детей будет распространено и на Вильяма. В таком случае я уеду. А что делать тогда с Альбой?
«Манфреда» я прочел с величайшим восторгом. В нем видна та же свобода от признанных правил, что и в III песни «Чайльд-Гарольда» и в «Шильонском узнике»; именно этого не хватало всем Вашим более ранним произведениям, исключая «Лару». Но поэма навеяла на меня глубочайшую грусть; боюсь, что и на других Ваших друзей в Англии тоже. Зачем Вы предаетесь такому унынию? Я слышал, что «Манфред» пользуется огромным успехом; его считают весьма смелым произведением.
У меня здесь бывал Хант, и мы часто говорили о Вас. Хант отличный человек и имеет о Вас весьма высокое мнение.
Как Ваше здоровье – и те решения, от которых оно зависит? Я хотел бы знать, оправились ли Вы от угрожавшего Вам недуга. У меня недавно случился рецидив моей постоянной болезни363, и если Канцлерский суд будет угрожать моему домашнему очагу, я уеду в Италию – искать прибежища от нелепого деспотизма наших законов и одновременно от болезни.
Полагаю, что Клер напишет Вам сама. Мэри шлет сердечный привет.
Искренне Ваш
П. Б. Шелли
[P. S.] Глаза у Альбы синие, а волосы были сперва черные, но те выпали, и теперь мы никак не решим, какого они цвета. Клер говорит, что каштановые. С Вильямом они большие друзья.
Лорду Байрону
Паддингтон, Лиссон-гроув, Норт,
24 сентября 1817
Дорогой лорд Байрон!
После получения Вашего письма я сам находился в такой неопределенности, что ничего не предпринял для девочки. Если удастся, я проведу эту зиму в Пизе и тогда сам буду Львом при этой маленькой Уне364. Если же мне придется остаться в Англии, я поручу ее заботам кого-нибудь, на кого смогу вполне положиться. Здоровье мое очень плохо, так что придется о нем позаботиться, если я не хочу, чтобы дело быстро кончилось смертью. Это событие я обязан отвратить, да и не равнодушен к радостям земной жизни. В качестве лучшего лекарства мне советуют Италию.
Я уже писал Вам365, что я думаю о «Манфреде». На читающую публику он произвел, насколько я могу судить, такое же впечатление. «Жалоба Тассо», мне кажется, не обладает таким совершенством и цельностью. Отдельные места в ней очень впечатляют, а те строки, где Вы описываете чувства юного Тассо366 – смутное предчувствие своего величия, которое гений ощущает среди одиночества и пренебрежения, – полны глубокого и волнующего пафоса, который, должен Вам признаться, всякий раз исторгает у меня слезы восторга. «Эдинбургское обозрение» очень хвалит «Манфреда»367, но гораздо меньше, чем он того заслуживает; ибо эти похвалы хоть и безмерны, а все же заученны и холодны. Вы знаете, что я живу вдали от света и новостей не слышу. Хант, питающий к Вам величайшее уважение и интерес, считает, как и я, что III песнь – лучшее из всего написанного Вами доныне. В некоторых других отношениях его вкус сильно разнится с моим. Ему не нравится «Манфред», не потому, что в нем недостает силы и поэтического воображения, но потому, что он, по его словам, содержит нечто нездоровое. Я сказал бы, что это было заметно в некоторых Ваших ранних сочинениях, но «Манфред» от этого свободен. Все мы с нетерпением ждем IV песни368 и надеемся что-то узнать о прекрасной венецианке.
С тех пор как я Вам писал, Мэри родила мне дочь369. Мы назвали ее Кларой. Маленькая Альба и Вильям, которые очень дружны и разговаривают друг с другом на совершенно непонятном языке, крайне озадачены появлением незнакомки и считают ее очень глупой, потому что она не идет играть с ними на полу.
Этим летом я был всецело поглощен одним трудом. Я написал поэму370, которую пришлю Вам, когда закончу, хотя не хочу испытывать Ваше терпение и заставлять Вас читать ее. Она написана в том же стиле и с той же целью, что и «Королева Маб», но переплетается с повестью о человеческой страсти и отличается большей заботой о чистоте и точности слога и о связи между отдельными частями. Некоторые из друзей отзываются о ней одобрительно, особенно Хант, чье мнение весьма лестно. Она предназначена для печати – ибо я не разделяю Вашего мнения относительно религии и пр., по той простой причине, что не боюсь последствий для себя лично. Преследования я переживаю мучительно потому, что горько видеть порочные заблуждения преследователей. Что касается меня, то хуже смерти мне ничего быть не может; меня могут растерзать на части или предать незаслуженному позору; но умру ли я по воле природы и обстоятельств или за истину, которая, как я верю, принесет большие блага человечеству, – это мне не безразлично.
Я узнал, что Ньюстед назначен к продаже, а покупателя не находится. Так пишут газеты. Неужели Ньюстед нельзя спасти? Мне хотелось бы, чтобы я мог его выкупить.
Клер здорова, но тревожится. Я не сказал ей ничего такого, на что Вы меня не уполномочивали. Мэри оправляется после родов; она одна из многих, включая и меня, кто Вас помнит и уважает.
Искренне Ваш
П. Б. Шелли
Мэри Шелли
[Лондон, Лиссон-гроув 13, Норт,
понедельник, 6 октября 1817]
Моя любимая!
Завтра ты меня не увидишь – постараюсь, если будет возможно, приехать в среду почтовой каретой, если до этого не узнаю от тебя ничего, что может меня задержать.
Милая Мэри, не лучше ли тебе сразу приехать в Лондон? Мне думается, мы распорядимся домом не хуже, если ты будешь в Лондоне – т. е. если вы будете там все. В этом случае я посоветовал бы уложить все книги, которые мы решили взять, в большой ящик и прислать их сюда прежде всего. Я бы тогда запер библиотеку и на первое время оставил в доме кухарку, но сначала повидался бы с Мэдоксом371 и поручил ему за всем присмотреть. Я хочу сказать, что все это сделаешь ты, если согласна на такой план. А если нет, напиши на адрес Лонгдилла немедленно, иначе я не получу твоего письма вовремя. Напиши в любом случае, и если ты не согласна на мое предложение, я приеду в тот же вечер, если смогу; и, во всяком случае, пришлю письмо с той же каретой, а приеду со следующей.
Все говорит за то, чтобы нам ехать в Италию. Здешняя погода очень мне вредна. Я лечусь сам, и за мной очень заботливо ухаживают эти добрые люди. Я думаю о тебе, моя любимая, и до мелочей забочусь о своем здоровье. Сегодня я мучаюсь желудком, и у меня болит бок; очевидно, наступит облегчение, но сегодня весь день мешает выйти из дому. Из-за этого я отложил встречи с Лонгдиллом и Годвином, перенеся их на завтра. Я занял у Хорейса Смита372 250 фунтов, они сейчас у моего банкира.
Самая дорогая и лучшая на свете, как радуют меня твои письма, когда я далеко от тебя. – Сегодняшнее принесло мне величайшую радость. Ты пишешь с таким спокойствием и силой, так утешительно – это почти как если бы я тебя обнимал.
Итак, завтра я не приеду, любимая, но послезавтра непременно, если ты так решишь.
Если же ты приедешь, надо будет снять квартиру попросторней.
Я не забуду ни одного из твоих поручений.
Поцелуй всех малышей. Бедный маленький Вильям, отчего он так мерзнет? И Альбу поцелуй, и Клару.
Передай мой нежный привет Клер и скажи, что я предлагал ее книгу373 Лекингтонам, а также Тейлору и Хесси374, но они ее отклонили.
Сегодня мне трудно писать, но завтра будет лучше. Прощай, моя единственная любовь, целую много раз твои милые губы.
П. Б. Ш.
Вильяму Годвину
Марло, 7 декабря 1817
Дорогой Годвин!
Начну с самого важного – договаривайтесь поскорее с Ричардсоном375. Если б я мог считать, что он действительно это предлагает, каким облегчением это было бы для меня после стольких тревог! – От Лонгдилла ничего нет, хотя я настойчиво просил его известить меня.
Здоровье мое заметно ухудшилось. Иногда я чувствую какое-то оцепенение, иногда, наоборот, бываю столь сильно возбужден, что – если приводить в пример хотя бы только зрение – каждая травинка и каждая отдаленная ветка видятся мне резко, точно в микроскоп. К вечеру я ощущаю страшную вялость и часто подолгу лежу на софе между сном и бодрствованием, в каком-то мучительном душевном раздражении. В таком состоянии я нахожусь почти беспрерывно. Для работы я с трудом нахожу промежутки времени. Однако не это побуждает меня ехать в Италию, даже если я найду там облегчение. Дело в том, что у меня был приступ несомненно легочной болезни, и хотя сейчас он миновал почти бесследно, но ясно показал, что в основе моей болезни лежит туберкулез. Хорошо еще, что этот недуг обычно развивается медленно, и если за ним следить, то теплый климат может принести излечение. Если он примет более острую форму, поездка в Италию станет моим немедленным долгом; я поеду только в случае необходимости; этого не хотелось бы ни Мэри, ни мне, из-за Вас. Но едва ли нужно напоминать Вам, что моя смерть, помимо горя, причиняемого близким, имела бы ряд нежелательных следствий. Я потому пишу об этом столь подробно, что Вы, очевидно, неверно меня поняли. В Италию я поехал бы не ради здоровья, но ради самой жизни, и притом не для себя – я способен побороть подобное слабодушие, – но ради тех, кому моя жизнь нужна для счастья, полезной деятельности, покоя и чести и у кого моя смерть могла бы отнять все это. Кроме того, я не могу долее питаться мясом.
То, что Вы пишете о Мальтусе, придает мне новые духовные силы. Я призываю то время, когда Вы дождетесь спокойного и независимого положения. Но когда я думаю о том, сколько света Вы проливаете над миром и каким благом для нового поколения было бы, чтобы этот свет достигал их беспрепятственно, не омраченный ни единой тенью, – когда я так думаю, я поднимаюсь над всеми мыслями о Вас и о себе как личностях и ощущаю себя всего лишь частицей бесчисленных далеких умов, которым необходимы Ваши книги.
Я намеревался писать Вам только о «Мандевиле», но при моей слабости и раздражительности не смог этого, хотя мне казалось, что имею много что сказать. Я прочел «Мандевиля», но должен его перечесть. Ибо он настолько захватывает, что читатель, увлекаемый, точно облако, гонимое вихрем, не имеет времени оглянуться и понять причину стремительного движения. Я нахожу, что «Мандевиль» по своей силе может сравниться с лучшими Вашими творениями, исключая лишь образ Фокленда; и что нигде так не проявилась творческая мощь, которой Вы наделены более всех современных писателей. Фокленд, однако, остается непревзойденным; в отличие от Мандевиля – мятежной души, увлекаемой бурей, – Фокленд – это Спокойствие, неколебимое посреди ее неистовства! Но вообще «Калеб Вильямс» так не потрясает душу, как «Мандевиль». Надо сказать, что в этом последнем Вы правите железной рукой.
В картине отсутствуют светлые краски; и непонятно, откуда берете Вы мрак, чтобы так сгустить на ней тени, что слова «десятикратная ночь» перестают быть метафорой. Слово Smorfia376 затрагивает какую-то струну со столь жестокою силой, что я содрогнулся, и мне на мгновение почудилось, будто Мандевиль – это я сам, и его чудовищная усмешка отражается на моем собственном лице.
По красоте слога и силе изображения «Мандевиль» истинно велик; и мало что может сравниться с ним в красоте и энергичности чувств. Образ Клиффорда представляет собой великолепный и утешительный контраст; ни у кого, за исключением, может быть, Платона в речи Агатона из «Пира» (да и то я не уверен), не находим мы более возвышенных нравственных размышлений, воплощающих все самое прекрасное и высокое в природе человека, чем в речи Генриетты, обращенной к Мандевилю после приступа безумия. – Сказать ли Вам? Когда оказалось, что она при этом втайне молила за своего возлюбленного, а потом покинула – малодушно покинула несчастного Мандевиля, у меня невольно сжалось сердце.
Прощайте.
Неизменно любящий Вас
П. Б. Ш.
P. S. В другой раз мы поговорим о том, что горячо интересует и Мэри и меня, – о Вашем Вильяме377,

Миранда и буря.
Художник – Джон Уильям Уотерхаус
Расцвет творчества художников-прерафаэлитов, к которым обычно относят творчество Джона Уотерхауса, обычно связывают с нарастающим в обществе интересом к готическим романам и, в частности, к роману Мэри Шелли. Многие исследователи усматривают в женских образах прерафаэлитов образ самой писательницы
Лорду Байрону
Марло, 17 декабря 1817
Дорогой лорд Байрон!
С тех пор как я писал Вам, я каждую неделю ожидал, что должен буду уехать из Англии, а в таком случае я сам привез бы Вам Вашу дочь. Но дела мои были в столь неопределенном положении, что лишь теперь, после стольких промедлений, было решено, что я останусь в Англии. Как только это выяснилось, я стал искать надежного человека, которому мог бы доверить маленькую Альбу. Но это оказалось непреодолимой трудностью. Вы понимаете, насколько тщательно следовало выбирать, и знаете, как уединенно мы живем. Это помешало мне найти подходящего человека. Поэтому я пишу, чтобы спросить, – быть может, Вы что-то предложите? Нет ли у Вас доверенного лица или друга, который собирается из Англии в Италию? У Вас множество влиятельных и преданных Вам друзей, и любой из них мог бы позаботиться, чтобы она была благополучно доставлена Вам, если Вы пожелаете. Я прошу лишь об одной предосторожности – чтобы имя Клер при этом не упоминалось.
Маленькая Альба, или Клара, как она теперь будет называться, удивительно хороша, а ее характер утратил в значительной степени свою vivacité378 и стал ласковым и мягким. Она – подруга игр Вильяма, который так ее любит, что будет одним из многих, кто станет оплакивать ее отъезд. Они вместе сидят на полу и часами играют удивительно дружно. Большую часть изюмин и всего прочего, что ему дают, Вильям кладет ей в рот. Клер хочет окрестить ее и дать ей свое имя379, но откладывает этот важный обряд, пока я не узнаю, не предпочитаете ли Вы какое-либо другое имя.
От такого отшельника и инвалида, как я, Вы не можете ждать новостей. Однако я намерен скоро (этак через неделю) послать Вам стопку книг, которые говорят сами за себя; если окажется, что они благополучно минуют запрет, я вложу также несколько газет. Моя большая поэма под заглавием «Восстание Ислама» сейчас печатается. Кроме того, Вы получите «Мандевиль» Годвина – демоническое подобие Чайльд-Гарольда Первого – и еще две-три новые книги.
Надо ли говорить, что мы будем очень счастливы узнать, как Вы живете и что делаете – все еще влюблены – разлюбили – или влюбились снова. Право, если бы Вы знали, как много думают о Вас некоторые из Ваших английских друзей, я не уверен, что Вы стали бы так строго придерживаться старого правила: periturae parcere chartae380, пока Вы не склонны щадить тех, кого Ваш гений может увековечить…
Мы уже слышали о IV и последней песни381, но еще не видели ее.
Прощайте, дорогой лорд Байрон.
Искренне Ваш
П. Б. Шелли
Томасу Лаву Пикоку
Милан, 6 апреля 1818
Дорогой Пикок!
Вот мы и добрались до цели нашего путешествия – точнее, находимся в нескольких милях от нее, ибо думаем провести лето на берегу озера Комо. Путь наш был нелегок из-за холодов и не отмечен ничем интересным, пока мы не перевалили через Альпы, – кроме, разумеется, самих Альп; но едва мы прибыли в Италию, как красота местности и ясное небо сразу все изменили для меня, – вот что необходимо мне, чтобы жить, ибо в дымных городах, среди шумных толп и холодных туманов и дождей нашей родины мое существование едва ли можно назвать жизнью. – С каким восторгом я слушал в Сузе, как женщина, показавшая нам триумфальную арку Августа, говорила на ясном и полнозвучном языке Италии, хотя я лишь с трудом понимал ее после гнусавой и отрывистой какофонии французов! Руины великолепной арки в греческом стиле на зеленом лугу, испещренном фиалками и примулами, на фоне огромных гор, грациозная блондинка, несколько напоминающая Еву Фюзели382, – вот первое, что мы увидели в Италии.
Город очень приятен. – Вчера мы посетили оперный театр, выстроенный с большим великолепием. Сама опера была не из числа популярных, а певцы много хуже наших. Зато балет, или, вернее, род мелодраматической пантомимы с танцами, оказался лучшим зрелищем, какое мне довелось видеть. Здесь нет мисс Миллани383, но в остальном Милан, без сомнения, нас превосходит. Выразительный жест, законченность сцен, отлично выражающих содержание, простая, естественная манера держаться, отличающая всех актеров, даже детей, делали представление более впечатляющим, чем я мог ожидать. Это был «Отелло»384, и, странно сказать, он не оставил тяжелого впечатления.
Хотя я и пишу, но сейчас писать не расположен; более подробных, если не более занимательных, писем ждите примерно через неделю, когда я немного отдохну с дороги. Прошу сообщать нам все новости, как о наших детищах, оставленных в Англии на попечение нянек, так и о детях наших друзей. Сообщайте также о Коббете и о политике, – о Ханте, которому Мэри как раз сейчас пишет, и особенно о Ваших планах, о себе и Марианне. Обо мне и моих планах Вы скоро узнаете. Здоровье мое уже лучше – настроение тоже, у меня множество литературных замыслов, особенно один385, к которому жажду приступить, как только мы устроимся.
Я поручил Оллиеру послать Вам для правки несколько листов корректуры386.
Прощайте.
Неизменно преданный Вам
П. Б. Ш.
Р. S. Мэри и Клер шлют поклон.
Лорду Байрону
Милан, 13 апреля 1818
Дорогой лорд Байрон!
Я пишу прежде всего затем, чтобы справиться, получили ли Вы мое письмо из Лиона, и чтобы сообщить, что Ваша маленькая дочь прибыла сюда здоровая и веселая, а глаза ее синеют, как небо над нашей головой.
Мы с Мэри только что вернулись с озера Комо, где искали дом на лето. Если Вы не бывали в этих удивительных местах, мне кажется, они этого стоят. Не хотите ли летом провести несколько недель с нами? Мы ведем размеренную жизнь, как в Женеве, а местность, которую мы, кажется, выбрали, – Вилла Плиниана – уединенная; мы окружены величавыми ландшафтами, а у наших ног лежит озеро. Если бы Вы нас навестили – а я не знаю, где Вы могли бы найти более сердечный прием, – Вы увезли бы с собой маленькую Аллегру.
Мы с Мэри шлем Вам лучшие пожелания, а Клер просит меня спросить, получили ли Вы прядь волос Аллегры, которую она послала Вам зимой.
Искренне Ваш, дорогой лорд Байрон,
П. Б. Шелли
P. S. Я получил для Вас несколько книг в одном ящике с моими. Не переслать ли их в Венецию?
Томасу Лаву Пикоку
Милан, 20 апреля 1818
Дорогой Пикок!
Я не представлял себе, какая даль нас разделяет, – если мерить ее временем, за которое доходят письма. Только сейчас я получил Ваше от 2-го и не знаю, когда Вы получите мое, посланное отсюда несколько позже. Я огорчен тем, что Вы были вынуждены остаться в Марло, ибо общение составляет почти жизненную необходимость; особенно потому, что мы не увидим Вас нынешним летом в Италии. Но тут, как видно, ничего не поделаешь. Я часто переношусь мыслями в Марло. Проклятие нашей жизни состоит в том, что все познаваемое познается навсегда. Живешь в местности, которая до твоего приезда туда была для тебя так же безразлична, как любое другое место на земле; а когда приходится ее покинуть, это оказывается невозможным; она держит тебя воспоминаниями о событиях, которые, когда ты их переживал, не обещали быть вечными, и таким образом мстит тебе за неверность. Время идет, места меняются, иных друзей уже нет с нами, но то, что было, еще как бы существует, только оцепенелое и безжизненное. Вот извольте – написал Вам целый этюд для «Аббатства кошмаров».
После моего предыдущего письма мы побывали в Комо, в поисках жилья. Озеро превосходит красотою все виденное мною до сих пор, за исключением рощ земляничного дерева в Килларни, на островах. Озеро – длинное и узкое и кажется огромной рекой, вьющейся между гор и лесов. Из городка Комо мы отправились на паруснике в местность, называемую Тремезина, и повидали другую часть озера. Горы между Комо и этим селением, вернее, группой селений, поросли каштаном (съедобным каштаном, которым жители питаются в неурожайную пору); местами этот лес спускается к самому берегу озера, нависая над водой своими мощными ветвями. Но чаще на берегу растет лавр, мирт, дикие фиги и маслины; подымаясь из расселин скал, они осеняют устья пещер и края глубоких ущелий, где сверкают водопады. Растут там и другие цветущие кустарники, названия которых мне неизвестны. Среди темной зелени леса белеют колокольни деревенских церквей. На противоположном берегу горы сходят к озеру менее круто; и хотя они там гораздо выше и кое-где покрыты вечными снегами, между ними и озером тянутся более низкие холмы, перемежаясь с ущельями; такими я воображаю себе склоны Иды или Парнаса.
Здесь находятся плантации маслин, апельсиновых и лимонных деревьев, которые сейчас так осыпаны плодами, что не видно листьев; есть также и виноградники. По этому берегу сплошь тянутся селения, а миланская знать имеет тут виллы. Роскошная и буйная природа столь тесно соприкасается здесь с цивилизацией, что граница между ними почти незаметна. Но всего красивее Вилла Плиниана, названная так потому, что во дворе находится описанный Плинием Младшим387 источник, который переполняется водою через каждые три часа. Этот дом, некогда великолепный, а сейчас наполовину развалившийся, мы и пытаемся снять. Вместе с садом он размещается на террасах, подымающихся со дна озера, у подножья крутого откоса, выгнутого полукругом и поросшего густым каштановым лесом.
Вид с колоннады – самый удивительный и прекрасный, какой когда-либо представлялся взору. С одной стороны виднеются горы, а ближе – купы необычайно высоких кипарисов, словно пронзающих небо. Сверху, прямо из поднебесья, низвергается большой водопад, разделенный скалами на множество ручьев, сбегающих в озеро. По другую сторону раскинулось среди гор озеро; на горах белеют шпили, на озере – паруса. Комнаты в Плиниане огромные, но старинные и почти не обставленные. И поистине великолепны террасы над озером, затененные огромными, подлинно пифическими лаврами. Мы провели в Комо два дня, а сейчас вернулись в Милан, ждать исхода наших переговоров о доме.
Комо находится всего в 6 лье от Милана, и его горы видны с вершины собора. Этот собор – удивительное произведение искусства. Он выстроен из белого мрамора и состоит из высочайших шпилей очень тонкой работы, богато украшенных скульптурой. Вид белоснежных башен, взмывающих ввысь на фоне глубокого и ясного итальянского неба, или при луне, когда гроздья звезд словно увенчивают их резные верхушки388, превосходит все, что я считал возможным для архитектуры. Внутри собор великолепен, но это уже нечто более земное; цветные витражи, массивные гранитные колонны, перегруженные старинной скульптурой, у бронзового алтаря – серебряные неугасимые лампады под черным балдахином, и мраморная резьба купола делают его похожим на роскошную гробницу. В одном из приделов, за алтарем, есть укромное место, освещенное тусклым желтоватым светом, – его я избрал, чтобы читать там Данте.
Это лето и будущий год я хочу посвятить сочинению трагедии о безумии Тассо; тема, если поразмыслить, – и драматичная, и поэтическая. – Вы скажете, что я лишен таланта драматурга. В известном смысле это так; ну что ж, я решил посмотреть, какую трагедию способен создать человек, лишенный таланта драматурга. Во всяком случае, мораль в ней будет получше, чем в «Фацио», а стихи – получше, чем в «Бертраме»389.
Вы ничего не пишете о «Рододафне»390, которая должна, по-моему, иметь огромный успех.
Кто живет сейчас в моем доме в Марло и как им думают распорядиться? Я уверен, что его местоположение было вредно моему здоровью, иначе я до смешного интересовался бы, к кому он теперь перейдет. Поездка туда обошлась нам дорого, – но сейчас мы живем в здешней гостинице, на пансионе, по весьма умеренной цене, а когда заведем свое хозяйство, то надеемся убедиться в пресловутой итальянской дешевизне. Лучший хлеб, из просеянной муки, самый белый и вкусный, какой мне приходилось есть, стоит всего один английский пенни за фунт. Остальные необходимые продукты так же дешевы. Зато предметы роскоши, например чай и другие, очень дороги, – а англичан к тому же обычно отчаянно надувают, так что им надо быть начеку. Мы здесь ни с кем не знакомы, а в опере до вчерашнего дня давали все время одно и то же. Маленькая Альба еще у нас, но, очевидно, ненадолго. Лорд Байрон, как мы слыхали, снял в Венеции дом на три года; не знаю, увидим ли мы его; это отчасти зависит от того, найдем ли мы дом, куда его можно пригласить. Проезжающих англичан здесь множество. В нынешнее смутное время им лучше было бы сидеть дома. Поведение их непростительно. Здешние жители безобидны, но кажутся жалкими и телом, и душою. Мужчины мало походят на мужчин; это – племя тупых, сгорбленных рабов. С тех пор, как мы перевалили через Альпы, я, кажется, не видел проблеска разума ни на одном лице. Женщины в порабощенных странах всегда лучше мужчин; но здешние туго зашнурованы, и лицом и всем своим видом (как непохоже на француженок!) являют смесь кокетства и чопорности, напоминающую худшие черты англичанок. Кроме людей, все здесь гораздо лучше, нежели во Франции. Чистота и удобства в гостиницах иной раз совсем английские, земля хорошо возделана; словом, если Вы способны, как и следует, находить счастье в самом себе, здесь можно жить отлично и удобно.
Прощайте. Мэри и Клер шлют сердечный привет.
Ваш любящий друг
П. Б. Ш.
Клер хочет, чтобы Вы написали историю мадемуазель Миллани. Мэри просит в летней посылке прислать булавок, сургуча, щетку для ногтей, такую, как у миссис Хант, и черепаховый гребень шириной в 3 дюйма, с зубьями в 2 дюйма.

Джон Гордон Байрон во время своего путешествия в Италию.
Художник неизвестен. 1820-е гг.
Лорду Байрону
Милан, 22 апреля 1818
Дорогой лорд Байрон!
Клер сама подробно напишет Вам о том, какими чувствами и побуждениями она руководится, расставаясь, по Вашему желанию, с Аллегрой. Как мать, она имеет больше прав вмешиваться, чем я, который всегда руководствовался лишь искренней дружбой ко всем заинтересованным лицам. На этом я мог бы кончить письмо, но не хотел бы, чтобы на этом кончилось дело.
Вы пишете так, словно с момента отъезда всякая связь между Клер и ее ребенком должна прерваться. Я не верю, чтобы Вы могли этого ожидать или даже хотеть. Будем судить по себе: если отцовское чувство столь сильно, каковы же должны быть чувства матери? И что подумаем мы о женщине, которая отдает малолетнего ребенка с тем, чтобы никогда больше его не видеть, хотя бы и отцу, на чью любовь она вполне полагается? Если она принуждает себя к этой жертве ради блага ребенка, то в таком подавлении самого сильного из всех чувств, самого неутолимого из инстинктов есть нечто героическое. Но свет будет судить иначе; он заклеймит ее презрением, как бессердечную мать, и это сделают даже те, кто не был бы склонен осудить ее, когда она стала матерью без брачных формальностей. Она откажется от единственного своего сокровища, а взамен получит всеобщее презрение. К тому же она может спросить: «Как поверить, что отец будет нежен к ребенку, когда он так мало посчитался с чувствами матери?» Не говоря уж о том, что ребенок будет расти, не зная или презирая одного из своих родителей; а это чревато большими опасностями. Я знаю, какие доводы у Вас готовы; но, право же и знатность, и репутация, и благоразумие – ничто по сравнению с правами матери. Если узнают, что Вы хотели их попрать, свет действительно заговорит о Вас, и с таким осуждением, что Вашим друзьям не удастся Вас оправдать; это будет нечто совсем иное, чем нелепые, фантастические россказни, которые распространяют о каждом выдающемся человеке и которые лишь заставляют Ваших друзей в Англии потешаться над изобретателями этих сплетен. Уверяю Вас, дорогой лорд Байрон, что говорю искренне и серьезно. Я вовсе не стараюсь выступать адвокатом Клер; это, как Вы должны бы знать, отнюдь не в моих интересах. Не пытался я и влиять на нее. Я считал своим долгом предоставить ее собственным ее чувствам, ибо это тот случай, когда только чувства дают какие-либо права. Но если Вы хотите, чтобы она согласилась расстаться со своим ребенком, ее нужно успокоить и утешить. Столь близкую к сердцу связь нельзя рвать грубо. Именно поэтому (хотя у меня тысяча других причин желать Вас видеть) я надеялся, что Вы примете наше приглашение на Виллу Плиниана. Если бы Клер увидела своего ребенка с Вами, это смягчило бы ее боль и рассеяло бы страхи, которые от Вашего письма пробудились вновь, так как позволило бы надеяться, что посещение может быть повторено. Ваше теперешнее поведение представляется мне очень жестоким, какие бы оправдания Вы для себя ни находили. Если ошибаться, то лучше в сторону излишней доброты, чем излишней суровости. В данном случае Вы можете вовремя остановиться; и не так уж Вы слабодушны, чтобы ласковые слова и мягкое обращение завели Вас дальше, чем Вы того хотите.
В этом мучительном споре я являюсь третьим лицом, которое в своей незавидной роли посредника не может иметь иных интересов, кроме интересов главных действующих лиц. Я не имею возможности что-либо сделать сам, но очень хотел бы убедить.
Вам известны мои побуждения, поэтому я не боюсь снова звать Вас к себе в Комо и просить, ради благополучия Вашего ребенка, чтобы Вы успокоили оскорбленные чувства Клер некоторыми заверениями. Насколько я ее понял, получив эти заверения, она отдаст ребенка. Быть может, Вы боитесь, что она станет Вам докучать; но первой ее мыслью при чтении Вашего письма (которое я, кстати, не хотел ей давать) было поселиться на время где-нибудь в городе, en pension391, раз Ваш приезд требует ее отсутствия. А что касается сплетен – если Вы придаете им значение, – то едва ли в Комо могут сплетничать больше, чем в Венеции. Вы не представляете себе нелепости, которые повторяет о Вас толпа, но над которыми смеются все разумные люди и все наши просвещенные соотечественники. Таков общий удел тех, кто возвысился над людьми. Когда Данте проходил по улицам, кумушки говорили, указывая на него: «Вон тот, кто побывал в аду с Вергилием, глядите, у него ведь и борода обожжена». Рассказы иного рода, но столь же неправдоподобные и чудовищные, распространяют о Вас в Венеции; только я не понимаю, зачем Вам обращать на них внимание. У нас Вы будете желанным гостем; а раз все мы будем, или можем быть, безвестны, никакая клевета не найдет тут лазейки.
Если Ваш посланец прибудет раньше, чем Вы с Клер придете к соглашению, я задержу его в ожидании Ваших распоряжений, если только Вы не распорядитесь специально, чтобы он не задерживался. У Аллегры няня-англичанка, очень чистоплотная и добродушная молодая женщина, которую я спокойно могу Вам рекомендовать, если эти прискорбные разногласия наконец кончатся.
Расходы, о которых Вы говорите, были в нашем семейном бюджете столь ничтожны, что я не знаю, какую сумму назвать, чтобы не оказаться с прибылью, а этого я допустить не могу. Позвольте мне просить Вас не ставить меня в столь унизительное положение и не заниматься подобными подсчетами.
Я уверен, что Вы правильно поймете серьезность, с какою я пишу Вам на эту неприятную тему; и верьте, дорогой лорд Байрон, что мне очень дороги Ваши интересы и Ваша честь.
П. Б. Шелли
Аллегра с каждым днем хорошеет, но сейчас нездорова – у нее режутся зубки.
Лорду Байрону
Милан, 28 апреля 1818
Дорогой лорд Байрон!
Мне доставило большое удовольствие самому привезти Вашу маленькую дочь в Италию, ибо я не мог найти никого, кому можно было бы это доверить; но цель моего путешествия, к сожалению, с этим никак не связана. Мое здоровье всегда было слабым, но появились такие симптомы, что врачи посоветовали мне немедленно ехать в более теплые края. Позвольте мне также снова заверить Вас, что к последним поступкам Клер в отношении ребенка я не причастен и никак на них не влиял. Переписку, которая повела к этим недоразумениям, я взял на себя единственно потому, что Вы отказались сами переписываться с Клер. Моя позиция в этом вопросе была простой и ясной. Я сожалею, что неверно понял Ваше письмо, и надеюсь, что с обеих сторон недоразумения на этом кончатся.
Вы найдете Вашу маленькую Аллегру вполне здоровой. По-моему это самый прелестный и обаятельный ребенок, какого я когда-либо видел. Напишите нам, как Вы ее найдете и не обманула ли она Ваших ожиданий.
С ней едет не та няня, о которой я писал в предыдущем письме; эта – швейцарка, которая ходила за моими детьми, которой миссис Шелли всецело доверяет и которая покидает нас неохотно; а Мэри расстается с ней единственно для того, чтобы Клер и Вы могли быть уверены, что Аллегре обеспечена почти материнская забота.
Клер, как Вы можете себе представить, очень страдает. Так как Вы ей не писали, у нас вошло в обыкновение показывать ей Ваши письма ко мне: а Вы знаете, что иногда пишете такие вещи, которые едва ли сказали бы ей прямо. Осторожность в этом отношении нисколько бы Вас не скомпрометировала; раз Вы не пишете ей самой, я не могу отказываться показывать ей Ваши письма. Тех, что она писала Вам, я не видел, а часто даже не знал, когда она их посылала.
Ваши книги Вы получите. Хант посылает Вам свою только что вышедшую в свет, а мне поручено одной Вашей старой приятельницей послать Вам «Франкенштейна» с просьбой сохранить имя автора в тайне, даже если Вы его угадаете. Дело в том, что автор – миссис Шелли. В Англии книга имела изрядный успех; но она велит сказать, что «Ваше одобрение сочтет более лестным».
Следующее Ваше письмо адресуйте «Пиза, до востребования», так как мы завтра туда уезжаем. Наш дом в Комо не оправдал наших надежд, а в Пизе я попытаюсь рассеять печаль Клер и для этого воспользуюсь некоторыми рекомендательными письмами. Клер безутешна, и я не знаю, чем ее успокоить, пока не придет обратная почта. Надо сказать, что мы будем в Пизе задолго до обратной почты, а с ней мы ждем (и очень просим не обмануть наших ожиданий) Вашего письма, которое известит о благополучном прибытии нашей маленькой любимицы392. Мэри, как и я, шлет Вам привет и тревожится о маленькой Аллегре, которую привыкла любить почти как собственных детей.
Покаюсь, что позабыл взять вторую часть «Путешествия в Корею»393 и поэму «Беппо»394, которые мне прислал для Вас Меррей. Летом Пикок будет посылать мне книги, а вместе с ними пришлет и эти. У нас Элиза395 получала жалованья 20 луи.
Всегда искренне Ваш, дорогой лорд Байрон,
П. Б. Шелли
Томасу Лаву Пикоку
Ливорно, 5 июня 1818
Дорогой Пикок!
Мы ничего не получаем от Вас с середины апреля – т. е. после нашего отъезда из Англии получили всего одно письмо. Это, несомненно, означает, что какие-то письма не дошли. Адресуйте их теперь мистеру Гисборну в Ливорно – и я их получу, быть может, кружным путем, зато наверняка.
Мы уехали из Милана 1 мая и через Апеннины добрались до Пизы. – Эта часть Апеннин куда менее красива, чем Альпы; горы дики, ландшафт какой-то неопределенный – и воображению здесь негде приютиться. Равнины вблизи Милана и Пармы прекрасны; это сплошной сад, возделанный луг; злаки и луговые травы растут под большими деревьями, соединенными гирляндами виноградных лоз.
На седьмой день мы прибыли в Пизу, где провели три-четыре дня; это большой и неприветливый город, почти безлюдный. Потом мы приехали в здешний большой торговый город, провели здесь месяц, а через несколько дней уедем в Баньи-ди-Лукка, нечто вроде курорта в Апеннинах; природа вокруг него прекрасна.
Мы познакомились с очень приятной и образованной дамой, миссис Гисборн; это единственное, что есть хорошего в этом крайне непривлекательном городе. Мы не думали оставаться здесь на месяц, но она сделала наше пребывание даже приятным. Итальянское общество стоит, видимо, немногого. Мы увидим его в Баньи-ди-Лукка, куда ездит наиболее фешенебельная публика.
Когда будете отправлять посылку – которую прошу адресовать мистеру Гисборну, – хорошо бы вложить туда две последние части «Путешествий» Кларка, где идет речь о Греции; это – книги Хукема. Как Вы знаете, я там подписчик396. Хотел бы также выписывать сюда «Экзаминер». Буду признателен, если Вы, после того как прочтете сами, будете еженедельно посылать его по указанному адресу, подрезав так, чтобы он поменьше весил. Пришлите также наше белье, оно у миссис Хант и крайне нам нужно. Пришлите все, кроме бумажных простынь. Если их не окажется у миссис Хант, значит они на нашей последней лондонской квартире.
Пишу, и мне кажется, что письмо так и не дойдет.
Самые лучшие пожелания от нас всех.
Искренне Ваш
П. Б. Ш.
Томасу Лаву Пикоку
Баньи-ди-Лукка, 25 июля 1816
Дорогой Пикок!
Получил сразу Ваши письма от 5-го и от 6-го, одно – посланное в Пизу, другое – в Ливорно; оба были мне очень приятны.
Наша здешняя жизнь так же бедна внешними событиями, как если б мы жили в Марло, где поездка вверх по реке или в Лондон составляет целое событие. Со времени моего последнего письма я дважды побывал в Лукке, раз вместе с Клер и раз – один; мы были в казино, где я не заметил ничего примечательного; женщины лишены всего, что самый снисходительный наблюдатель мог бы назвать красотой или грацией, и, видимо, не искупают этого никакими умственными достоинствами. Оно, пожалуй, даже и лучше, ибо танцы, в особенности вальс, до того восхитительны, что были бы несколько опасны для нас, пришельцев с далекого севера, и наших только что размороженных чувств. Ну, а так опасности нет – разве что в темноте. Погода здесь, в отличие от остальной части Италии, бывает облачная; среди дня собираются тучи, иногда приносящие грозу и град величиной с голубиное яйцо; к вечеру все стихает, и остается лишь легкая дымка, какая бывает в английском небе, да стаи пушистых, медленно плывущих облаков, которые на закате исчезают; ночи всегда ясны, а вечером на восточном небосклоне мы видим звезду – кажется, это Юпитер, – почти столь же прекрасную, как была прошлым летом Венера; но ей не хватает легкого серебристого блеска, нежной и вместе волнующей красоты, которые отличают Венеру, – должно быть, потому, что она и богиня, и женщина. Я забыл спросить у дам, не производит ли на них подобного действия Юпитер. Я с наслаждением слежу за всеми этими переменами в небе. По вечерам мы с Мэри часто ездим верхом, так как лошади здесь дешевы. Днем я купаюсь в лесном водоеме, образованном течением ручья. Он окружен со всех сторон отвесными скалами, а с одной стороны в него низвергается водопад. На окружающих скалах растет ольха, а еще выше – огромные каштаны, которые четко вырисовываются на густой синеве неба своими длинными остроконечными листьями. Вода в этом водоеме – который, если перефразировать стихи, имеет «шестнадцать футов в длину и десять – в ширину» – прозрачна, как воздух; камешки и песок на дне его словно дрожат в полуденном свете. Но она необыкновенно холодна. Я раздеваюсь, сажусь на камень и читаю Геродота, пока не остыну, а затем прыгаю с камня в воду – что в жару очень освежает. Река вся состоит из чередующихся бочагов и водопадов, и во время купанья я иногда забавляюсь тем, что взбираюсь вверх по ее течению, с трудом карабкаясь по мокрым скалам, а она обдает брызгами все мое тело.
В последнее время я чувствовал себя совершенно не способным к оригинальному творчеству. Поэтому по утрам я занимался переводом «Пира» и закончил его за десять дней. Сейчас Мэри его переписывает, а я пишу вступительную статью. Я почти ничего не читаю, кроме греков, и немного – итальянскую поэзию, вместе с Мэри. Мы с ней прочли Ариосто – чего я не смог бы снова проделать сам.
«Франкенштейн» был, кажется, хорошо принят; правда, ему повредили недружелюбные рецензенты из «Куотерли»397, но это лишь доказывает, что его читают, и им трудно, сохраняя видимость беспристрастия, совершенно отрицать его достоинства. Их заметка обо мне, разоблачающая подлинные причины, которые побудили их оставить мою книгу незамеченной, показывает, что между нами существует открытая вражда.
Вести о результатах выборов, особенно в столице, весьма ободряющие. Я получил письмо398, помеченное двумя днями позже Вашего, извещающее об их неудачном исходе в Уэстморленде. Жаль, что Вы не прислали мне выдержек, содержащих примеры поразительной подлости этих отступников. Каков гнусный и жалкий негодяй Вордсворт399. И чтобы такой человек мог быть таким поэтом! Я могу сравнить его только с Симонидом400 – льстецом сицилийских тиранов и одновременно самым безыскусственным и нежным из лирических поэтов.
Как я был бы рад, если б мог на крыльях воображения преодолеть разделяющее нас расстояние и очутиться среди вас. Я ничего не знаю более прекрасного в своем роде, чем Вирджиния-уотер. Мои воспоминания все еще с нежностью льнут к Виндзорскому лесу и к рощам Марло, подобно низко плывущим облакам, которые цепляются за лесистые вершины и, даже уйдя и растаяв, оставляют на них самую свежую свою росу.
Вы пишете, что закончили «Аббатство кошмаров». Надеюсь, Вы не дали врагу пощады. Помните, что это – священная война. Мы нашли отличную цитату у Бена Джонсона401: «Всяк по-своему». Я переписал ее, ибо не думаю, чтобы эти пьесы нашлись у Вас в Марло.
«Мэтью. О, это тонкость вашего настроения, ваша истинная меланхолия рождает тонкость вашего ума, сэр. Я сам иногда меланхолик, сэр, и тогда я ничего другого не делаю – беру перо и бумагу и строчу дюжину-другую сонетов в один присест.
Эд. Ноуэлл. Сейчас он, наверное, признается, что испускает их гроссами.
Стивен. Неужели, сэр? Я все это безмерно люблю.
Эд. Ноуэлл. Честное слово, это лучше, чем в меру. Я полагаю так.
Мэтью. Ах, прошу Вас, сэр, пользуйтесь моим кабинетом – он к Вашим услугам.
Стивен. О, благодарю вас. У меня смелости хватит, ручаюсь вам. А имеется ли там стул, на котором можно предаться меланхолии?»
(«Всяк по-своему», действие III, сцена 1)
Последняя фраза была бы неплохим эпиграфом.
[Письмо не подписано]
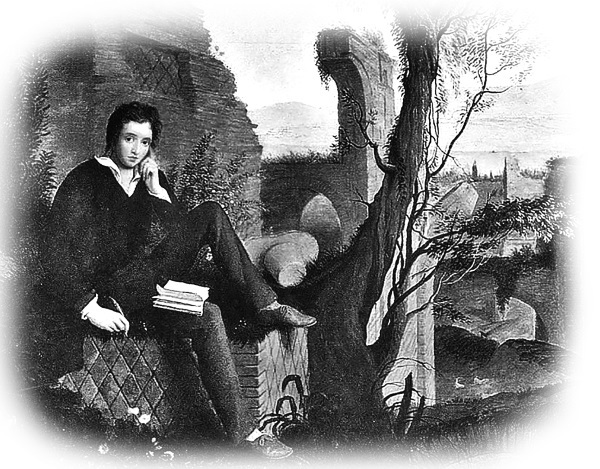
Перси Биши Шелли в Италии.
Художник – Джордж Северн. 1845 г.
Вильяму Годвину
Баньи-ди-Лукка, 25 июля 1818
Дорогой Годвин!
Мы еще не видели в Италии ничего, что говорило бы нам о ее минувшем величии. Ясное небо, восхитительные пейзажи и сладкие плоды южного климата – те же, какими наслаждались древние. Но нам еще только предстоит увидеть Рим, Неаполь и даже Флоренцию; если бы мы сейчас описали Вам свои впечатления, Вы и не подумали бы, что мы пишем из Италии.
Я в восторге от предложенного Вами замысла402 – правдиво написать о наших оклеветанных республиканцах. Это как раз для Мэри; если бы она не опасалась, что потребуются книги, которых здесь нет, она, мне думается, начала бы работу здесь, а книги заказала. – Я, к сожалению, мало сведущ в английской истории, и интерес к ней во мне так слаб, что я чувствую себя обязанным знать ее лишь в общих чертах.
Мери вместе со мною только что прочла Ариосто403 и приобрела вполне достаточные познания в итальянском языке. Сейчас она читает Ливия. Я не прекращаю литературных занятий, но пишу мало – не считая переводов из Платона, которые предпринял ради упражнения, отчаявшись сочинить что-либо сам. «Пир» Платона представляется мне одним из ценнейших среди древних памятников как по собственным своим достоинствам, так и потому, что освещает изнутри нравы и взгляды древних греков. Я его перевел; и он побудил меня попробовать написать эссе404 о причинах некоторых различий во взглядах древних и новых мыслителей на предмет этого диалога.
В Ваших последних письмах нас радуют две вещи: что Вы вернулись к полемике с Мальтусом405 и что всеобщие выборы обернулись так благоприятно. Если министры не отыщут какой-нибудь предлог – не представляю себе какой, – чтобы ввергнуть страну в войну, неужели они удержатся у власти? Англия в ее нынешнем состоянии нуждается только в мире, чтобы на покое и на досуге искать средство – не против неизбежных зол любого общества – но против того порочного управления, при котором это зло у нас усугубляется. Я хотел бы обрести здоровье и душевные силы для участия в общественных делах и найти слова для выражения всего, что я чувствую и знаю.
Современные итальянцы кажутся несчастными людьми, лишенными чувствительности, воображения и интеллекта. Внешне они благовоспитанны и общение с ними легко, хотя ничем не кончается и ничего не приносит. В особенности пусты женщины; наделенные тем же поверхностным изяществом, они неразвиты и лишены подлинной тонкости. В здешнем казино по воскресеньям дают балы, на которых мы присутствуем, – но ни Мэри, ни Клер не танцуют. Не знаю, что их удерживает, – философия или протестантская вера.
Я слышал, что книга бедняжки Мэри – «Франкенштейн» – подверглась в «Куотерли ревью» самым злобным нападкам. Но мы слышали и о хвалебных отзывах, в том числе Вальтера Скотта в «Блэквуде мэгезин»406.
Если у Вас есть что прислать, – а все, касающееся Англии, поверьте, нам интересно, – передайте книготорговцу Оллиеру или Пикоку – они каждые три месяца посылают мне посылки.
Мое здоровье, по-моему, улучшилось и продолжает улучшаться; но у меня еще много докучных мыслей и удручающих забот, которые хотелось бы стряхнуть – ведь сейчас лето.
Тысяча лучших пожеланий Вам и Вашей работе.
Любящий Вас
П. Б. Ш.
Томасу Лаву Пикоку
Баньи-ди-Лукка, 16 августа 1818
Дорогой Пикок!
Со времени моего предыдущего письма в моей жизни не произошло новых событий; или только такие, которые могли произойти как на берегах Темзы, так и на берегах Серкио. Я замышляю небольшую поездку – этак на неделю, в некоторые ближние города; а 10 сентября мы уезжаем отсюда во Флоренцию, откуда я, по крайней мере, смогу написать Вам о чем-то таком, чего Вы не увидите из своих окон.
Воспользовавшись несколькими днями вдохновения – на которые Камены407 сейчас очень скупы, – я окончил небольшую поэму408, которую посылаю в Лондон для издания. Оллиер пришлет Вам корректуру. Ее композиция легка и воздушна, сюжет идеален. Размер соответствует духу поэмы и меняется, следуя настроению.
Я перевел «Пир»409, Мэри переписала его, так же как и поэму; сейчас я намерен сочинить трактат410 на тему «Пира», рассматривая ее с точки зрения различий между чувствами греков и современных народов, – тема эта требует осторожности, какую я не могу или не хочу соблюдать в других делах, но которую здесь признаю необходимой. Это не означает, что я всерьез думаю об издании как трактата, так и перевода «Пира», во всяком случае до возвращения в Англию, а там мы обсудим, насколько это уместно.
Итак, «Аббатство кошмаров» окончено. Что же там содержится? Что это такое? Вы так это скрываете, словно священные страницы его продиктованы жрецом Цереры. Однако я надеюсь узнать со временем, когда прибудет вторая посылка. А еще не пришла и первая. С каким судном Вы ее послали?
Скажите, исцелились ли Вы от Вашей «нимфолепсии»? Это сладкий недуг, но из числа самых упорных и опасных, – даже когда Нимфа является Полиадой411. Так это или нет, надеюсь, что Вы не оставили Вашу нимфолептическую повесть412. Это – отличный сюжет, если приправить его в должной мере вакхическим неистовством и воскресить нравы и чувства того божественного народа, который даже в заблуждениях своих является зеркалом всякой грации и изящества. Как хорошо это место в «Федре»413 – кажется, начало одной из речей Сократа, – где прославляется поэтическое безумие и определяется, что такое поэзия и как становятся поэтами. Каждому нашему современнику, желающему писать стихи, следовало бы, чтобы предохранить себя от ложных и узких критических систем, извергаемых всяким шарлатаном-стихоплетом, и чтобы попасть в число тех, о ком они сказаны, проникнуться высокими и гордыми словами Тассо: «Non с’e in mondo chi merita nome di creatore, che Dio ed il Poeta»414.

