Ах, какие глазки…
Виктория Лебедева
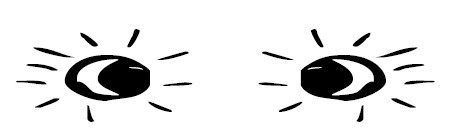
Кошка и снеговик
Слова, которые слышала Маринка от мамы, чаще всего начинались с приставки «из»: изверг, извела, избалованная, издеваешься, извертелась. Маринка была не такая, как другие дети. Она была «косой» и «очкариком».
Бог весть, зачем понадобилась эта гадкая пластмассовая штуковина с двумя стеклами, которая давила за ушами и натирала переносицу. Маринка и без нее видела прекрасно; но, увы, снимать очки запрещалось ка-те-го-ри-че-ски. Она приставала к маме, отчего да почему, и мама, сажая ее на одно колено, терпеливо объясняла. Из этих объяснений выходило, что она, Маринка, сама виновата, потому что «извела», «извертелась» и прочие «из-», а была бы послушной девочкой, как другие, не побежала бы сломя голову и не расшиблась. Теперь же, извольте видеть, в голове что-то испортилось, и это надо было чинить. «Ох-ох-о», – вздыхала мама и чмокала примолкшую Маринку в макушку. Хотелось плакать.
Девчонки никогда не брали Маринку играть в дочки-матери. Они забирались в деревянный домик на детской площадке и перегораживали дверь старыми строительными носилками без ручек, чтобы она не вошла. Ну и пусть. Зато Маринкин мир был вдвое интереснее, чем у остальных.
В этом мире над клумбой детсадовских флоксов синхронно парили сразу две бабочки-капустницы, сразу по двум черно-белым телевизорам показывали «Ну, погоди!», соседка протягивала две сосательные конфеты на двух ладонях; мишек, пупсиков, красных фломастеров – всего на свете становилось по два, стоило Маринке глазом моргнуть. А еще она умела лазить по деревьям и никогда не спала в тихий час.
Сразу после обеда мама прибегала, шепталась о чем-то с воспитательницей и, к зависти всей группы, уводила Маринку до самого полдника. Они шли на шоссе ловить попутку.
Маринке нравились большеголовые «КамАЗы», тянущие за собою длинные гулкие железные ящики. Чтобы забраться в кабину, мама брала Маринку под мышки и поднимала до самого неба, где ловили ее и втягивали на мягкое горячее сиденье черные шоферские руки, а потом с трудом лезла сама, одной рукой придерживая у колен непослушное платье.
В кабине было угарно и жарко от наплывающего солнца, зато через огромные мутные окна видна была сразу вся-вся дорога – и лес, и переезд, и детсадовские летние дачи.
Шоферы, наверное, жили в своих больших машинах, никуда не выходя. Маринка давно подглядела, что за сиденьями, за ситцевыми занавесками есть секретная кровать с подушкой и одеялом, на которой подпрыгивают в такт движению термосы и пакеты с бутербродами, а еще в одной машине на рычаге вместо циферок была красивая красная роза под стеклянным колпаком.
Хуже было с полуторками. Они тормозили, выпучивши круглые глаза, поднимая облако пыли, от которой звонко чихалось, и из распахнутой дверцы вырывалась горячая бензиновая волна. Едва отъезжали, как в горле уже застревал горький тошный комок и голова начинала кружиться, кружиться, редкий лес за пыльным стеклом шел пятнами; Маринка сползала со скользкого трясучего дерматина, так что маме приходилось ловить ее под локоть, и тут же под самым подбородком оказывался бумажный магазинный кулек, заботливо припасенный на такие случаи.
Нет, «КамАЗы» были гораздо лучше! Ехали-ехали и добирались, наконец, до ГУАСа (аббревиатура, которая так никогда и не была расшифрована). Мама спрыгивала на обочину, ловила обмякшую Маринку и тянула ее, едва переставляющую ноги, к желтому одноэтажному домику, который торчал через дорогу в густых кустах сирени.
Сначала в глазной поликлинике Маринке понравилось. Там пахло чем-то сладким, может быть, компотом, а нянечки несли на головах крахмальные косынки с красным крестом, как в одной книжке про войну. Аппарат был похож на большую серую улитку. Из пуза у него росли две длинные трубки с линзами, как будто рожки с глазами, их можно было двигать, чтобы стало лучше смотреть. Конечно, самой Маринке не разрешили до них даже дотронуться, а все-таки…
– Смотри! – велела тетенька-врач, пристраивая улиткины рожки поудобнее, и Маринка посмотрела.
В одном улиткином глазу сидела спиной к Маринке черная кошка. У кошки были усики, треугольные ушки и хвост кольцом, и беременское брюхо, и круглая голова, а вот лапок не было. А может, их было просто не видно, ведь кошка отвернулась. В другом глазу помещался белый снеговик. Только он был без головы, недостроенный. Всего-то в два шарика. Ни глазок, ни носа морковкой. Но вот если бы приставить ему еще один шарик, поменьше, то нашлось бы место даже для метелки и шапки-ведра.
– А теперь сливай! – велела тетенька-врач.
Маринка съежилась. Она не поняла.
– Ну, что же ты молчишь? Тебе всё ясно? – заволновалась мама.
– Нет, – тихонечко пискнула Маринка. Ей стало отчего-то страшно.
– Не волнуйтесь, мамочка, в первый раз все они так, – успокоила тетенька-врач. – Она ведь совсем маленькая у вас. – И стала терпеливо объяснять Маринке, как сделать, чтобы глазки вылечились.
Из этих объяснений выходило, что кошка и снеговик должны волшебным образом соединиться так, чтобы осталась одна кошка, а снеговик бы исчез. Тогда бы в глазах у Маринки перестало быть всего по два, и она бы сделалась как все дети.
– Чтобы растаял? – спросила Маринка.
– Да, вроде того, – улыбнулась тетенька-врач. – Ну, сиди теперь. Работай. И смотри, не обманывай! Должна остаться только кошка. Ты же хочешь, чтобы глазки стали здоровыми?
Маринка хотела, очень-очень! Но она не понимала, как избавиться от проклятого снеговика. Ведь вот и снеговик был, и кошка была, и они были совсем разные, куда же тогда девать снеговика? «Может, кошка должна подкрасться поближе и его съесть?» – размышляла Маринка и напрягала глаза изо всех сил, но упрямая кошка оставалась на месте и даже усом не шевелила. «А если на него подышать и он, правда, растает, ведь тогда получится лужа», – волновалась Маринка, и по вискам ее впрямь пошли теплые струйки пота, но снеговик как был, так и стоял целехонек.
Волшебство не давалось. Потом Маринку осенило, и она закрыла правый глаз. Снеговик исчез, осталась только кошка! Но не успела она обрадоваться простоте решения, как за спиною послышался строгий голос:
– Это еще что?! А ну-ка не халтурить! Разве я разрешала закрывать глаза?!
Так они ездили – каждый день, кроме выходных, и не было конца-края этим утомительным путешествиям. Отчаявшись добиться от Маринки толку, тетенька-врач велела заклеить на очках одно стекло, и теперь оно было замотано серым пластырем, обтерханным по краям. Маринку перестали обзывать «четырехглазой», но зато громко кричали вслед: «Одноглазая! Одноглазая!» – и это было еще обиднее.
У нее было два глаза, ДВА! Такие же, как у всех! Это не она придумала очки, грязный пластырь, кошку, снеговика, глупую железную улитку, которая не могла ее вылечить! Потому в драку бросалась не раздумывая. Воспитательница жаловалась, мама ругалась, ставила в угол…
Маринка стала отдирать пластырь каждое утро, а вечером мама упрямо наматывала его снова, еще и наподдавала как следует. Больше всего на свете хотелось Маринке, чтобы кошка и снеговик соединились, ведь тогда кошмар кончится. Но нет, не выходило.
Незаметно прошел год, потом еще один и еще… Маринка пошла в школу.
Ничего не менялось. Днем были те же грязные трясучие грузовики, тот же аппарат в глазной поликлинике – вот только улитка вытягивала металлические рожки все выше и все шире разводила их в стороны.
– Ну как? – спрашивала врач. – Хоть чуть-чуть двигается дело?
И Маринка начинала горестно всхлипывать, так что слезы капали прямо улитке в глаза; кошка и снеговик дрожали и расплывались, но всё равно не сходились вместе.
А потом – Маринка и не помнит, когда это произошло, она ведь не хотела врать, она знала, что врать плохо, – как-то само собою выговорилось: да, мол, пошло дело, уже и боками соприкасаются! Вся кровь ударила Маринке в лицо – от стыда. Но врач, кажется, ничего не заметила, а только обрадовалась и погладила Маринку по волосам. И мама, которая теперь поджидала Маринку в коридоре (ведь Маринка была уже большая девочка), обрадовалась тоже, купила на обратном пути даже подсолнечной халвы в пластиковой коробке.
Каждый день, кроме выходных, Маринка засыпала и просыпалась со страхом, что обман откроется. Ей снились черные кошки и белые снеговики – огромные, размером с девятиэтажку. У нее пропал аппетит, она нахватала троек даже по математике, хоть это был любимый предмет. Однако маленькая невинная ложь не замедлила дать результат – через какой-нибудь месяц пластырь отменили, и коль скоро старые очки были безнадежно им испорчены, мама купила Маринке новые, в модной металлической оправе. Одноклассники стали меньше дразниться.
А с четвертого класса началась «военная подготовка». Однажды военрук вывесил на классную доску мишени и принес из хранилища две настоящие пневматические винтовки. Рядом с мишенью на доске он мелом нарисовал, как правильно целиться, и выдал ученикам по три маленькие серые пульки, похожие на колпачки от зубной пасты. Мальчики были в восторге.
Позволили стрелять и Маринке. Маринка сняла очки, прицелилась раз, другой, третий…
– Этого не может быть! – сказал военрук, рассматривая мишень.
В ней пробита была единственная дырка, в самой десятке. Правда, она была довольно большая и неровная. Но куда, скажите, ушли два других выстрела? Их не было ни на бумаге вокруг мишени, ни даже на доске, ни на стенке за доской!
– В молоко, в молоко!!! – кричали мальчишки. – Косая-босая!
А военрук приподнял мишень и снял с доски три плюхи, аккуратно положенные одна в другую. Надо признаться, он был озадачен.
С тех пор Маринку брали на соревнования по стрельбе. Соперницы, двумя-тремя классами старше, ужасно веселились, увидев маленькую толстенькую девочку-очкарика, которая откладывала очочки в сторону и прилаживалась стрелять – сначала из пневматики, потом из мелкокалиберной, из положения лёжа.
Как же так выходило, что девочка-очкарик вечно оказывалась на пьедестале не ниже третьего места? А очень просто. Черный круг мишени был кошкой – проклятой кошкой, вписанной в ненавистного белого снеговика. И Маринке хотелось, чтобы их не было. Никогда.
Но кошка и снеговик никуда не девались. И они не хотели сливаться, хоть тресни. Маринка ненавидела очки, она на них смотреть больше не могла! Оттого, как ни было ей стыдно и страшно, врала все отчаяннее. Снеговик и кошка подбирались друг к другу все ближе, и вот уж налезали боками, вот уж кошачьи ушки и усы торчали из недостроенного снеговичьего живота, образуя мишень – до тех пор, пока врач не сочла лечение оконченным и не отпустила Маринку с богом, выдав на прощание белую картонку, где нарисованы были точно такие же кошка и снеговик, только маленькие, в сантиметр высотой. Эту картонку мама торжественно поместила над Маринкиным письменным столом, и один раз в сутки, перед сном, нужно было по полчаса тренироваться, сливая две назойливые фигурки под ее бдительным надзором. Впрочем, лгать маме было гораздо легче, чем врачу.
Теперь, выходя из дома, Маринка прятала очки в футляр, а на вопросы учителей отвечала не без гордости, что она совершенно здорова. И вправду, вертясь перед зеркалом, она видела, что левый глаз не смотрит больше в переносицу, как это было в детском саду, а уже почти выправился. Мама, случайно поймавшая Маринку в обеденный перерыв без очков, кричала на всю улицу и волокла за плечо, а Маринка плакала и клялась: «Мамочка, я потеряла! Потеряла!» – и дома была больно бита, когда очки обнаружились в портфеле.
Мама поклялась, что станет провожать и встречать Маринку, раз она такая врушка, и было ужасно стыдно перед одноклассниками, когда ее, опять «очкастую», с позором доводили до дверей и после уроков забирали обратно. Маринке даже казалось, что она этого не переживет. Но она, конечно, пережила.
Все плохое забывается, таково счастливое свойство детства.
На первой же плановой проверке врач подтвердила, что никакие очки Маринке больше не нужны. Так бывает, слабые глазные мышцы, травмированные в детстве, с возрастом укрепляются сами собой. Мама удачно вышла замуж и уехала в большой город, где Маринку отдали в другую школу. Никто-никто из новых одноклассников и соседей не знал, что раньше она носила очки.
Стрельба была заброшена, самым главным увлечением сделалась физика, тот ее раздел, который объяснял оптические явления. От старой жизни сохранилась только привычка щурить левый глаз, точно Маринка прицеливалась, да еще умение раздвоить, по желанию, любой предмет.
Про кошку и снеговика Маринка постепенно забыла тоже. Только врать так и не научилась – было отчего-то совестно и казалось, что строгие взрослые всё поймут и вот-вот поймают за руку.

