Книга: Повесть о Гэндзи (Гэндзи-моногатари). Книга 3
Назад: Великий закон
Дальше: Принц Благоуханный
Кудесник-даос

Основные персонажи
Гэндзи, 52 года
Принц Хёбукё (Хотару) – младший брат Гэндзи
Удайсё (Югири), 31 год, – сын Гэндзи
Государыня-супруга (имп-ца Акаси), 24 года, – дочь Гэндзи и госпожи Акаси
Третий принц (Ниоу), 6 лет, – внук Гэндзи, сын имп. Киндзё и имп-цы Акаси
Третья принцесса, Вступившая на Путь принцесса (Сан-но мия), 26(27) лет,– дочь имп. Судзаку, супруга Гэндзи
Сын Третьей принцессы (Каору), 5 лет, – сын Третьей принцессы и Касиваги (официально Гэндзи)
Госпожа Акаси, 43 года, – возлюбленная Гэндзи, мать имп-цы Акаси
Обитательница Летних покоев (Ханатирусато) – возлюбленная Гэндзи
Сияние новой весны озарило мир, а в душе Гэндзи по-прежнему царил беспросветный мрак. Как обычно, в первые дни года многие приходили к нему с поздравлениями, но, сказавшись больным, он никого не принимал и, только узнав, что пожаловал принц Хёбукё, велел провести его во внутренние покои.
– В доме моем
Никто не станет отныне
Восхищаться цветами.
Так для чего же, весна,
Ты снова приходишь ко мне?—
сказал он принцу, и тот ответил, рыдая:
– Пришел я сюда,
Чтобы вдохнуть аромат,
Цветами оставленный,
А ты меня счел, увы,
Обычным весенним гостем.
Выйдя в сад, принц остановился под красной сливой. «Может ли кто-нибудь другой оценить…» – подумал Гэндзи, любуясь его изящной фигурой.
Стояла та прекрасная пора, когда цветы только начинают раскрываться. Раньше в такие дни в доме Гэндзи звучала музыка, но нынешней весной все было иначе.
Дамы, давно прислуживавшие в доме, не снимали одеяний скорби. Новый год не принес им облегчения, они плакали и стенали, ни на миг не забывая о своем горе. Единственное их утешение составляли заботы о господине, который не покидал дом на Второй линии даже ради того, чтобы навестить кого-нибудь из близких ему особ. Некоторые из этих дам в былые времена не то чтобы пробуждали в душе Гэндзи глубокие чувства – этого не было, но становились предметом его сердечной наклонности и, казалось бы, теперь, когда он коротал ночи в тоскливом одиночестве… Однако Гэндзи не отличал никого, и даже прислужницы, остающиеся на ночь в его покоях, помещались в отдалении. Иногда, не в силах сдерживать тоски, Гэндзи беседовал с дамами о прошлом. Далекий от суетных помышлений, он тем не менее часто вспоминал, как огорчали госпожу его измены. «Для чего я заставлял ее страдать? – думал он, терзаемый запоздалым раскаянием. – Госпожа все принимала так близко к сердцу – и случайные прихоти, и подлинные увлечения… Она не была злопамятна, тем более что, обладая недюжинным умом и прозорливостью, прекрасно понимала, сколь велика моя любовь к ней, и все же каждое новое свидетельство моей неверности повергало ее в отчаяние и заставляло сомневаться в моих чувствах».
Многие дамы прислуживали в доме долгие годы и, разумеется, знали немало. Они рассказывали Гэндзи о том, как грустила и сетовала на судьбу госпожа, когда в дом на Шестой линии переехала Третья принцесса. Пусть она притворялась спокойной и безмятежной, нельзя было не видеть, что она страдает… А как ласково госпожа встретила его в то утро после метели, когда он, дожидаясь, пока ему откроют, едва не окоченел от холода… Только вот рукава ее промокли от слез, и она прятала их, стараясь, чтобы он ни о чем не догадался. Когда, в каком из миров доведется ему снова увидеть ее? Неужели даже во сне…
Всю ночь он не смыкал глаз, когда же рассвело, услыхал голоса дам, очевидно возвращавшихся в свои покои.
– Смотрите, сколько выпало снегу…
Да, в тот день тоже шел снег… Но теперь Гэндзи был один, и мучительная тоска сжимала его сердце.
– Когда бы я мог,
Этот горестный мир покинув,
Исчезнуть-растаять.
Но, видно, мне жить суждено,
Хоть и к другому стремился… (352).
Омыв руки, Гэндзи постарался обрести забвение в молитвах.
Отобрав еще не прогоревшие угли, прислужницы положили их в жаровню и поставили ее подле господина. Тюнагон и Тюдзё постарались развлечь его беседой.
– Нынешней ночью одиночество показалось мне особенно мучительным, – пожаловался Гэндзи. – Неужели сердце мое до сих пор не очистилось и я по-прежнему во власти суетных помышлений?
«А ведь если и я уйду, – невольно подумал он, глядя на дам, – их жизнь будет вовсе безотрадной…»
В такие дни особенно трудно было удержаться от слез, внимая его тихому голосу, произносящему священные слова. В самом деле, могли ли рукава стать запрудой? (353). Да и кто остался бы равнодушным, денно и нощно видя его печальное лицо?
– Высокое рождение позволило мне прожить свой век, ни в чем не испытывая недостатка, – говорил Гэндзи, – и все же мне всегда казалось, что мало кому на долю выпало столько горестей. Видно, сам Будда определил мне такую судьбу, желая раскрыть глаза мои на печаль и тщету этого мира. Я долго жил, упорствуя в своем неведении, но, когда годы мои склонились к закату, на меня обрушилось новое и самое страшное несчастье. Увы, сомнений быть не может – и предопределение мое, и душевные силы исчерпаны. Ничто больше не привязывает меня к миру. И все же страх овладевает мной при мысли о скорой разлуке с вами. За эти дни мы сблизились больше, чем за все предыдущие годы. Да, как ни тщетно все в нашем мире, нелегко от него отказаться…
Он попытался осушить глаза, но слезы катились по его щекам неудержимым потоком, и, глядя на него, дамы тоже заплакали. Им хотелось сказать, в какое отчаяние повергает их одна мысль о разлуке с ним, но, не в силах выговорить ни слова, они лишь молча роняли слезы.
Часто в тихие утренние часы после томительного ночного бдения или унылыми вечерами, приходившими на смену мрачным, тоскливым дням, Гэндзи призывал к себе прислужниц, с которыми был особенно близок, и подолгу беседовал с ними.
Даму по прозванию Тюдзё он знал еще девочкой и, видимо, не раз тайно оказывал ей внимание. Она же, чувствуя себя виноватой перед госпожой, старалась держаться от него в отдалении.
Прежние желания давно не волновали сердце Гэндзи, но Тюдзё была любимицей госпожи, и он дорожил ею как памятью, оставшейся от ушедшей. Она была миловидна, приветлива, и, видя в ней сосну «унаи», он предпочитал ее общество любому другому.
В те дни Гэндзи встречался только с самыми близкими ему людьми. Навестить его приходили многие важные сановники, с которыми был он некогда дружен, братья, но он почти никого не принимал, ибо боялся, что не сумеет, несмотря на все старания, сохранить необходимое в таких случаях спокойствие. За последнее время он настолько пал духом, что легко мог допустить какую-нибудь досадную оплошность, которая не только навлекла бы на него насмешки молодых людей, но и на долгие века закрепила бы за ним дурную славу. Несомненно, его упорное нежелание встречаться с людьми тоже можно было расценить как проявление малодушия, и все же… Одно дело – знать о чем-то с чужих слов, и совсем другое – самому быть свидетелем…
Теперь даже с Удайсё Гэндзи разговаривал только через занавес. Однако, живя затворником, он вместе с тем не решался разорвать последние связи с миром. «Пройдет некоторое время, люди привыкнут, – думал он, – и перестанут обо мне судачить. Вот тогда-то…» Иногда Гэндзи навещал обитательниц дома на Шестой линии, но стоило ему приехать туда, как дождь слез начинал лить с новой силой, поэтому он бывал там крайне редко.
Тем временем Государыня-супруга вернулась во Дворец, оставив с Гэндзи Третьего принца. Мальчик заботливо – «так велела бабушка» – ухаживал за растущей у флигеля красной сливой, и Гэндзи наблюдал за ним с умилением.
Настала Вторая луна, и словно чудесная дымка окутала деревья. Одни сливы были уже в полном цвету, на других только начинали раскрываться бутоны. В ветвях той самой красной сливы звонко пел соловей. Однажды Гэндзи вышел в сад полюбоваться цветами.
– Нет уже той,
Что эту сливу сажала,
Любовалась цветами,
А соловей, прилетев сюда снова,
Как ни в чем не бывало, поет…—
тихонько произнес он.
Весна постепенно входила в силу, и сад принимал свой обычный вид, но сердце Гэндзи не знало покоя, и вовсе не потому, что его волновала судьба цветов. Каждая мелочь пробуждала в его душе мучительные воспоминания, и ему хотелось одного – укрыться в тех далеких горах, где не услышишь, как «кричат, пролетая, птицы» (295). Даже на пышные, яркие керрии не мог он смотреть без слез.
Не успели осыпаться простые вишни, как расцвели многолепестные, а вслед за ними украсились цветами и горные вишни «кабадзакура». Когда же отцвели и они, настало время глициний. Ушедшая госпожа, проникшая душу цветов, посадила в саду и ранние и поздние растения, и каждое расцветало в свой срок.
– Вот и моя вишня расцвела, – радовался Третий принц. – Что сделать, чтобы цветы не осыпались? Может, загородить ее со всех сторон занавесами? Тогда ей никакой ветер не страшен.
Он был очень горд, что ему пришла в голову столь удачная мысль, и, глядя на его прелестное личико, Гэндзи невольно улыбнулся:
– Да, пожалуй, это лучше, чем прикрывать рукавом небо (148). Это дитя было единственным его утешением.
– Нам недолго осталось быть вместе, – сказал Гэндзи, и на глазах у него заблестели слезы. – Даже если жизнь моя еще некоторое время продлится, мы принуждены будем расстаться.
– Нельзя так говорить! – рассердился мальчик. – Вот и бабушка когда-то…
Он потупил глаза и принялся теребить пальцами край платья, стараясь скрыть слезы. Гэндзи сидел у перил, и рассеянный взгляд его скользил по саду, проникал за занавеси. Некоторые дамы до сих пор не сняли одеяния скорби. Другие, хоть и облачились в обычные платья, предпочитали шить их из гладких неярких тканей. На Гэндзи было носи цвета, принятого в это время года, но подчеркнуто скромное, без узоров. Убранство покоев отличалось строгой простотой. Повсюду царила унылая тишина.
– Боюсь, без меня
Быстро придет в запустенье
Весенний сад.
А ведь когда-то так дорог
Был он сердцу ушедшей…
Никто не заставлял Гэндзи принимать постриг, и все же как это было печально!
Однажды, желая немного рассеяться, Гэндзи навестил Вступившую на Путь принцессу. Он взял с собой Третьего принца. Мальчик целыми днями играл с маленьким сыном принцессы и скоро забыл о цветах, которых судьба так волновала его прежде. Да, дети забывчивы…
Принцесса проводила дни в молельне за чтением сутр. Ее обращение не было следствием глубокого внутреннего убеждения, но жизнь давно уже стала для нее тягостным бременем, и она ни о чем не сожалела. Мирские дела не волновали ее более, она жила тихо, неторопливо, отдавая дни служению Будде, и Гэндзи невольно позавидовал ей. «Даже она опередила меня, – подумал он не без досады. – Можно ли было предугадать, что особа, никогда не помышлявшая о возвышенном…»
В воде плавали цветы, особенно прекрасные в лучах вечернего солнца.
– Любившей весну уже нет с нами, – сказал Гэндзи, – и цветы потеряли для меня свою прелесть. Только здесь перед Буддой они и хороши. Как пышно цветут керрии у флигеля! Я никогда не видел таких крупных соцветий. Благородными эти цветы не назовешь, но их яркость и свежесть невольно трогают сердце. Только зачем они так пышно расцвели в этом году, будто не ведая, что ушла из мира та, что их посадила? (354).
– «Сумрак царит в нашей долине…» (355) – словно не поняв, прошептала принцесса.
«Неужели у нее других слов не нашлось?..» – подосадовал Гэндзи, и тут же вспомнилась ему госпожа. Уж она-то всегда, в любых обстоятельствах говорила именно то, что он хотел от нее услышать. Ни разу за всю свою жизнь не обманула она его ожиданий. А в молодые годы? Да, уже тогда она обнаруживала тонкий ум, обширные дарования. Все в ней пленяло – лицо, движения, речи… Он перебирал в памяти разные связанные с ней случаи, и скоро слезы, постоянно стоявшие у него в глазах, покатились по щекам.
Вечером, в тот прекрасный час, когда все вокруг тонет в неясной дымке, Гэндзи отправился к госпоже Акаси.
Он давно уже не заглядывал к ней, и его неожиданное появление привело ее в замешательство. Однако, быстро овладев собой, она приняла его с благородным изяществом, и Гэндзи снова подумал о том, как мало на свете ей подобных. Впрочем, он и на этот раз не смог удержаться от сравнения. «Ушедшая была совсем другой, – размышлял он, глядя на госпожу Акаси. – Я больше ни в ком не встречал такой тонкой, прекрасной души». Ее пленительный образ с поразительной ясностью представился его воображению, и сердце сжалось тоскливо. «Что утешит меня теперь?» – вздохнул он.
Гэндзи беседовал с госпожой Акаси о прошлом.
– Я давно понял, что дурно предаваться влечению чувств, – говорил он, – а потому старался не обременять себя привязанностями. Я многое передумал в те годы, когда в глазах всего света был жалким изгнанником, и пришел к заключению, что ничто не мешает мне отречься от мирской суеты и навсегда затеряться среди гор и лугов. С тех пор прошло немало лет, вот уже и жизнь моя близится к концу, а я так и не осуществил своего желания, ибо многое привязывало меня к миру. Увы, я слишком слаб и слишком суетен.
Он не говорил прямо о своей печали, но она догадывалась, как ему тяжело, и жалела его.
– Даже людям, которые никому на свете не нужны, трудно порвать нити, незримо связывающие их с миром, – рассудительно отвечала она. – А вам тем более непросто решиться на такой шаг. К тому же излишняя поспешность может показаться людям несовместной с вашим высоким званием, и вы навлечете на себя осуждение молвы. А это будет еще хуже. Говорят, самым твердым бывает решение, принятое после долгих колебаний. Я слышала, что и в древности люди нередко отрекались от мира либо потому, что не могли оправиться после сильного душевного потрясения, либо потому, что рушились их надежды. Я не вижу в этом ничего достойного. По-моему, вам лучше подождать, пока не упрочится положение Первого принца. И тогда со спокойной душой…
– Все же иногда бывает лучше поддаться внезапному порыву, чем медлить и осторожничать.
Гэндзи долго рассказывал ей о том, что пришлось ему испытать в жизни, какие думы волновали его…
– В ту весну, когда покинула мир прежняя Государыня-супруга, – сказал он между прочим, – я ждал, что и цветы проявят тонкость чувств… (174). Мне приходилось видеть Государыню, когда я был ребенком, и уже тогда меня пленила ее необыкновенная красота. Наверное, поэтому я был так потрясен, узнав о ее кончине. Ведь не всегда скорбишь только о тех, с кем связан узами родства. Разумеется, трудно примириться с утратой любимой супруги, с которой вместе прожита долгая жизнь, но мое горе велико не только потому, что нас с госпожой связывали супружеские узы. Она была маленькой девочкой, когда я увидел ее впервые, я сам ее воспитал, мы вместе состарились, и вот теперь, на закате дней, я остался один, чтобы оплакивать собственное одиночество и вспоминать об ушедшей. Поверьте, я испытываю страдания, превышающие силы человеческие. Все в моей жизни связано с ней, все напоминает о ней: и печальное, и изящное, и забавное… Потому-то столь неутешна моя скорбь.
До поздней ночи беседовали они о былом и настоящем, и Гэндзи подумал: «А не остаться ли мне здесь до утра» – но потом отказался от этой мысли. Печально смотрела на него госпожа Акаси. Да и сам он не мог не дивиться переменам, в нем происшедшим.
Вернувшись в свои покои, Гэндзи почти всю ночь молился и только к утру прилег ненадолго отдохнуть. На следующее утро он отправил госпоже Акаси письмо такого содержания:
«Обливаясь слезами,
Поспешил я домой вернуться.
Дикие гуси
В страну постоянства стремятся (356),
Покидая изменчивый мир…»
Вчера он ушел столь поспешно, что женщина вправе была чувствовать себя обиженной, но такое уныние звучало в этой песне, так непохожа была она на прежние, что сердце ее мучительно сжалось, и, забыв о собственных обидах, она разразилась рыданиями.
«Ручьи на лугах,
Куда дикие гуси спускались,
Высохли вдруг.
И цветов, отражавшихся в них,
Больше мы не увидим».
Ее почерк был по-прежнему изящен.
Ушедшая никогда не жаловала госпожу Акаси. Правда, с годами меж ними установилось согласие и они оказывали друг другу неизменное доверие, но очень часто в словах и приемах госпожи Мурасаки проскальзывало что-то принужденное, холодно-учтивое. Впрочем, вряд ли другие это замечали.
Когда Гэндзи становилось особенно тоскливо, он навещал ту или иную из живущих под его покровительством особ, но никогда не оставался у них на ночь.
Однажды обитательница Летних покоев прислала ему новое платье, сшитое ко дню Смены одежд.
«Настала пора
В новое летнее платье
Нам облачиться.
Но разве так же легко
Старые думы сменить?»—
написала она ему, и Гэндзи ответил:
«Летнее платье,
Крыльев цикады прозрачней,
Я сегодня надел,
И этот призрачный мир
Показался еще печальней…»
Даже в день великого празднества Камо в доме царило уныние. «А ведь сегодня все собираются на праздник, радуясь предстоящим утехам…» – подумал Гэндзи, воображая празднично-оживленные толпы людей, спешащих к святилищу.
– По-моему, и вам не мешает немного развлечься, – сказал он, обращаясь к дамам. – Вы могли бы разъехаться на время по домам и заодно поглядели бы на процессию… Госпожа Тюдзё дремала в восточных покоях, но, завидя Гэндзи, поднялась. Миниатюрная, миловидная, стояла она перед ним, прикрыв рукавом раскрасневшееся лицо. Густые, чуть растрепавшиеся волосы ниспадали до самого пола. На ней были алые с золотистым отливом хакама и желтое нижнее платье, поверх которого было наброшено несколько верхних – темно-серых и черных. Платья измялись, а мо и китайская накидка, соскользнув, волочились по полу. Смутившись, Тюдзё поспешила привести себя в порядок.
Рядом с ней лежала веточка мальвы, и, подняв ее, Гэндзи сказал:
– Что это за растение? Признаться, я успел забыть, как его называют…
– Травою зарос,
Должно быть, чистый источник
Приязни твоей,
Раз забыл ты, какие цветы
Сегодня в прическах у всех…—
робко ответила Тюдзё.
«Увы, она права…» – вздохнул Гэндзи:
– Мирские желанья
Давно не тревожат души моей,
Но сегодня готов
Искушенью поддаться я снова
И этот цветок сорвать...
Видимо, только госпожа Тюдзё и скрашивала его одиночество. В пору ливней Пятой луны Гэндзи коротал часы, погруженный в глубокую задумчивость, и жизнь казалась ему особенно тягостной. Однажды вечером на Двенадцатый или Тринадцатый день облака внезапно рассеялись, и на небо выплыла светлая луна. В тот прекрасный миг рядом с Гэндзи был Удайсё.
В лунном сиянии белели цветы померанцев, ветерок приносил их щемяще знакомый аромат, казалось, вот-вот раздастся крик кукушки, такой же, как «тысячу лет назад…» (357). Но еще миг – и небо снова затянулось тучами, хлынул страшный ливень. Внезапный порыв ветра задул висячие фонари, и стало совсем темно.
– «Печально-печально стучит в окно…» – произнес Гэндзи всем известные старые стихи, и оттого ли, что они как нельзя лучше отвечали случаю, или по какой другой причине, но только Удайсё невольно пожалел, что приходится ему в «одиночестве слушать…» (358).
– Казалось бы, что особенного – жить одному? – сказал Гэндзи. – И все же тоскливо… Надеюсь, что, удалившись в горную обитель, я сумею к этому привыкнуть и сердце мое очистится.
– Принесите угощение для гостя, – обратился он к дамам. – Не стоит звать в такой час слуг…
Как больно было смотреть на Гэндзи, в тоске обращавшего взор к небесам! (331). «Вряд ли молитвы помогут ему очиститься, – думал Удайсё, – если память об ушедшей не изгладится из его сердца. Но сможет ли он забыть? Я, видевший ее лишь мельком, и то…»
– У меня такое чувство, будто все это случилось совсем недавно – вчера или сегодня, – сказал он, – а ведь скоро уже год, как госпожи нет с нами. Какие молебны вы предполагаете отслужить?
– Я предпочел бы обойтись без особой пышности. Прежде всего надобно поднести Будде мандалу земли Вечного блаженства, приготовленную самой госпожой. Кроме того, у нас имеется изрядное количество сутр, переписанных ее рукой. Свою последнюю волю она поведала некоему Содзу. Посоветовавшись с ним, мы можем сделать кое– какие дополнения к обряду.
– О, раз госпожа позаботилась обо всем уже при жизни, можно не беспокоиться за ее будущее. Как видно, ей не суждено было задерживаться в этом мире. Но жаль, что она никого не оставила вам в утешение…
– Другие прожили гораздо дольше, но и они… Такое, видно, у меня предопределение. Похоже, что умножать наш род предстоит вам.
Гэндзи старался избегать разговоров о прошлом, ибо совершенно пал духом и любое воспоминание причиняло ему нестерпимую боль. Однако, услыхав голос долгожданной кукушки, он не сумел превозмочь вол-нения: «Как только она догадалась?»… (102).
– Утрату свою
Я оплакивал этой ночью,
И внезапно в мой сад,
Быть может от ливня спасаясь,
Залетела кукушка с гор…—
сказал Гэндзи, обратив взор к небесам (331).
– Если ушедшую
Встретишь, скажи ей, кукушка:
В старом саду,
Столь ею любимом когда-то,
Померанцы уже расцвели…—
ответил Удайсё.
Дамы тоже немало песен сложили в тот вечер, но я их опускаю.
Удайсё остался в покоях Гэндзи на ночь. В последнее время он часто проводил ночи в доме отца, стараясь скрасить его одиночество своим присутствием. Покои ушедшей госпожи, к которым в прежние времена он и приближаться не смел, находились неподалеку, и томительные воспоминания рождались в его душе.
Однажды в жаркий летний день Гэндзи отыскал место попрохладнее и, устроившись там, любовался садом. Лотосы на пруду были в полном цвету, и, глядя на них, он невольно вспомнил: «Неужели так много слез…» (359). Не имея сил двинуться с места, он долго сидел, отдавшись глубокой задумчивости. Начинало темнеть, в траве звонко стрекотали сверчки. Глядя на освещенные последними солнечными лучами цветы гвоздики, Гэндзи вдруг подумал, что и в самом деле бессмысленно любоваться ими одному… (340).
Летние дни
Бесконечно унылы, и слезы
Не высыхают.
А в траве как будто нарочно
Тоскливо звенят сверчки…
В воздухе мерцали светлячки, и Гэндзи произнес:
– «К ночи в сумрачных залах – огни светлячков…» Почему-то в те дни ему чаще всего вспоминались стихи именно такого содержания…
Ночь возвещая,
Светлячки огоньки зажигают.
Глядя на них,
Печалюсь. И ночью и днем
Душу снедает тоска…
Наступил Седьмой день Седьмой луны. Увы, разве так встречали его в прежние годы? Звуки музыки и сегодня не нарушили унылой тишины, царящей в доме. Гэндзи просидел весь день в мрачной задумчивости, и никто не вышел полюбоваться на встречу звезд. Ночь была совсем еще темна, когда Гэндзи поднялся и, подойдя к боковой двери, распахнул ее: сад сверкал от обильной росы.
– Где-то там, в небесах,
Сегодня встречаются звезды
За грядой облаков,
А здесь, в саду расставаний,
Травы покрыла роса, —
сказал Гэндзи, выйдя наружу.
Как уныло стонет осенью ветер! Но вот настала новая луна, начали готовиться к поминальным службам, и Гэндзи немного отвлекся. «Почему до сих пор…» (361, 362, 363) – удивлялся он, а дни между тем текли унылой чередою.
В день поминовения обитатели дома на Шестой линии, как высшие, так и низшие, постились, ибо именно сегодня решено было поднести мандалу и прочие дары. Перед вечерними молитвами Тюдзё, как обычно, вошла в покои Гэндзи с водой для омовения рук. Взяв ее веер, он обнаружил на нем такую надпись:
«Беспредельна тоска,
Бесконечным потоком слезы
Льются из глаз.
Говорят, наступает сегодня
Конец. Но чему же?»
«По ушедшей тоскуя,
Я подхожу все ближе
К последнему сроку,
И только поток моих слез
По-прежнему неиссякаем…»—
приписал он рядом.
Скоро наступила Девятая луна. Увидев на Девятый день на хризантемах в саду клочки ваты, Гэндзи сказал:
– Росу с хризантем
Мы собирали когда-то
Вместе с тобой,
Но сегодня она окропила
Лишь мои рукава… (364).
На Десятую луну, как обычно, лили дожди, и Гэндзи печалился, глядя на невыразимо унылое вечернее небо.
– «В дни Безбожной луны…» (83) – сказал он как-то словно про себя.
С завистью провожал он взглядом пролетавших по небу гусей…
Кудесник-даос,
Небесные сферы пронзающий,
Отыщи для меня
Душу любимой. Ведь даже во сне
Я не вижу ее теперь…
Шли дни и луны, а он все не мог утешиться.
Как-то раз, когда вся столица, охваченная радостным нетерпением, готовилась к празднику Нового урожая, Удайсё привез к Гэндзи двух своих сыновей, которые недавно начали прислуживать во Дворце. Мальчики были погодками, один миловиднее другого. Их сопровождали дядья То-тюдзё и Куродо-но сёсё, облаченные в великолепные, белые с синими узорами платья оми. Глядя на их беззаботные лица, Гэндзи невольно вспомнил, как когда-то в эту же пору…
Все спешат во Дворец
На праздник Обильного света,
Лишь мне в этот день
Придется грустить одному,
О ярком не ведая солнце.
Итак, терпеливо переждав еще один год, Гэндзи начал наконец готовиться к уходу от мира, и невыразимо печальны были эти приготовления. Предвидя близкую разлуку, он оделил памятными дарами своих домочадцев – каждого сообразно званию и рангу, и, хотя постарался обойтись без особой торжественности: «мол, расстаемся навсегда», близкие ему люди понимали, что он решился наконец удовлетворить давнишнее свое желание, и, чем меньше времени оставалось до конца года, тем больше они кручинились.
Потому ли, что было «жалко рвать» (365), или по какой другой причине, но только у Гэндзи сохранилось немало писем, причем многие из них не предназначались для чужих глаз. В те дни он случайно обнаружил их и велел уничтожить. Были здесь и письма, когда-то полученные им в Сума, а среди них – отдельно связанные – письма от госпожи Мурасаки. Когда-то он сам отобрал и связал их. Подумать только, как давно это было! И тем не менее тушь ничуть не поблекла, словно только что легла на бумагу. Так, эти строки могли остаться «памятью верной еще на тысячу лет…» (366). Но, увы, теперь все это не для него… Выбрав двух или трех самых преданных прислужниц, Гэндзи поручил им уничтожить письма в его присутствии.
Невозможно оставаться безучастным, глядя на знаки, начертанные человеком, давно покинувшим мир, даже если этот человек никак с тобою не связан. Свет померк в глазах у Гэндзи, слезы, падая, смешивались с тушью… Стыдясь своего малодушия, он поспешно отодвинул письма в сторону и сказал:
– Ты ушла навсегда,
За горою Смерти сокрылась.
А я в этом мире
Блуждаю, тоскою объятый,
И следы твои тщетно ищу…
Дамы не смели разворачивать письма и читать их, но немудрено было догадаться, чьи они, и горе овладело ими с новой силой. Когда-то госпожа писала, что не может более выносить разлуки, хотя тогда они жили в одном мире… А теперь могло ли что-нибудь остановить безудержный поток слез?
Гэндзи не стал подробно читать писем, опасаясь, что не сумеет справиться с волнением и дамы осудят его за неумение владеть собой. Взглянув лишь на одно из них, самое длинное, он написал на полях:
«Что толку смотреть
Теперь на травы морские?
Пусть и они
Легким дымком вознесутся
Туда же, к обители туч…»
После чего велел сжечь письма.
В том году Гэндзи с особым волнением прислушивался к голосам монахов, произносящих имена будд, к звону колец на жезлах. Не потому ли, что он в последний раз присутствовал на этой церемонии? Молитвы о ниспослании долголетия приводили его в сильнейшее замешательство. Да и как отнесутся к ним будды?
Несколько дней кряду шел снег, и вокруг было белым-бело. После окончания службы Гэндзи призвал к себе монахов и, выставив для них более щедрое, чем обычно, угощение, оделил богатыми дарами. Этих монахов, связанных с его домом и с высочайшим семейством, он знал давно и с грустью смотрел на их побелевшие головы. Как обычно, среди участников церемонии были принцы и высшие сановники.
Ветки сливы, на которых полураспустившиеся бутоны соседствовали со снежными хлопьями, были прекрасны. Казалось бы, подходящее время для музыки и танцев, но в этом году даже в звучании кото и флейт слышались Гэндзи сдавленные рыдания, поэтому решено было ограничиться стихами.
Да, вот еще что: передавая чашу монаху, Гэндзи произнес:
– Продлится иль нет
Моя жизнь до весны? Не знаю.
Не лучше ль теперь
Веткой сливы, белой от снега,
Украсить прическу свою?
– О том я молюсь,
Чтобы тысячу весен встретили
Эти цветы,
А мне на плечи года
Белым снегом ложатся… (368) —
ответил монах.
Было сложено немало других песен, но я позволю себе их опустить…
В тот день Гэндзи впервые нарушил свое затворничество. Его лицо поражало редкостной, совершенной красотой. Право же, сегодня он был еще блистательнее, чем в дни своей молодости, но почему-то монах, которому «на плечи года белым снегом ложились», не сумел удержаться от слез.
Год близился к концу, и все большее уныние овладевало Гэндзи.
– Пора изгонять злых духов, – волновался Третий принц. – Что мы станем делать, ведь они боятся только очень сильного шума.
«А ведь я и его больше никогда не увижу», – думал Гэндзи, и мучительная, неизъяснимая тоска сжимала его сердце.
Предавшись тоске,
Не заметил, как протекли
Дни, а за днями луны.
Не сегодня ль к концу подошел
И год, и мой срок в этом мире? (369).
Никогда еще наступление нового года не отмечалось в его доме с такой пышностью. Говорят, дары, пожалованные принцам и министрам, были так великолепны, что и вообразить невозможно…
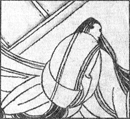
Назад: Великий закон
Дальше: Принц Благоуханный

