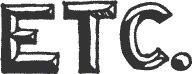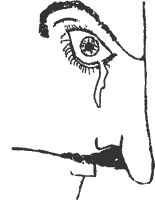Эпилог
Приемный покой «Скорой помощи» находился в подвале. После того как Килгору Трауту продезинфицировали и перевязали культю безымянного пальца, ему велели подняться в бухгалтерию. Надо было заполнить кое-какие листки, потому что в Мидлэнд-Сити он был приезжим, незастрахованным и совершенно без средств. Чековой книжки у него не было. Наличных денег тоже.
Как и многие другие, он заблудился в подвале. Как и многие другие, он прошел в двойные двери морга. Как и многие другие, он машинально погрустил о том, что и он смертен. Потом попал в пустующий рентгеновский кабинет. Он машинально подумал, а не растет ли в нем какая-нибудь пакость. И многие другие точно так же думали, проходя мимо рентгеновского кабинета.
Ничего такого, что не пережили бы миллионы людей на его месте, Траут сейчас не переживал – все шло автоматически.
Наконец Траут добрался до лестницы, но лестница была не та. Она вывела его не к выходу, не к бухгалтерии, не к сувенирному киоску – она провела его в то отделение, где люди поправлялись или не поправлялись после всяких несчастных случаев. Многих стукнуло об землю силой притяжения, которая ни на секунду не ослабевала.
Траут прошел мимо очень дорогой отдельной палаты, где находился молодой чернокожий, у него стоял белый телефон, и цветной телевизор, и коробка с конфетами, и масса цветов. Звали его Элджин Вашингтон, он был сутенером, работавшим при старой гостинице. Только недавно ему исполнилось двадцать шесть лет, но он уже был сказочно богат.
Посетительский час уже окончился, и все девицы – рабыни этого сутенера – ушли. Но от них остался сильнейший запах духов. Траут закашлялся, проходя мимо этой палаты. Это была автоматическая реакция на глубоко враждебный ему запах. Сам Элджин Вашингтон только что нанюхался кокаина, и его телепатическая сила, посылавшая и принимавшая всякие импульсы, необычайно усилилась. Он казался себе во сто раз крупнее, чем на самом деле, потому что со всех сторон к нему шли какие-то громкие необыкновенные сообщения. От этого гула он приходил в дикое возбуждение. Ему было все равно, о чем ему шумели.
И среди всего этого гула он вдруг заискивающим голосом позвал Траута:
– Эй, братец, эй, братец, эй! – Этим утром Кашдрар Миазма ампутировал ему ступню, но он все забыл. – Эй, братец, эй, братец! – звал он ласково. Ему ничего от Траута не требовалось. Но какой-то участок его мозга машинально подсказывал ему, как заставить чужого человека подойти. Он был ловцом человеческих душ. – Эй, братец, эй, братец! – позвал он Траута. Он блеснул золотым зубом. Он подмигнул одним глазом.
Траут встал в ногах его кровати. И вовсе не из сочувствия. Он снова стал автоматом. Как и многие другие земляне, Траут становился заводным болванчиком, когда патологические типы вроде Элджина Вашингтона приказывали им что-то сделать. Кстати, оба они, и Элджин и Траут, были потомками императора Карла Великого. Все, в ком текла хоть капля европейской крови, были потомками императора Карла Великого.
Элджин Вашингтон понял, что, сам того не желая, залучил в свои сети еще одну человеческую душу. Но не в его характере было отпустить человека так просто, не унизив его, не одурачив любым способом. Бывало, он даже убивал человека, чтобы его унизить. Но с Траутом он обошелся очень ласково. Он вдруг закрыл глаза, словно глубоко задумавшись, и серьезно сказал:
– Сдается мне, что я умираю.
– Я позову сиделку, – сказал Траут. Любой человек на его месте сказал бы то же самое.
– Нет, нет, – сказал Элджин Вашингтон и, словно отстраняя эту мысль, мечтательно повел рукой. – Я умираю медленно. Очень постепенно.
– Понимаю, – сказал Траут.
– Я прошу вас об одолжении, – сказал Вашингтон. Он сам не знал, чего ему просить. Но знал: сейчас что-то придумает. Он всегда придумывал, как что-нибудь выпросить.
– Какое одолжение? – сказал Траут растерявшись. Он насторожился: неизвестно, о каком одолжении шла речь. Такой он был машиной. И Вашингтон предвидел, что Траут насторожится. Каждое человеческое существо в такой ситуации автоматически настораживается.
– Хочу, чтобы вы послушали, как я свищу соловьем, – сказал Элджин. Он ехидно покосился на Траута: молчи, мол! – Особую прелесть пению соловушки, любимой птицы поэтов, придает еще то, что поет он только по ночам, – сказал он. И, как любой черный житель Мидлэнд-Сити, он стал подражать пению соловья.
Мидлэндский фестиваль искусств был отложен из-за безумных выходок Двейна. Фред Т. Бэрри, председатель фестиваля, приехал в больницу на своем лимузине в китайском наряде: он хотел выразить соболезнование Беатрисе Кидслер и Килгору Трауту. Траута нигде не нашли. Беатрисе впрыснули морфий, и она спала глубоким сном.
Но Килгор Траут предполагал, что фестиваль искусств откроется в этот вечер. Денег на проезд у него не было, и он поплелся пешком. Он шел через весь пятимильный Фэйрчайлдский бульвар туда, где в конце бульвара светилась крошечная янтарная точка. Это и был Центр искусств Мидлэнд-Сити. Светящаяся точка росла – Траут приближал ее к себе на ходу. Когда от его шагов она вырастет, она его поглотит. А там, внутри, его ждет еда.
Я хотел перехватить Траута и ожидал его кварталах в шести от Центра искусств. Сидел я в машине «плимут» модели «Дастер», которую я взял напрокат в гараже «Эвис» по членскому билету «Клуба гурманов». У меня изо рта торчал бумажный цилиндрик, набитый листьями. Я его поджег. Это был очень изысканный жест.
Потом я вышел из машины – размять ноги, и это тоже было весьма изысканно. Моя машина остановилась среди фабричных корпусов и складов. Уличные фонари горели слабо и стояли далеко друг от друга. Стоянки для машин пустовали, только кое-где виднелись машины ночных патрулей. На Фэйрчайлдском бульваре – когда-то главной проезжей магистрали города – теперь движения не было. Бульвар замер – вся жизнь теперь шла на автостраде и внутренней скоростной автостраде имени Роберта Ф. Кеннеди, проложенной на месте Мононовской железной дороги, ныне усопшей.
Усопшей.
В этой части города никто не ночевал. Ночью она превращалась в систему укреплений с высокими оградами, сигнализацией тревоги и сторожевыми собаками – эти машины могли загрызть человека.
Я вышел из своей машины, ничего не боясь. И это было глупо: писатель работает с таким опасным материалом, что, если он не соблюдает осторожности, на него в любую минуту, как гром среди ясного неба, могут обрушиться всякие ужасы.
На меня вот-вот должен был напасть доберман-пинчер. Он был одним из главных героев в раннем варианте этой книги.
Слушайте: звали этого добермана Казак. По ночам он охранял склад строительной компании братьев Маритимо. Дрессировщики Казака, то есть люди, объяснявшие ему, на какой он живет планете и какой он зверь, внушили ему, что Создатель вселенной повелел ему убивать все, что он может поймать, и при этом съедать добычу.
В раннем варианте этой книги я писал, что Бенджамин Дэвис, черный муж Лотти Дэвис – служанки Двейна Гувера, был дрессировщиком Казака. Он сбрасывал куски сырого мяса в яму, где Казак жил днем. На рассвете он заводил Казака в эту яму. На закате он орал на пса и швырял в него теннисными мячами. А потом выпускал его на волю.
Бенджамин Дэвис был лучшим трубачом Мидлэндского симфонического оркестра, но денег ему за это не платили, так что он должен был иметь постоянную работу. Он надевал на себя стеганую одежду, сшитую из старых армейских тюфяков и обкрученную проволокой, чтобы Казак его не загрыз. А Казак старался вовсю. Двор склада был сплошь усыпан клочьями тюфяка и обрывками проволоки.
И Казак старался убить любого, кто подойдет к решетке, которой была окружена его планета. Он бросался на человека, словно решетка и не существовала. И оттого решетка везде выпучивалась над тротуаром, будто изнутри по ней били пушечными ядрами.
Надо было бы мне приметить странную форму этой решетки, когда я вышел из машины и когда я изысканным жестом закурил сигарету. Надо было бы мне знать, что персонаж такой свирепости, как этот Казак, не так-то легко убрать из книжки.
Казак притаился за грудой бронзированных труб, которые в этот день братья Маритимо по дешевке купили у одного бандита. Казак собирался убить меня и даже сожрать.
Стоя спиной к решетке, я глубоко затянулся сигаретой. Эти сигареты постепенно убивали меня. С философической грустью я глядел на мрачные башни старого особняка Кидслеров по другую сторону бульвара.
Там выросла Беатриса Кидслер. Там были совершены самые знаменитые убийства в истории Мидлэнд-Сити. Уилл Фэйрчайлд, герой мировой войны и дядя Беатрисы Кидслер с материнской стороны, однажды, в 1926 году, вышел с винтовкой в руках. Он убил пятерых родичей, трех слуг, двух полисменов и всех зверей в домашнем зоопарке Кидслеров. А потом выстрелил себе прямо в сердце.
На вскрытии обнаружилось, что у него в мозгу была опухоль величиной с дробинку. Эта опухоль и была причиной всех убийств.
После того как Кидслерам во время Великой депрессии пришлось продать особняк, туда въехал Фред Т. Бэрри с родителями. Старый дом наполнился звуками голосов всех птиц Британской империи. Потом особняк перешел во владение города, и шли разговоры о том, чтобы открыть в нем музей, где дети могли бы изучать историю Мидлэнд-Сити по всяким стрелам и чучелам животных и всяким ранним поделкам белых людей.
Фред Т. Бэрри предложил пожертвовать полмиллиона долларов на организацию предполагаемого музея, но с одним условием: выставить там первую модель и первые рекламные плакаты «Робо-Мажика».
Этой выставкой он хотел показать, что и машины эволюционируют, так же как и животные, но только гораздо быстрее.
Я загляделся на особняк Кидслеров, совершенно не подозревая, что пес у меня за спиной, как вулкан, готов взорваться от ярости. Килгор Траут подходил по бульвару все ближе. Я как-то безразлично относился к его появлению, хотя нам и надо было очень серьезно поговорить о том, как я его создал.
Вместо этого я думал о своем деде со стороны отца – он был первым дипломированным архитектором в Индиане. Он спроектировал сказочные дворцы для миллионеров-«хужеров». Теперь на месте этих дворцов оказались похоронные бюро, клубы гитаристов, винные погреба и стоянки для автомашин. Я думал и о своей матери, о том, как она однажды во время Великой депрессии прокатила меня на машине по Индианаполису, чтобы поразить могуществом и богатством другого моего деда – ее отца. Она показала мне, где стоял его пивной завод, где были его сказочные дома. На их месте всюду оставались одни ямы.
Килгор Траут был уже совсем близко от своего создателя и замедлил шаг. Почему-то он меня испугался.
Я повернулся к нему так, что мои лобные пазухи, откуда посылают и где принимают все телепатические сигналы, оказались симметрично на одной линии с его лобными пазухами. И я несколько раз телепатически повторил: «У меня для вас есть хорошие вести».
И тут Казак прыгнул.
* * *
Я увидел Казака углом правого глаза. Его глаза были как фейерверк. Зубы – белые сабли. Слюна – синильная кислота. Кровь – нитроглицерин.
Он плыл, как цеппелин, лениво повисший в воздухе.
Мои глаза сообщили о нем моему мозгу.
Мозг немедленно передал эту весть в гипоталамус, велел ему передать гормон СБФ в короткие сосуды, связывающие гипоталамус с шишковидной железой.
От этого гормона железа послала другой гормон АКТГ в мою кровь. Эта железа накапливала свой гормон именно для таких случаев. А цеппелин приближался и приближался.
Часть гормона шишковидной железы достигла коры надпочечников, где на такой случай накапливались глюкокортикоиды. Надпочечник выделил эти вещества в кровь. Они растекались по всему моему телу, превращая гликоген в глюкозу. Глюкоза питала мышцы. Благодаря глюкозе я мог драться, как дикая кошка, или бегать, как олень.
А цеппелин приближался и приближался.
Мои надпочечники впрыснули в меня и дозу адреналина. Я весь покраснел, оттого что у меня подскочило кровяное давление. От адреналина сердце у меня заколотилось, как звонок сигнала тревоги. От него у меня волосы встали дыбом. А в кровь от адреналина поступили еще коагулянты, свертывающие ее, чтобы в случае ранения я не потерял всех жизненных соков.
Все это было вполне нормальной защитной реакцией человеческой машины.
А Килгор Траут смотрел на меня с некоторого расстояния, не зная, кто я такой, не зная ничего про Казака, не зная, как мое тело отреагировало на прыжок пса.
За этот день с Траутом много чего случилось, но день еще не кончился. Сейчас он увидал, как его создатель перепрыгнул через автомобиль.
Я упал на колени и на руки посреди Фэйрчайлдского бульвара.
Казак был отброшен решеткой. Земное притяжение подействовало и на него, как на меня. Его швырнуло на асфальт. На миг Казаку отшибло мозг.
Килгор Траут повернул назад. В испуге он поспешил обратно в больницу. Я стал звать его, но он пошел еще быстрее.
Тогда я вскочил в свою машину и погнался за ним. Я опьянел, как дурак, от адреналина, и коагулянтов, и всяких прочих веществ.
А Траут уже бежал рысцой, когда я стал его нагонять. Я рассчитал, что он делал около одиннадцати миль в час, что было великолепным достижением для человека его возраста. Он тоже был переполнен адреналином, и коагулянтами, и глюко – кортикоидами.
Окна у меня в машине были открыты, и я закричал ему вслед:
– Эгей, мистер Траут, эгей! Эгей!
Он замедлил шаг, услыхав свое имя.
– Эгей! Я вам друг! – крикнул я.
Он прошаркал еще шага два и остановился. Задыхаясь от усталости, он прислонился к ограде склада электроприборов компании «Дженерал электрик». Марка компании и ее девиз светились на ночном небе над дико озиравшимся Траутом. Девиз у компании был такой:
ПРОГРЕСС – НАША ГЛАВНАЯ ПРОДУКЦИЯ.
– Мистер Траут, – сказал я из темноты автомашины. – Вам нечего бояться. Я принес вам самые радостные вести.
Он не сразу отдышался, и поэтому ему было трудно вести беседу.
– Вы… вы от… от этого… ну… фестиваля искусств? – Глаза у него бегали.
– Я от Фестиваля Всего На Свете, – ответил я.
– Чего? – сказал он.
Я решил, что неплохо будет, если он увидит меня поближе. Я попробовал включить верхний свет в машине. Но вместо этого включил «дворники». Правда, я их сразу же выключил. Но свет от фонарей городской больницы расплывался у меня в глазах из-за воды, растекшейся по ветровому стеклу. Я дернул еще за одну кнопку. Кнопка осталась у меня в руках. Оказывается, это была зажигалка. Ничего не попишешь – пришлось мне разговаривать с Траутом из темноты.
– Мистер Траут, – сказал я. – Я писатель, и я создал вас для своих книг.
– Простите? – сказал он.
– Я ваш создатель, – сказал я. – Сейчас вы в самой гуще одного из моих романов, вернее, ближе к концу.
– М-м-м, – сказал он.
– Может быть, у вас есть вопросы?
– Простите? – сказал он.
– Пожалуйста, спрашивайте о чем хотите – о прошлом, о будущем, – сказал я. – А в будущем вас ждет Нобелевская премия.
– Что? – спросил он.
– Нобелевская премия по медицине.
– А-а, – сказал он. Звук был довольно невыразительный.
– Я также устроил, чтобы вас издавал известный издатель. Хватит всяких «норок нараспашку».
– Гм-м-м, – сказал он.
– На вашем месте я задал бы массу вопросов, – сказал я.
– У вас есть револьвер? – спросил он.
Я рассмеялся в темноте, снова попробовал включить верхний свет, но опять включил «дворники» для мытья стекол.
– Мне совсем не нужен револьвер, чтобы вами управлять, мистер Траут. Мне достаточно написать про вас что угодно – и готово!
– Вы сумасшедший? – спросил он.
– Нет, – сказал я. И я тут же разрушил все его сомнения. Я перенес его в Тадж-Махал, потом в Венецию, потом в Дар-эс-Салам, потом на поверхность Солнца, где я не дал пламени пожрать его, а уж потом назад в Мидлэнд-Сити.
Бедный старик упал на колени. Он напомнил мне, как моя мать и мать Кролика Гувера падали на колени, когда кто-нибудь пытался их сфотографировать.
Он весь сжался, и я перенес его на Бермудские острова, где он провел детство, дал ему взглянуть на яйцо-болтун бермудского орлана. Потом я перенес его оттуда в Индианаполис, где провел детство я сам. Там я повел его в цирк. Я показал ему человека с локомоторной атаксией и женщину с зобом величиной с тыкву.
Потом я вылез из машины, взятой напрокат. Вышел я с шумом, чтобы он хотя бы услыхал своего создателя, если уж он не хотел его увидеть. Я сильно хлопнул дверцей. Обходя машину, я нарочно топал ногами и шаркал подошвами, чтобы они поскрипывали.
Я остановился так, чтобы носки моих ботинок попали в поле зрения опущенных глаз Траута.
– Мистер Траут, я вас люблю, – сказал я ласково. – Я вдребезги расколотил ваше сознание. Но я хочу снова собрать ваши мысли. Хочу, чтобы вы почувствовали себя собранным, исполненным внутренней гармонии – таким, каким я до сих пор не позволял вам быть. Я хочу, чтобы вы подняли глаза, посмотрели, что у меня в руке.
Ничего у меня в руке не было, но моя власть над Траутом была столь велика, что я мог заставить его увидеть все, что мне было угодно. Я мог, например, показать ему прекрасную Елену высотой в шесть дюймов.
– Мистер Траут… Килгор, – сказал я. – У меня в руке символ целостности, гармонии и плодородия. Этот символ по-восточному прост, но мы с вами американцы, Килгор, а не китайцы. Мы, американцы, всегда требуем, чтобы наши символы были ярко окрашены, трехмерны и сочны. Больше всего мы жаждем символов, не отравленных великими грехами нашей нации – работорговлей, геноцидом и преступной небрежностью или глупым чванством, жаждой наживы и жульничеством. Взгляните на меня, мистер Траут, – сказал я, терпеливо ожидая. – Килгор…
Старик поднял глаза, и лицо у него было исхудалое и грустное, как у моего отца, когда он овдовел, когда он стал старым-престарым человеком.
И Траут увидал, что я держу в руке яблоко.
– Скоро мне исполнится пятьдесят лет, мистер Траут, – сказал я ему. – Я себя чищу и обновляю для грядущей, совершенно иной жизни, которая ждет меня. В таком же душевном состоянии граф Толстой отпустил своих крепостных. Томас Джефферсон освободил своих братьев. Я же хочу дать свободу всем литературным героям, которые верой и правдой служили мне в течение всей моей литературной деятельности.
Вы – единственный, кому я об этом рассказываю. Для всех остальных нынешний вечер ничем не будет отличаться от других. Встаньте, мистер Траут, вы свободны.
Пошатываясь, он встал с колен.
Я мог бы пожать ему руку, но правая его рука была изранена, и наши руки так и повисли в воздухе.
– Bon voyage, – сказал я. И я исчез.
Лениво и легко я проплыл в пустоте – я там прячусь, когда дематериализуюсь. Голос Траута звучал все слабей и слабей, и расстояние меж нами росло и росло.
Его голос был голосом моего отца. Я слышал отца – и я видел мою мать в пустоте. Моя мать была далеко-далеко от меня, ведь это она оставила мне в наследство мысли о самоубийстве. Маленькое ручное зеркальце – «лужица» – проплывало мимо меня. У него была ручка и рамка из перламутра. Я легко поймал его и поднес к своему правому глазу – он выглядел так:

Вот что кричал мне Килгор Траут голосом моего отца:
– Верни мне молодость, верни мне молодость! Верни мне молодость!