Империя
Ну и конечно, главный герой драмы, разыгравшейся вокруг сокровищ Агры, – викторианская империя. Собственно, глубинным сюжетом «Знака» является постепенное обнажение механизма работы этой империи, функционирования ее государственного аппарата и устройства общества. Картина, открывающаяся внимательному читателю, который даст себе труд задуматься об описанных в повести событиях, довольно страшная.
Назову только две из нескольких главных черт устройства викторианской империи согласно «Знаку четырех».
1. Это система с отсутствующим центром тяжести. В политическом и юридическом представлении XIX века таким центром должно быть государство и обеспечиваемый им закон; в социальном – средний класс; в экономическом – производство товаров и торговля; в идеологическом – представления о справедливости, об идеальном обществе и даже некоторый образ будущего. Ничего этого в мире «Знака четырех» просто нет. Государство представлено жуликами, изменниками и тупицами. Закон применяется только к тем, кто подвернется под руку; действие его избирательно и почти случайно. Средний класс тоже почти отсутствует; зажиточный майор Шолто преступник, его «нормальный» сын убит, другого, «ненормального», вряд ли можно отнести к типичным представителям среднего класса. Наоборот, достойные обыватели с сознанием буржуа, вроде доктора Ватсона, собственными силами попасть туда не могут; старшему брату Ватсона тоже не удалось. С экономикой в «Знаке четырех» дела обстоят еще хуже. Здесь почти полностью отсутствует «конвенциональный труд». Деньги – да и то скромные – здесь зарабатывают содержанием городского зверинца, арендой катера (в конце концов, затея в итоге провалится из-за неразборчивости Смита-старшего), беспризорные дети промышляют слежкой, Мэри Морстен замуровала себя в роли компаньонки старой дамы, ведь иначе девушке просто не выжить. Перед нами то, что сегодня назвали бы «экономикой сервиса» – производство услуг, а не классическое производство индустриальной эпохи. Но главное другое – никакая «экономика сервиса» викторианской Британии не может вознаградить своих работников преуспеянием, роскошью, величием (которые понимаются как смесь крайней экзотики и невыносимой вульгарности). В этом мире богатство – экзотика; и особенно экзотично его происхождение. Богатство есть колониальный клад, который в силу ряда запутанных кровавых обстоятельств оказался в метрополии. Второй (хронологически, а согласно нарративу – первый) акт этой драмы происходит уже в Британии – и заканчивается потерей богатства. Скромная жизнь героев остается почти столь же скромной; сокровища прошли как бы стороной. Собственно, это удивительное предвидение того, что произойдет с Великобританией после распада империи: господство «экономики сервиса», страна, битком набитая выходцами из колоний; мир, населенный «бывшими людьми», эстетами-кокаинистами и декадентами. Ну и конечно, это мир, населенный людьми, совершенно дезориентированными морально; справедливость и другие похвальные качества можно обнаружить только случайно – да и то у людей, которых в обычной жизни сложно заподозрить в наличии оных.
2. Иными словами, это странный мир, существующий только по краям, только на поверхности, ad marginem. Сердцевина его пуста, ни намека на «буржуазные ценности», на религию, общественную мораль и патриотизм, ничего. В то же время такой мир невероятно устойчив – наверное, оттого, что (немного переиначивая великую борхесовскую притчу о сфере Паскаля) поверхность его везде, а центр нигде. Да, это по-прежнему Викторианская эпоха, но в «Знаке четырех» викторианизм не торжествующий, рациональный и полный позитивистского оптимизма, отнюдь. Перед нами драма позднего викторианизма, растерявшегося, шизофренического, утратившего ясные ориентиры, стыдящегося своей былой (да и настоящей тогда еще) мощи (и особенно ее источника – индустрии и больших городов), прячущегося в крайний эстетизм и экзотизм, предчувствующего свой конец. Поздний викторианизм, как он явлен нам в «Знаке четырех», – есть триумф края, поверхности, победа колонии над метрополией. Но ведь это Оскар Уайльд сказал, что только поверхностные люди не судят по внешности (то есть поверхности). Артур Конан Дойль был всего на четыре года младше Уайльда, они вместе обедали в августе 1889-го и печатались в одном издании.
Прощание в Эссексе
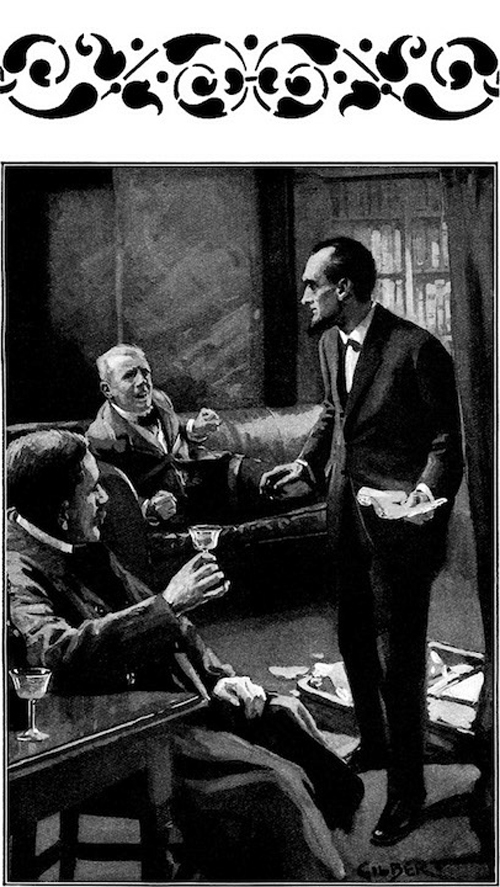
«Опытные бойцы французских и британских подразделений уже вели боевые действия, так что свободных войск для спасения города под рукой не оказалось, а недавно сформированные части еще не были готовы к отправке на фронт. В таких обстоятельствах британские лидеры приняли решение, невероятно отважное, на грани спешки столь великодушное, что его можно счесть почти донкихотским. Решено было срочно послать дивизию, одна бригада которой состояла из непревзойденных в британских вооруженных силах морских пехотинцев, а две другие – из юных добровольцев-моряков, большинство из них надели военную форму несколько недель назад. Этот необычный эксперимент продемонстрировал следующее: стоило спортивному, здраво рассуждающему британцу получить солдатское обмундирование, как он – несмотря на всю свою неопытность и отсутствие сноровки – может повлиять на ход кампании. Странное войско, на треть старослужащее, на две трети новобранское, поспешило через пролив, чтобы сделать все возможное для спасения города и показать Бельгии, насколько реальна наша симпатия к ней, – ведь только симпатия могла заставить нас отправить на ее защиту все, что у нас было».
За два месяца до описываемых событий автор этого отрывка, посвященного осаде Антверпена германскими войсками осенью 1914 года, потребовал, чтобы его немедленно записали в добровольцы. На тот момент ему было 55 лет; он написал в военное ведомство: «Думаю, я могу утверждать, что имя мое хорошо известно молодым людям этой страны, оттого, если меня в моем возрасте запишут в добровольцы, это подаст им полезный пример. ‹…› Мне пятьдесят пять, но я очень силен и вынослив, обладаю звучным голосом, слышным на большом расстоянии, что может пригодиться для строевых учений».
Просьба не была удовлетворена, Артуру Конан Дойлю пришлось служить своей стране другими способами, прежде всего в качестве писателя-патриота и активного деятеля местного самоуправления. Перед концом войны, в 1918-м, от ранений погиб его сын, а годом раньше писатель, всегда считавший себя агностиком, стал проявлять интерес к спиритизму. В том же 1917-м опубликован сборник рассказов о приключениях Шерлока Холмса «Его прощальный поклон». Несмотря на название, это не последняя книга о частном сыщике; «Архив Шерлока Холмса» вышел в свет ровно через десять лет, в 1927-м, и состоял из историй, написанных уже после Первой мировой. Что касается «Прощального поклона», то здесь как раз почти все рассказы старые, все напечатаны до рокового 1914-го, кроме одного. Рассказ-исключение и стал объектом нижеследующего рассуждения.
Это самая странная – и в какой-то степени самая неудачная – история о Холмсе и Ватсоне. В первый и последний раз повествователем является не доктор и даже не сыщик, а литературно натасканный Господь, который все знает, обо всем догадывается, может воспроизвести мельчайшую деталь. Собственно, не нейтральный фиксатор событий и реплик третьего лица единственного числа, а тот, кто претендует на авторство и владение миром. Подобный нарратор несовместим с детективным жанром – единственно, где его можно выносить, так это у Честертона, но Честертон на самом деле не про убийства и кражи. Он – про соотношение рацио и веры, про томистскую теологию и про католического Бога. Иными словами, приключения отца Брауна сложно записать в образцы чистого жанра. В обычном же, классическом, детективе повествователь не должен знать всего, он удивляется происходящему, заблуждается – и одновременно пугает и удивляет читателя. Поэтому лучшие истории о Холмсе написаны Ватсоном; что же до похождений Эркюля Пуаро, то они не литературны, а кинематографичны: нам показывают, а не рассказывают, что происходит. Но в «Его прощальном поклоне» – а именно так называется заключительный рассказ в одноименном сборнике – все совсем не так.
На самом деле это даже и не детектив, а шпионская история, причем скверная. Некто фон Борк под видом провинциального английского сквайра немецкого происхождения несколько лет ведет разведывательно-подрывную работу. Он похитил немало секретных военных документов, набросил на Великобританию сеть тайных агентов – и вот теперь, стоя на террасе своего дома, рассказывает об этом секретарю германского посольства в Лондоне, барону фон Херлингу, который специально приехал навестить фон Борка в Эссекс накануне великих потрясений. Немцы ведут неторопливую беседу о британцах (на самом деле – англичанах), мол, их легко обманывать, но они имеют-таки некую внутреннюю черту, а вот уже через нее – ни-ни, не перейти. Фон Борк демонстрирует фон Херлингу свое шпионское хозяйство: сейф со специальным замком, секретные документы и прочее. Разговор насыщен начинающейся войной; весь мир обречен быть поверженным Германией, даже Британия, вне зависимости от того, вступит она в войну прямо сейчас, 2 августа 1914 года, или же нет. На самом деле Британия отправила в Берлин ультиматум вечером 4 августа и – не получив ответа (или сделав вид, что не получила) – с полуночи 5 августа оказалась в состоянии войны с Германской империей и ее союзниками.
Но вернемся к «Прощальному поклону». Фон Херлинг уезжает в Лондон на своем мощном стосильном «бенце», чуть не врезавшись на повороте в скромный «форд», который пробирался по сельской дороге. За рулем «форда» немолодой, плотный, усатый джентльмен, он везет другого, высокого, худого, тоже немолодого, с козлиной бородкой. Последнего-то фон Борк и ждет весь вечер с нетерпением – это ирландец Олтемонт, агент немцев, пламенный ненавистник англичан, тот, кто добывает самые секретные документы для шпиона, именно для него фон Борком приготовлена драгоценная бутылка выдержанного токая.
Впрочем, последующая беседа не носит особенно дружественного характера. Олтемонт подозревает фон Борка: ему кажется, что тот сдает англичанам своих агентов, потом он вообще обвиняет заказчика в желании его одурачить. Наконец сделка все-таки завершена, привезенные Олтемонтом секретные бумаги переходят в руки фон Борка, а чек на пятьсот фунтов – в лапы ирландского американца. За сим следует распитие токая, после чего наступает апофеоз. Фон Борк вскрывает привезенный Олтемонтом пакет с секретными бумагами, а там – о ужас! – лежит брошюра под названием «Практическое руководство по разведению пчел». Особенно возмутиться шпион не успевает: в вино подмешано снотворное и фон Борк преспокойно засыпает на собственном диване. На сцене появляется плотный усатый водитель «форда», мы узнаем в нем старого (уже на самом деле старого) доброго доктора Ватсона. Олтемонт оказывается Холмсом, все хорошо, порок наказан, добродетель торжествует, враги одурачены. «Форд» везет связанного фон Борка в Лондон, в лапы британской контрразведки, по ходу несчастный шпион узнает имя того, кто обвел его вокруг пальца. Рачительный Холмс торопится – ему надо успеть обналичить чек до того, как «тот, кто его выдал» не откажет в платеже. Sapienti sat – речь здесь, конечно, идет о Германской империи. Патриотизм патриотизмом, но лишние деньги не помешают отставному детективу, занимающемуся на покое разведением пчел в Сассексе. Кстати, брошюрку про пчеловодство Холмс написал и издал сам.
Рассказ действительно скверный, кажется даже странным, что такой мастер, как Конан Дойль, вообще сочинил его. Читатель заранее знает, кто злодей. Ему уже сказали, что дело происходит накануне вступления Британии в войну и что война станет «великой», – отсюда тяжеловесные благоглупости в духе не написанной тогда еще «Белой гвардии»: «Было девять часов вечера второго августа – самого страшного августа во всей истории человечества. Казалось, на землю, погрязшую в скверне, уже обрушилось Божье проклятие, – царило пугающее затишье, и душный, неподвижный воздух был полон томительного ожидания. Солнце давно село, но далеко на западе, у самого горизонта, рдело, словно разверстая рана, кроваво-красное пятно. Вверху ярко сверкали звезды, внизу поблескивали в бухте корабельные огни».
Читатель видит мир на пороге катастрофы – и перед ним разворачиваются несколько сцен, которые можно отнести как к старой, человеческой, мирной, довоенной жизни, так и к новой, бесчеловечной. Сколь бы избитыми и банальными ни были литературные уловки автора, он зачем-то их совершает. Зачем? Именно для того, чтобы показать: да, мы на переходе, осталось полшага, даже четверть, до апокалипсиса. И истинный сюжет, если мы можем так назвать неявный, но важный для Конан Дойля месседж, заключается в том, чтобы продемонстрировать, как в старом мире родилась страшная беда нового и как в новом мире пытаются остаться собой люди старого. Дешевый символизм и напыщенно-торжественный слог в данном случае лишь прикрытие для того, что сам Конан Дойль думал о войне и мире в 1917 году.
Не забудем, «Прощальный поклон» – единственный рассказ о Холмсе, сочиненный им во время Первой мировой. Более того, эта история специально написана в 1917 году как актуальный финал сборника старых вещей. Рассказ называется «Его прощальный поклон» – но на самом деле поклон отвешивает не Шерлок Холмс, а довоенный мир, в котором действовал Холмс; мир, населенный преступниками, обывателями, полицейскими, роскошными оперными дивами, бессмысленными аристократами и одинокими девушками, страдающими от опекунов. Собственно, предыдущие рассказы сборника являют именно старый добрый мир, где бурлят человеческие страстишки, где сильно пьющие моряки отрезают уши своим женам и их любовникам, где зловещие жулики пытаются заживо похоронить накачанную эфиром богатую вдову в двойном гробу, вместе с настоящим трупом, где любовь оказывается сильнее американской мафии, наконец, где даже шпионаж имеет отчетливый характер персонального авантюризма и где нет ничего национально-патриотического. В этом мире Холмс с Ватсоном как рыбы в воде: они сами по себе, государство само по себе, ничего, кроме взаимного уважения и требования соблюдать приличия и кое-какие правила, обе стороны на себя не берут. А тут вдруг все иное – развеселый спортсмен-любитель оказывается коварным шпионом другого государства, одиночку Холмса вообще завербовали в контрразведку; перед интересами страны, державы, империи меркнут личная свобода и независимость. Катастрофа уже здесь – и даже идиллические огни портового Хариджа скоро будут другими – их, если верить фон Херлингу, разбомбят цепеллины.
Но если бы месседж Конан Дойля был только в этом, не стоило городить жалкую историю про зловещего шпиона, который в 1911 году «опустился, как перелетный орел» у «подножия величественного мелового утеса» в графстве Эссекс. Нет, писатель явно пытался понять, что произошло – со страной, миром и с ним самим в отношении первых двух. И здесь требуется небольшое биографическое отступление.
Артур Конан Дойль всегда был британским патриотом – заметим, именно британским, не английским. Он служил своей империи во время бурской войны, написав после этого книгу, за которую его даже возвели в рыцарское достоинство. Его писательское альтер эго – доктор Ватсон – безмятежно любит свою страну. В 1911 году Конан Дойль вместе с женой принял участие в британо-германском автозабеге «Тур принца Генриха», в котором соревновались не столько водители, сколько автомобили двух стран. Писателя поразила враждебность немцев по отношению к Британии и ее подданным, еще более неприятно его удивили бесконечные разговоры о неизбежной войне, которые вели бравые прусские технократы с вильгельмовскими усами. Вернувшись, он принялся за дело. Конан Дойль пытался обратить внимание на опасность подводной войны, которая может блокировать Британию. Он стал большим энтузиастом прокладки тоннеля под Ла-Маншем, чтобы избежать такой блокады. Более того, потом ходили слухи, что идею использовать маленькие субмарины немецкие стратеги почерпнули именно у Конан Дойля. Вряд ли, конечно, но, даже будучи беспочвенными, эти разговоры явно дошли и до самого писателя, укрепив в убеждении, что его слово весит немало в этом мире.
Конан Дойль старался воздействовать на государственную политику как джентльмен и убежденный демократ. Его занимала возможность персонального вклада в торжество своей страны, а не роль кусочка мяса (пусть даже вырезки) в тотальной мясорубке. Он помогал Британии как Артур Конан Дойль, а не как анонимный патриот. Более того, он верил в могущество прессы и общественного мнения – причем просвещенного общественного мнения. Иными словами, он хотел быть соучастником, а не инструментом.
Когда началась война, Конан Дойль, потерпев фиаско с вербовкой в армию, принялся за организационные хлопоты – и одновременно взялся за перо. В Сассексе он создает местные добровольческие дружины, однако военное министерство запретило аматёрщину, и отряд защитников малой родины вошел в состав 6-го Королевского полка сассекских добровольцев. Писателю предложили в нем офицерский чин, но он отклонил предложение и остался рядовым. На литературном фронте Конан Дойль затеял многотомную «Британскую кампанию во Франции и Фландрии» – но и здесь потерпел неудачу. В годы войны публика предпочитала «быстрые» новости с фронтов, а после окончания Первой мировой никто не хотел вспоминать пережитый ужас. Хлопотал Конан Дойль и о более практических вещах – в частности, заставил Адмиралтейство снабдить военных моряков индивидуальными средствами спасения на воде, тоже, кстати, используя прессу.
Конан Дойля занимал процесс, механизм превращения мирного добропорядочного члена общества в солдата – причем так, чтобы тот не растерял свои довоенные качества. Отсюда и странный пассаж в описании боев под Антверпеном: «Стоило спортивному, здраво рассуждающему британцу получить солдатское обмундирование, как он – несмотря на всю свою неопытность и отсутствие сноровки – может повлиять на ход кампании».
Это не джингоизм – это вера в правильность британского социального порядка, превращающего достойных граждан в достойных воинов и наоборот, как в Древних Афинах. Судя по всему, персональная катастрофа Артура Конан Дойля произошла именно здесь, в этом пункте – ведь в окопной войне, когда армии теряли сотни тысяч бойцов, практически не двигаясь с места, нужны были не граждане, не люди, а пушечное мясо. К 1917 году Конан Дойль это понял – и написал «Его прощальный поклон». Тогда же он заинтересовался спиритизмом, будто теперь возникла необходимость вызывать дух умершего человека эпохи классического буржуазного индивидуализма.
Самое загадочное как в Первой мировой войне, так и в рассказе «Его прощальный поклон» – за что и зачем воюют британцы с немцами, зачем вообще воюют. Если оставить в стороне рассуждения на тему «раздел рынков сбыта и источников сырья» (давно уже оставленные думающими историками) и идеологическую лирику о «демократической Антанте» vs. «феодально-автократическом Тройственном союзе» (сравним чудовищную с этой точки зрения Российскую империю с самым идеальным государством в европейской истории – Австро-Венгрией), то остается развести руками и начать спекулировать на тему мистического «коллективного самоубийства старой Европы». Сенегальский солдат французской армии, протыкающий штыком вестфальского учителя математики из-за того, что сумасшедший боснийский серб застрелил немолодого австрийского принца, – все это выглядит абсурдистским примером из задачника по формальной логике, но не событием в жизни Европы столетней давности.
Самое смешное, что подобное (выдержанное в эстетике Хармса) вавилонское кровопускание было в какой-то степени результатом господства в европейских делах так называемой Realpolitik. Так и в литературе того времени из тяжкозадого, озабоченного отражением «реального мира» реализма вырос самодостаточный модернизм (и даже летучий авангард). В этом смысле Первая мировая стала типичным явлением Нового времени, только – по сравнению с изданием «Улисса» или постановкой «Весны священной» – чересчур уж масштабным. И, на самом деле, тупым.
В «Прощальном поклоне» нет ни грана шовинизма и пропагандистского дурновкусия. Известно, что происходило даже с большими писателями и поэтами, когда им предлагали поработать на оборонку. Георгий Иванов в 1914-м умудрился сочинить про немцев такое:
Насильники в культурном гриме,
Забывшие и страх и честь,
Гордитесь зверствами своими,
Но помните, что правда есть.
Сергей Городецкий предложил более задушевный (но не менее графоманский) вариант описания военных действий (очень напоминающий позднейшее «На поле танки грохотали»):
Пролив белел в ночном тумане,
И чайки подымали крик,
Когда взлетели англичане
И взяли курс на материк.
Даже Михаил Кузмин не удержался и изложил свою версию военного патриотизма, нелепо лирическую, в духе позднейших же садистских частушек:
Мой знакомый – веселый малый,
Он славно играет в винт,
А теперь струею алой
Сочится кровь через бинт.
Конан Дойль – джентльмен, оттого ничего подобного он себе не позволяет, никаких «насильников в культурном гриме». В «Прощальном поклоне» джентльмены-немцы против джентльменов-британцев, одни джентльмены выигрывают у других, fair play. Фон Борк умен и хитер, но Холмс, прикинувшись Олтемонтом, оказывается и умнее, и хитрее. Более того, это люди одной космополитической социальной группы: Холмс по дороге в Лондон предлагает одураченному немцу узнать, кто же его одурачил, и принимается перечислять услуги, оказанные им разным германским аристократическим фамилиям:
«– В общем, это несущественно, но, если вы уж так интересуетесь, мистер фон Борк, могу сказать, что я не впервые встречаюсь с членами вашей семьи. В прошлом я распутал немало дел в Германии, и мое имя, возможно, вам небезызвестно.
– Хотел бы я его узнать, – сказал пруссак угрюмо.
– Это я способствовал тому, чтобы распался союз между Ирен Адлер и покойным королем Богемии, когда ваш кузен Генрих был посланником. Это я спас графа фон Графенштейна, старшего брата вашей матери, когда ему грозила смерть от руки нигилиста Копмана. Это я…
Фон Борк привстал, изумленный.
– Есть только один человек, который…
– Именно, – сказал Холмс».
Лишь один раз в небезынтересную беседу этих членов космополитического европейского клуба затесалась другая жизнь – жизнь обычных людей, «не джентльменов», которые могут позволить себе всякую шовинистическую чушь и даже неделикатность, чтобы, впрочем, потом безропотно сгнить в окопах. Этим людям, толпе – пусть и в безмятежной деревенской Англии – в те дни дозволено многое, даже суд Линча:
«– Если я вздумаю позвать на помощь, когда мы будем проезжать деревню…
– Дорогой сэр, если вы вздумаете сделать подобную глупость, вы, несомненно, нарушите однообразие вывесок наших гостиниц и трактиров, прибавив к ним еще одну: „Пруссак на веревке“. Англичанин – создание терпеливое, но сейчас он несколько ощерился, и лучше не вводить его в искушение».
Согласимся: здесь Холмс совершает faux pas, фон Борк не стал бы грозить пленнику дикими нравами гроссбауэров.
Несмотря на эту небольшую, но выразительную оплошность (в которой явлен наступивший цайтгайст), Холмс на высоте. Ему удалось то, что не вышло у Конан Дойля, – он послужил родине, не перестав быть одиночкой. В его сознании патриотизм явно занимает не главное место. Холмс не мобилизован, не призван, а попрошен, даже упрошен, причем не кем-нибудь, а премьер-министром. Холмс не просто служит родине – он получает редкое интеллектуальное удовольствие, переиграв большого умницу и хитреца фон Борка. Кажется, его даже не очень интересует общий военно-политический результат интриги – ведь, если вдуматься, британцам стоило оставить германские власти в неведении относительно того, что их главный агент провалился и что вся полученная до того развединформация – полная чушь. Не арестовывать фон Борка нужно было, а приставить к нему охрану и всячески лелеять. Только тогда присланным шпионским материалам будут верить в Берлине. Но Холмсу такой разворот скучен, ему по душе театральное разоблачение, срывание масок, сбривание американской козлиной бородки Олтемонта, торжественный бокал трофейного токая – иначе зачем было вызывать старого Ватсона в качестве водевильного cameo?
И последнее. Пятьсот фунтов. Рационализм, нет, строгий прагматизм – одно из базовых свойств индивидуалиста времен рассвета буржуазной эпохи. Если фон Борк дает тебе чек на пятьсот фунтов перед тем, как быть тобою же разоблаченным, не заработал ли ты эти немаленькие деньги? Конечно, заработал. «Они мои», – подумал Шерлок Холмс и попросил Ватсона побыстрее ехать в Лондон, чтобы успеть обналичить чек до того, как его страна вступит в мировую войну.
Здесь, в «форде», который мчится по сельской дороге, Конан Дойль расстается с Шерлоком Холмсом (последний сборник рассказов носит ретроспективный, архивный характер – см. его название). Писатель шагнул в другую эпоху, где ему оставалось жить тринадцать лет, где можно было утешать себя спиритическими сеансами и долгими путешествиями в Африку. В новых временах Шерлоку Холмсу места уже не было – он остался там, во 2 августа 1914 года, на побережье графства Эссекс. Сослужив службу своей стране, разоблачив шпиона в джентльмене, прихватив свой театральный гонорар, Холмс отвесил публике прощальный поклон и исчез. Остался Конан Дойль, которому пришлось понять, что отныне цениться будут иные свойства, которых, к счастью, у него нет. Эпоха разумного, рационального, благородного, сдержанного патриотизма кончилась, так и не начавшись.

