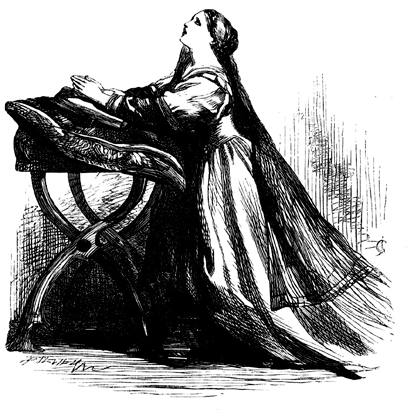Господи, как ты переменился!
Как они играли на самом деле, до сих пор не вполне ясно. К примеру, существует мнение, что в елизаветинском театре соперничали традиционализм и реализм. Имелся ли в запасе у актеров только набор чисто технических приемов или они использовали теперь более естественные способы контакта со зрителем? В опубликованных отзывах о Бербедже, например, подчеркиваются его естественность и живость. Его метод называли «перевоплощением»; считалось, что с помощью «выразительных действий» характер героя «оживает» на сцене и действие претворяется «в жизнь». Эта манера исполнения «симулировала» страсти, стараясь избегать того, что было известно как «пантомимическая игра».
Шекспир часто обращается к тому, что определенно считалось старомодным стилем исполнения, — когда актеры пилили руками воздух, топали по сцене, прерывали речь вздохами и таращили глаза, изображая страх. Старая манера предписывала расхаживать по сцене с важным видом. Слово ham (лядвея, ляжка), обозначавшее плохую игру, образовалось от ham-string (подколенное сухожилие) — у актера, неестественно вышагивавшего по сцене, обнажалась подколенная область. Ясно, что подобная походка должна была сопровождаться напыщенной речью. Томас Нэш описывал это как «шумогромогласие и показуху с выкрутасами».
Стиль игры Бербеджа можно было описать как сдвиг от показной символики к имитации. В ранний период главной целью актера было представить на сцене страсть; вероятно, Бербедж с актерами его окружения начали внедрять такой стиль игры, при котором страсть дóлжно было прочувствовать и выразить. Этот новый акцент соотносился с развитием индивидуализма в социальной и политической жизни.
Влияние шекспировских пьес на современников можно объяснить новой, основанной на эмоциях игрой, которую практиковали Бербедж и его коллеги. Возможно, он стал писать в новом стиле, отражающим внутренний мир героев, потому, что были актеры, готовые играть в такой манере. Шекспира отличает от его предшественников выраженный индивидуализм его персонажей. Это тоже могло быть следствием новой манеры исполнения. Хотя не стоит забывать, что труппа исполняла и другие пьесы, сочиненные в расчете на более привычное исполнение и жестикуляцию.
Конечно, представление о естественности меняется с приходом каждого нового поколения. В шестнадцатом веке существовали «Правила, определяющие, что считать естественным». С уверенностью можно сказать лишь то, что Шекспир владел языком психологии того времени. От актеров требовалось, по словам современного им драматурга, «очертить каждый персонаж» так, чтобы «его натуру можно было верно распознать». Под «натурой» подразумевался темперамент героя. Cангвиник он или холерик, флегматик или меланхолик — каждое из этих качеств требовало традиционного раскрытия образа. Целью актера шестнадцатого столетия было воплотить какое-то чувство или набор чувств в определенном характере. Например, в большинстве коллизий елизаветинского театра рассматривается противоборство человеческого рассудка и страсти со всеми комическими либо трагическими последствиями. Для актера также было важно суметь разыграть «повороты» или «перепады», когда одно чувство вдруг внезапно сменяется другим. Актеры играли роли, а не живых людей. Вот почему на сцене обрели такую популярность «двойники», а мальчики-актеры отлично подходили для женских ролей; зрители видели несоответствие пола, но больше их занимало развитие действия. Поэтому у персонажей пьес того времени очень мало «мотивации» или «развития образа», если они вообще есть. Почему Яго — злодей? Почему Лир разделил королевство? Почему ревнив Леонт? Таких вопросов не возникает. В то время не было потребности в реализме в его современном понимании; поэтому действие пьес Шекспира могло располагаться в самых отдаленных или заколдованных местах.
Так, нынешняя аудитория была бы, несомненно, удивлена количеством формальных приемов, сопровождающих все виды елизаветинского театрального действа. Временами они могли бы показаться смехотворными или карикатурными. То, что в «Глобусе», да и повсюду, ставили по шесть новых пьес в неделю, предполагает постановку «на скорую руку», что воспринималось актерами как нечто само собой разумеющееся.
Импровизация называлась «thribbling». Актеры вставали рядом или друг против друга, как предписывала традиция. Были испытанные условные способы выражения любви или ненависти, ревности или смущения. Для актера было совершенно естественным обратиться к аудитории или к самому себе, но скорее в формальной, нежели доверительной или разговорной манере. Хорошо отрепетированные монологи сопровождались традиционной жестикуляцией. Сцена освещалась только дневным светом, и актеру, чтобы выразить те или иные чувства, приходилось напускать на лицо нарочитое и искусственное выражение. Актеру рекомендовалось «смотреть прямо в лицо партнеру». Зритель, побывавший на представлении «Отелло» в 1610 году, вспоминает, что «зрители, глядя на распростертое на кровати тело убитой мужем Дездемоны, испытывали к ней жалость лишь благодаря выражению ее лица». И все же подобные эффекты сопровождались в «Глобусе» столь высокой поэзией и словами столь захватывающими, что они околдовывали зрителей.
В то же время следует отметить размеры аудитории, насчитывавшей даже не сотни, а тысячи зрителей. О камерности не могло быть и речи. Действие было живым, оглушающим и захватывающим. По некоторым сохранившимся текстам ясно, что они слишком длинные и актеры должны были говорить очень быстро, чтобы уложиться в три или даже два часа. Представление было живым и энергичным. Голоса звучали в полную силу и громко без всяких технических ухищрений, речь была отчетливой и звучной. Само слово acting (выступление, сценическая игра) в старину обозначало действия человека, произносящего речь, и на сцене все еще требовались определенные ораторские способности. Поэтому Ричард Флекноу утверждал, что Бербеджу «присущи все свойства превосходного оратора» (он слова оживляет речью, а речь — действием). Бербедж знал, например, как изменить высоту голоса или тона; умел сокращать или удлинять слова, подчеркивая их эмоциональную выразительность. Его исполнение могло быть ритмичным или «музыкальным», явно отличным от ритмов современной ему речи. Шекспир часто использует очень короткие предложения, ставя их в ряд одно за другим, — риторический прием, называемый «стихомифия» (stichomythia). Это требует чрезвычайной театрализации диалога. В елизаветинском театре не было такого понятия, как «нормальный» голос, и практически невероятно, чтобы на сцене звучал современный вариант диалога.
Каждому оратору было известно, что движения и жестикуляция важны не меньше голоса. Техника движений оратора называлась «visible eloquence» — «видимое красноречие» или «красноречие тела». Сюда входили «изящные и чарующие движения», когда голова, руки и тело включаются в общий спектакль. Большинству аудитории удавалось увидеть лицо актера лишь изредка, поэтому приходилось играть телом. Опустить голову — означало изобразить скромность. Ударить себя по лбу — знак стыда или восхищения. Сплетенные руки — знак раздумья. Нахмуренное лицо могло выражать гнев или любовь. Надвинутая на глаза шляпа обозначала уныние. Рукой положено было двигать справа налево. Насчитывалось пятьдесят девять разнообразных жестов, призванных обозначать разные состояния, от возмущения до спора. Так, Гамлет, говоря сам с собой, простирал вперед правую руку, произнося «Быть», и — в противовес — левую руку, продолжая: «или не быть»; и затем сводил обе руки вместе, выражая задумчивость, — «вот в чем вопрос». Шейлок в самых важных сценах сжимал кулаки. Физические движения были важным — может быть, самым важным — аспектом театрального эффекта. Как учил елизаветинцев врач Гален, ум и тело находятся в жизненно важном союзе. Тогда верили, что четыре телесных жидкости на самом деле изменяют лицо и тело, а от печали сердце в буквальном смысле сжимается и кровь стынет. Если актер внезапно перевоплощался, он совершенно менялся внешне. Это было магическое перевоплощение, вызывавшее в памяти фигуру легендарного Протея. Верили также, что буйная чувственность актера может повлиять на дух аудитории. Играть означало воздействовать на зрителей. Поэтому пуритане и считали театр местом весьма опасным.
В таком случае мы можем допустить, что актеры лорд-камергера не порвали полностью с условностями или традициями театра. Совершенно новый, более того — революционный стиль мог вызвать враждебную реакцию. Конечно, публика вряд ли разбиралась в различиях между «искусственным» и «подлинным»; в те первые дни зарождения публичного театра зрителям не приходило в голову интересоваться, правда или вымысел лежит в основе конкретной пьесы. Достаточно было и того, что театр воздействовал на их чувства. Итак, «Слугам лорд-камергера» предстояло совместить новую технику исполнения и новый подход к делу со старым театром. Такой театр, разумеется, совмещал в себе условное и натуралистическое, что выглядело бы весьма странно в театре современном, но могло производить впечатление на зрителя конца шестнадцатого столетия. Такая комбинация стилей никогда больше не повторялась и повториться не может.