Книга: Троянская война. Реконструкция великой эпохи
Назад: Эпос возвышает философию
Дальше: Наследие предков: синтез власти и культуры
Между Платоном и Аристотелем
Платон не считает Гомера мудрым, но считает гениальным. Для мудрости Гомер бесполезен, для жизни — бесценен. Мудрость нетороплива, немногословна и даже непопулярна. А гениальность горячна, стремительна и заразительна. Мудростью Бог наделяет постепенно, гениальностью — сразу. Платон — мудр, Гомер — гениален. Платонизм — проектирование мира холодных истин, основанного на живой эстетике древних образов и преданий. В этом его противоречие, которое оказалось трагично для Платона: античность скорее считала его популярным фантазером, а всерьез его мудрость так и не была воспринята и применена к жизни. Зато Гомер был частью этой жизни и остается до сих пор более понятным любопытствующей публике, чем Платон, близкий мыслителям всех последующих эпох. Гомера можно превратить в иллюстрацию каких угодно идей, а идеи Платона не могут быть представлены иллюстрацией — они выше всех иллюстраций.
Совершенно другое соотношение между Гомером и Аристотелем. В данном случае поэт и мыслитель не противостоят друг другу. Потому что они совпадают как в гениальности, так и в отсутствии мудрости, свойственной Платону.
Для Аристотеля Гомер выражает мудрость в какой-то ее изначальной и невыразимой в определениях форме. Это нечто от прямого созерцания истины через текущий событийный ряд — настолько яркое, что оно сберегается в веках, сохранив от исчезнувших эпох именно то, что действительно достойно нетленной славы. Целая литература, наверняка существовавшая вокруг Гомера, умерла бесследно. И выросла заново — в другую эпоху, куда гомеровский эпос был занесен как культурная закваска, породившая Античность.
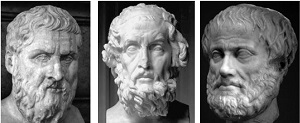
Аристотель находил у Гомера логические ошибки. Если точнее — в мыслях его героев. Но, найдя, отбрасывал находку как нечто несущественное. Это и понятно: мышление человека зачастую совершает логические ошибки. В такой ошибке — жизненность сомнения, которое испытывает Пенелопа, узнавая и не узнавая своего вернувшегося после странствий мужа. «Он» и «не он» — это ведь тоже логический абсурд. Поэтому, Аристотель, усматривая логические противоречия, замечая их, предлагает не придавать им никакого значения. Гомер покрывает «бессмыслицу» красотой — так считает Аристотель. И ценит красоту выше всякого смысла.
Что же есть красота у Гомера? Увы, мы не знаем, как звучали его гекзаметры. Можем лишь догадываться. Нам, искушенным веками стихосложения, не понять восторга древних, впервые услышавших поэзию — обличенную в напевный речитатив любимую сказку о славных героях, столь жизненных в своем несовершенстве и столь прекрасных в изображении поэта. При этом красота Гомером не описывается, а подразумевается. Для его слушателя указание на божественную красоту было достаточным, чтобы ощутить ее. Это талант микенских, а потом и классических греков — острое переживание красоты, ее воображение, отбрасывающее все лишнее. Это воплощенная платоновская идея красоты, искрящаяся в тысячах конкретных лиц, событий, предметов.
Красота героев эпоса у греков оправдывает их пороки — оправдывает через страдание. Эдип своим страданием оправдывает отцеубийство и инцест. Ахилл своим переживанием смерти Патрокла оправдывает недостойное поведение — злобность, жестокость, алчность, хладнокровно учтенные Платоном. Только через страдание культурный герой оказывается привлекательным персонажем, и растоптанная им традиция — это выход за пределы формализма, избавленного от чувств. Ахилл потому и не погибает в «Илиаде», что ему надо быть победителем — Гектора, Агамемнона (которого он подчиняет своей воле), Приама (поражая своим великодушием, которого нельзя ожидать от того, кто только что был столь жесток).
Приам нарушает клятвы, но он страдает как никто — видя, как гибнут его сыновья один за другим. Одиссей лжив, но всё его лукавство не может быть чем-то определяющим однозначную оценку его личности — в силу тяжких страданий скитальца. И даже жестокая расправа с женихами и неверными рабами оказываются лишь искуплением страданий.
Аристотель отмечает пример Гомера: описание неживого через свойство живого (например, «жадная до жертвы стрела»). Красота состоит в том, что эмоционально продолжает действие человека в предметах, связанных с ним. Может быть, это оказалось творческой новацией, которая вывела Гомера в главные поэты двух огромных исторических эпох.
Поскольку Гомер выражает все переживания в эпитетах и действии, он — родоначальник античной трагедии, которая была опытом сострадания, из которого исходит богоискательство греков, логично ведущее их от хтонических существ и олимпийцев к единобожию, к умирающему в муках и возрождающемуся (воскресающему) Богу. Также Гомер и родоначальник комедии — в ее божественной, высокой форме. Его боги беспрерывно смеются, и даже их свары становятся комичными. Боги не застывают в величественных позах, а уподобляются людям. И люди готовы уподобиться богам: они и преклоняются перед богами, и готовы бросить им вызов.
От Гомера трагедия идет ко все большему возвышению, но одновременно и к утрированию сюжетов и переживаний. А комедия — к сниженным формам народной смеховой культуры, обретающей у Аристофана даже непристойные выражения.
По мнению Аристотеля, Гомер облагораживает своих героев, сглаживая тем самым их недостатки и приобщая к кругу «лучших». То есть, Гомер утверждает подлинную аристократию — пусть и со всеми ее недостатками. Совершенство гомеровской поэзии настолько высоко ценится Аристотелем, что он уподобляет ее кругу или шару. Действительно, монологи героев Гомера порой носят цикличный характер (например, начинаясь с угрозы, угрозой и заканчиваются), представляя тем самым основы риторического искусства, развивающегося в культуру философской мысли. И шире — у Гомера все события вытекают из фабулы либо в силу необходимости, либо в силу вероятности.
Гомер сохранился в «темные века», именно потому, что это была эпоха больших страданий, и герои Гомера были близки всем — и простолюдинам, и знати. Картины народного быта, которыми Гомер описывает эпические события — формула красоты, соединяющей сказку и всеобщую повседневность. «Скучный» Каталог кораблей оказывается средством превращения «Илиады» в общезначимое произведение для всех греков — всякий узнавал название своих родных земель и относил гомеровский эпос к своей родовой истории. Аристотель находит в «Одиссее» нравоописание, которое создает эффект узнавания: слушатели поэмы обнаруживают в своей жизни сходные ситуации, сочувствуют тому, что пережили сами. Причем достоинство Гомера в том, что он чаще всего говорит не от своего имени, а предлагает образы, становящиеся образцовыми и вбирающими в себя основные переживания текущего времени. Общее дается через конкретное: всё у Гомера имеет характер, нравоучение дается через действие и образ конкретного человека. Конкретность узнавания сама становится предметом изображения у Гомера, когда Одиссей пытается скрыть слезы, слушая песни Демодока о Троянской войне. Одиссей признает подлинность изображаемого Демодоком, а окружающие признают, что перед ними Одиссей, а не самозванец.
Аристотель внимателен к деталям языка Гомера и даже готов его подправить. Что свидетельствует о том, что корректировка текстов могла быть как до Аристотеля, так и после. Аристотель лишь предлагал более удачные обороты, не рискуя вмешиваться в содержание текста. Но уже сам факт цитирования у Аристотеля строк Гомера, которые до нас не дошли, говорит о том, что далеко не все исследователи и обожатели Гомера были столь щепетильны.
Можно сказать, что Аристотель — прямое порождение Гомера, настолько его философия пронизана примерами и образцами из Гомера. Если Платон, ссылаясь на Гомера, в общем и целом отдает дань греческой образованности и просто хочет быть понятым, то Аристотель насыщен образами Гомера до такой степени, что делает его, можно сказать, соучастником своего мышления.
Платон критиковал Гомера за никчемность — отсутствие у поэта, не породившего никакой школы, никакого направления мысли, места в обществе и государстве, если они стремятся стать и становятся идеальными. Но Платон не заметил, что Гомер породил целую эпоху последователей, в которой и сам Платон был лишь ее частью.
Аристотель и Платон как две разбегающиеся вселенные, порожденные Гомером. Они взаимодополнительны. У Платона идея красоты, у Аристотеля — переживание красоты во всех ее формах и классификациях. Платон — это «вертикаль», возвышение над фактурой. Ему дальше видно, но он все дальше от жизни. Аристотель — это блуждание в плоскости земной жизни, которую он всю исходил в поисках классифицируемых объектов. Аристотель — коллекционер от науки, классификатор и систематик. А Платон ищет глубину и высоту, операции с абстрактным, обобщающие конкретное.
Платон следовал более высокому научному подходу — абстрагированию. Аристотель оставался на уровне классификации. Разумеется, Аристотель при этом был ближе к жизни и более разносторонен. А Платон смотрел дальше, хотя и более холодным взглядом. Две стороны, генезис которых исходит от Гомера.
Аристотель пишет, что поэт «рисует имена и в их движении». Можно сказать, что он также рисует идеи в их движении и конкретном воплощении. Движение затрудняет абстрагирование, для которого требуется остановить мгновение или заметить в цепочке событий статический момент — воплощение незыблемой идеи.

