Часть вторая. Суси и макдоналдсы
Первое интервью нашим людям, взятое на языке предполагаемого союзника
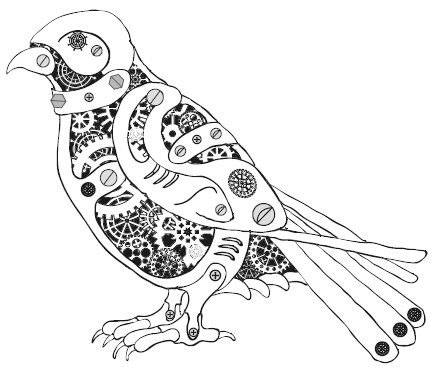
Место: офис Харуки Мураками, Аояма, Токио
Время: 20 августа 2002 г.

Никогда не задумывался, о чём бы спросить у Харуки Мураками. Столько лет носился с ним, как с Овцой в голове, а о чём при встрече поговорить – даже не представлял. Ну в самом деле, что я ему скажу? «Классно у вас получается, Мураками-сан, давайте дальше!» А он мне в ответ – «Хай!», в смысле «угу». И мы разбежимся в разные стороны – он дальше романы писать, а я их дальше переводить… Примерно такая картинка вертелась в моей голове много лет, из-за чего я, когда жил в Японии, к этой встрече особенно не стремился. Человек занятой, зачем отвлекать? Чем со мной болтать, пусть лучше ещё полстранички напишет… Судьба, впрочем, распорядилась иначе.
– Мураками-сан, вы известный переводчик американской литературы. Что бы вы сами спросили у Фитцджеральда или у Карвера, если бы с ними встретились?
– Ну… Я в этом смысле ужасно робкий человек. И никогда не думал о том, чтобы с кем-то из них встречаться. Но с Рэймондом Карвером, которого я переводил, мне пообщаться удалось. Лет двенадцать назад это было. А через несколько лет он скончался от рака. И я подумал: как здорово, что мы успели поговорить, у меня об этом очень тёплые воспоминания. И теперь, когда я перевел его всего – шестьдесят с чем-то рассказов, – я понимаю: не будь той встречи, я и переводил бы его по-другому. Потому что я работал, помня, что он за человек… Так что я не думаю заранее, с кем хотел бы встретиться. Я думаю: «здорово, что встретился», если это всё-таки произошло.
Мы сидим у него в офисе на Аояма, в небольшом здании рядом с Музеем искусств Нэдзу – как раз там, где больше всего любил шататься по вечерним улицам герой «Охоты на овец». Атмосфера вокруг совершенно не-офисная: все стены в дереве и в книгах. И очень много свободного места. Посреди комнаты – огромный стол (столешница, по-моему, из цельного куска дерева). На столе – мой cultural message из России: несколько компакт-дисков («Навигатор» Гребенщикова, «Воробьиная оратория» Курехина, «Жилец вершин» Аукцыона и т. п.) плюс «Андрей Рублев», которого он «пока не смотрел, но посмотрит обязательно», с японскими субтитрами на DVD. Он вертит в руках синенького «Навигатора», по-детски шевелит губами, а потом спрашивает:
– А что, русский и греческий алфавиты схожи? Я ведь в Греции долго жил…
Я рассказываю ему, наверное, самую короткую в мире лекцию о Кирилле и Мефодии. Он кивает и зачитывает вслух:
– А-ква-ри-ум… Правильно?
В разговоре у него очень малоподвижное лицо, отчего мне сначала немного не по себе. Но чем больше он говорит, тем с ним уютнее. Как и в своих романах, о сложных вещах он говорит очень просто, повседневными словами, не эпатируя, вполголоса, глуховато. И совсем чуть-чуть улыбаясь – как будто слегка «подкалывая» и себя, и меня за то, что приходится, никуда не денешься, играть наши роли «писателя» и «журналиста».
Его секретарша, очень миловидная женщина средних лет, безо всякой традиционной женской услужливости, приносит нам каких-то плюшек-печенюшек и кофе. Я собираюсь с духом – и начинаю.
– Так вышло, что вплоть до конца 90-х годов самыми современными японцами для русских читателей оставались Кобо Абэ и Кэндзабуро Оэ. Хотя наиболее известные свои вещи и тот, и другой создавали примерно в 70-е годы. Иначе говоря, тридцать лет подряд русские не представляли себе, что японцы читают, о чём думают, о чём грустят и над чем смеются. Но вот в 1997 году в России появилась «Охота на овец». Около года текст просто висел в русскоязычной сети, и лишь потом, уже «раскрученный», вышел на бумаге. Вам известно, что вы – первый автор, открывший русскому читателю окно в сегодняшнюю Японию? А также – первый в мире писатель, который завоевал Россию через интернет?
– Вот как? Это интересно, я об этом не знал… Большое спасибо.
– Перед тем как встретиться с вами, я провёл по сети опрос: «О чём бы вы хотели спросить у Мураками?». Пришло очень много разных вопросов. Прежде всего, читая ваши книги, люди с трудом верили, что это писал японец. Мне даже писали: «Наверное, это наполовину переводчик насочинял, но получилось всё равно интересно». Так или иначе, все знают, что солидную часть жизни вы провели в Европе и США, и многие воспринимают вас уже не как японца, а как «гражданина мира». Так ли это? Когда вы вернулись обратно в Японию?
– Я вернулся – когда это было? – кажется, в 1996-м… Да, уже лет пять в Токио живу. Дописал в Штатах «Хроники Заводной Птицы» и поехал домой. И уже в Японии начал писать «Подземку».
– И как, по-вашему, изменилась Япония, пока вас не было? В какую сторону она меняется теперь?
– Меня не было в Японии как раз в тот период, когда «баббл» – экономический «мыльный пузырь» – раздулся до предела: у всех скопилось много лишних денег, цены на жизнь подскочили, всё дорожало – земля, акции… И как раз когда этот пузырь лопнул, случились две трагедии подряд: гигантское землетрясение в Кобэ (1995 год) и газовая атака «Аума» в токийском метро. Япония, в которую я вернулся, пребывала в шоке, в полном хаосе. Но я просто чувствовал, что должен вернуться, что мне нужно быть здесь, понимаете?
– О да, это вообще очень похоже на Россию. Как в раз в эти же годы происходил развал СССР, и я тоже наблюдал за всем этим из-за границы девять лет подряд…
– Вот-вот! То есть вам тоже, наверное, знакомо это чувство: «пора возвращаться».
– Ещё бы. Это же вообще огромная тема – тема дома, бесконечного возвращения домой, – у вас она прослеживается постоянно. Многих русских читателей особенно заинтересовало, что и в «Овцах», и в «Дэнсе», да и в последнем вашем романе LXVII дом для героя – это всегда что-то преходящее, временное: бар, отель, библиотека…
– Верно. Это всё не случайно.
– Но именно «Дэнс», в отличие от всех остальных ваших романов, заканчивается оптимистично, вы согласны?
– Да? Ну, можно и так прочитать…
– Но «Дэнс» был написан не сразу вслед за «Охотой». Между ними были другие романы, верно?
– Да, после «Овец» я написал «Страну Чудес без тормозов», затем «Норвежский лес», и только потом уже «Дэнс».
– Через столько лет вы решили снова вернуться к этому герою. Почему? Оставалось чувство чего-то незаконченного?
– На самом деле все эти годы я очень хотел написать продолжение. Мир «трилогии Крысы» всё время оставался во мне. Всё-таки я создавал его целых три книги подряд. И хотелось описать его весь до конца, чтобы он наконец меня отпустил.
– Однако в России «Дэнс» вышел сразу после трилогии, и других ваших книг какое-то время не знали. Из-за «хэппи-энда» в «Дэнсе» у многих возникло впечатление, что вы, в принципе, глядите на жизнь с оптимизмом. Конечно, теперь, когда вышли «Хроники Заводной Птицы», а скоро появится и русская версия «Страны Чудес», наш читатель увидит, что всё не так просто, и финалы ваших книг бывают самые разные. Но всё же к кому вы отнесёте себя сегодня – к оптимистам или наоборот?
– Хм…
– Или сам вопрос так ставить нельзя?
– Да, пожалуй. Видите ли, для меня гораздо интереснее задавать вопросы, чем придумывать на них ответы. Ни к оптимизму, ни к пессимизму я особого интереса не испытываю. Хороший анализ вопросов – вот что меня по-настоящему привлекает.
– Очень похоже на слова Ленина о Толстом…
– Правда? Я не знал…
– Дескать, в литературе главное не ответы, а хорошо поставленные вопросы.
– Именно. Диалектически поставленные вопросы. И с этой точки зрения «Дэнс», мне кажется, не содержит большого смысла. Я никогда не думаю о том, чтобы переписывать какие-то вещи заново. И только «Дэнс» я, пожалуй, переписал бы. Даже сейчас ещё такое желание остаётся.
– Что, например? Какие части книги?
– Всё! (Смеётся).
– Но в России, в общем, восприняли эту книгу в соответствии с её названием – как некий танец, джазовую импровизацию, где главное – сама мелодия, а не какой-либо смысл. Именно с этой точки зрения «Дэнс» – очень красивая книга…
– Ну… У этой книги есть и очень мрачная сторона. Какие-то вещи там очень светлые, но есть и свой «dark side». Вообще, когда я пишу, я люблю использовать этот «dark side», вечно он у меня где-нибудь вылезает – например, герой, выходя из лифта, попадает в кромешную тьму, и так далее… Очень мне эти вещи нравятся, с ними сильные сцены можно написать. Вот и в «Стране Чудес» тоже – человек спускается под землю, а там живут какие-то непонятные существа. И в случае с «Подземкой» – хотя это совсем другая история – меня прежде всего привлекло то, что именно в метро, под землёй из людей вдруг выплеснулось дикое, бессмысленное насилие, которому и объяснения не найти. Само это сочетание очень меня заинтересовало… То же самое с землетрясением: безудержное насилие вдруг извергается из-под земли. Мне показалось очень символичным, что и зариновая атака «Аума», и землетрясение в Кобэ – трагедии, так круто перевернувшие японскую жизнь – обе произошли в один год, и обе имели такое вот… подземное происхождение.
– То есть вы рассматриваете оба события как природный катаклизм?
– Землетрясение – это природное явление. А теракт в метро – дело рук человека. Но выплеск насилия произошёл с обеих сторон, причём практически одновременно, – и в этом я увидел некую сильную связь, для меня это очень много значило.
– Иначе говоря, в каждом человеке природой заложена своя «порция» насилия, и в определённых условиях она может вырваться наружу?
– Несомненно. Как раз эта тема меня больше всего интересует. И когда эти люди, аумовцы, всё это наворотили, я почувствовал, что не могу об этом не написать.
– А сама вероятность того, что подобная трагедия повторится, что насилие из японцев может выплеснуться когда угодно, – эта вероятность сегодня уменьшилась или возросла?
– Я думаю, вероятность возросла. Когда закончилась холодная война, когда развалились два враждующих мировых блока – Америки и России, все поначалу верили, что вот, сейчас наступит мир на Земле. Но после заринового теракта 1995 года очень многие стали всерьёз опасаться, что человеческое насилие не обуздать никогда.
– Война – не снаружи, война у человека внутри?
– Безусловно. Мне очень сильно кажется, что война фундаментализма с остальными социальными системами продолжается и в нас самих. И прежде чем заниматься анализом столь глобальных вопросов, мы должны как следует разобраться с такими вещами, как «свет» и «тень» у себя внутри. И в романе, который я только что закончил, «Кафка на пляже», мне хотелось написать о том, как эти вещи внутри человека воюют между собой – свет и тень, Судьба и Воля, инь и ян… И ответ на ваш вопрос – оптимист я или пессимист – тоже будет зависеть от того, в какой момент этой борьбы и под каким углом зрения мы будем разделять подобные вещи.
– Степной Волк тоже считал, что борьба между волком и человеком, в принципе, бесконечна…
– Совершенно верно. В «Стране Чудес без тормозов» и «Конце Света» одновременно существует два мира: странный мир под названием «Конец Света» – и сегодняшний Токио. Не знаю, как это воспринимают читатели, которые не чувствуют так, как я, – но для меня эти миры действительно параллельны, и мне очень интересно изучать, как они влияют друг на друга.
– То есть где реальность, а где ирреальность, – так вопрос уже не стоит?
– Нет-нет. Ведь реальность то и дело «заглатывает» в себя ирреальность, и наоборот. И так, чередуясь, они обе вертят вещами и событиями нашей жизни.
– В этом смысле то, что вы пишете, очень трудно назвать каким-то обобщающим термином: это не мистика, не фантастика, не детектив… Как вы сами называете жанр, в котором пишете?
– Я в шутку называю это «суси-нуар». По аналогии с «фильм-нуар»… (смеётся).
– (Вручая визитку.) Как интересно. Ваш неофициальный сайт в России вот уже пятый год называется «Виртуальные суси».
– «Виртуальные суси»? С ума сойти!.. (Смеются все, включая фотографа и секретаршу.). Если говорить о жанрах: Дело в том, что японские мифы по структуре отличаются от мифов Европы. Взять, например, миф об Орфее. У него умирает жена, он идёт в царство Тьмы, чтобы встретиться с нею, переправляется через реку… В Японии тоже есть такой миф, очень похожий. Но у европейцев Орфей очень долго путешествует, поёт песни изо всех сил, упрашивает лодочника, терпит лишения всю дорогу. А в японском мифе захотел попасть в подземное царство – и ты уже там. Оно же прямо у тебя под ногами! Никакой дистанции между «здесь» и «там» нет…
– То есть кто это решает? Или он сам, когда захочет, может туда попасть?
– Да-да, он сам и решает. Но у европейцев здешний мир и тамошний очень чётко разделены, и чтобы туда попасть, ему приходится порядком постараться и помучиться при жизни. И в этом смысле моё ощущение – что мы можем, когда хотим, очень легко туда проскользнуть, – пожалуй, всё-таки ближе к японской мифологии.
– Но тогда встаёт вопрос о Судьбе. О том, можем ли мы контролировать своей волей, попадать нам туда или нет.
– Бывают разные ситуации. Иногда можем, иногда нет. В своих романах я описываю и те, и обратные ситуации. И, мне кажется, в моём случае я всё контролирую сам, просто не знаю об этом. Это происходит у где-то у меня в подсознании. А подсознанием моим управляет не Бог и не Судьба, а Повествование. Та или иная история. Для меня Повествование – что-то вроде внутренней энергии, которая за меня всё решает… В общем, чем больше я буду об этом рассказывать, тем дальше мы будем забредать в миры Карла Юнга. В миры, где существует Мандала воли. Но определяет эту Мандалу некая энергия человеческого подсознания. По крайней мере, лично мне очень сильно так кажется.
– В этом смысле – можно ли считать вас атеистом?
– Ну, в общем… Хм-м. Просто мой отец был кем-то вроде буддийского священника.
– Да? А разве не школьным учителем?
– Ну, он вообще-то учитель, но параллельно был и свя щенником. А дед владел небольшим храмом в Киото, до сих пор этот храм стоит… Так что в моем воспитании было очень много всего из буддизма. И хотя сам я человек не религиозный – на психологическом, подсознательном уровне от предков, конечно, сильное влияние получил.
– В романе «Страна Чудес без тормозов», который выйдет в России этой осенью, герой спрашивает: «Так что же, если у человека забирают его тень – значит, он теряет «кокоро»?» То есть мне нужно перевести японское слово «кокоро»…
– О да! Я представляю, как вы влипли…
– Это что-то среднее между «душой», «сердцем» и «сознанием», так? Альфред Бирнбаум перевёл это на английский как «mind». Но mind – это всё-таки гораздо больше «от головы», не правда ли… «Сердце» в данном контексте прозвучит слишком физиологично. «Душа» – боюсь, чересчур религиозно. Что же именно вы хотели передать этим словом, «кокоро»?
– Да, mind тут не совсем подходит… Японское «кокоро» обязательно включает и теплоту. То, что связывает память с человеческой теплотой. Где-то ближе к tenderness, что ли… Немножко от mind, немножко от soul — и в то же время чувствуешь, как бьётся живое сердце. В моем же романе вы можете считать, что потерявший тень – это потерявший теплоту, смысл один и тот же…
– Хм… Я подумаю, спасибо.
– Да, особенно такие вещи переводить нелегко, я прекрасно вас понимаю.
– Буквально вчера я узнал, что вы заново переводите на японский «Над пропастью во ржи»…
– Да, я уже закончил.
– Чем же, по-вашему, будет отличаться «Сэлинджер по Мураками» от «классической» японской версии тридцатилетней давности?
– Мой друг и коллега, переводчик Мотоюки Сибата, уже написал об этом статью. Он выделяет по крайней мере два главных отличия. Во-первых, в оригинале всё повествование строится на разговорной речи – той самой речи, какой мы с вами пользуемся прямо сейчас. В этой речи активно употребляется местоимение «you». Но в той версии, которую читали в Японии до сих пор, все «you» опущены. Такая вот особенность. В Японии, как вы знаете, местоимения второго лица употребляются редко, все стараются обходиться без них…
– Да уж, ни «тыкать», ни «выкать» здесь не принято.
– Вот именно. А старый перевод был выполнен так, как здесь принято. А я взял и перевел все эти «ты знаешь», «ты думаешь», «ты говоришь». И уже от этого вся атмосфера произведения здорово изменилась – как, по крайней мере, считает Сибата-кун. Ну и ещё одно… В старой версии основной акцент делался на конфликте между личностью и обществом, личностью и истеблишментом. А у меня он превратился, скорее, в противостояние «душа и внешний мир». Я думаю, восприятие произведения будет очень сильно отличаться, если вместо социальной сатиры читателю предложат историю одной человеческой души.
– На вчерашнем семинаре Сибата-сан выразил надежду, что теперь аудитория этой книги в Японии значительно расширится.
– Ну, по крайней мере, я надеюсь, читателю станет гораздо проще анализировать мысли и поступки героя-тинейджера.
– Тогда такой вопрос. Если он покажется вам слишком личным, я его тут же сниму… Почти нигде в ваших романах до сих пор не говорится о взаимоотношениях родителей и детей. Кроме, разве, «Дэнса» – но и там герой возится с чужой семьёй, своей у него нет. Такое впечатление, будто вы сознательно избегаете этой темы. Что это – часть какой-то философии, мол, все мы дети до самой смерти, – или же здесь какие-то личные причины?
– Конечно, это личное. Я вовсе не хочу оставаться «ребёнком по жизни». Просто я не очень люблю семью как понятие. Не люблю, хотя от этого никуда не денешься. Из детства у меня мало что осталось в памяти о семье, и мне всегда было гораздо интереснее пробираться по жизни в одиночку. Детей у меня нет, на то свои причины. Всей семьи – жена да я. Захотелось куда-нибудь за границу – сорвались, уехали да живём сколько влезет…
– Значит, не «все мы чьи-нибудь дети», а наоборот, «никто никому не ребёнок»?
– Я не хочу ничему принадлежать, вот в чём дело. Ни фирме, ни группе, ни фракции, ни литературному объединению, ни университету… До сих пор я неплохо жил без всего этого, и слишком к такой жизни привык.
– Но именно такой подход к жизни – и в Японии, и в России, и вообще много где – в последнее время особенно популярен у молодёжи, вы не находите? Посмотреть на токийских двадцатилетних – всё меньше народу хочет куда-либо «вербоваться», многие стараются устроиться на подработку в какой-нибудь бар или «Макдоналдс» и «никому не принадлежать». Может, как раз поэтому ваши книги любит столько молодёжи в самых разных уголках мира, как вы думаете?
– Ну, я начал писать двадцать лет назад, и тогда меня читали в основном люди от 20 до 35 лет. И теперь, двадцать лет спустя, возраст моих читателей примерно такой же. То есть моя аудитория не меняется. Почему так происходит? Видимо, у меня есть способность схватывать и передавать именно те чувства тревоги, недовольства, фрустрации, те идеалы, те радости, которыми живут люди этого возраста.
– Значит, пройдёт ещё двадцать лет, и вас по-прежнему будут читать именно 20-30-летние?
– Кто его знает, что будет дальше… Обычно писатели стареют вместе со своими читателями. Например, когда Кэндзабуро Оэ был молод, его читала молодёжь. А сейчас ему под семьдесят, и возраст его аудитории гораздо старше – лет сорок и более. А у меня хоть и есть читатели, которые стареют вместе со мной, но в основном, повторяю, аудитория сформировалась. Это очень интересно – и, в общем, я этому даже рад.
– После выхода в России «Хроник Заводной Птицы» сразу несколько критиков высказали похожую мысль. Дескать, юношеская наивность героев «Ветра» с «Пинболом» прошла, и теперь протагонист Мураками жёсток и даже жесток – чтобы защитить себя, если нужно, и сам прибегнет к насилию. Вы с этим согласны?
– Когда набираешь годы, всегда так получается, хочешь ты этого или нет. В молодости я мог жить свободно, как мне хотелось. И в моих ранних романах такие вещи, как мирная жизнь, тихий дом, любовь, доставались героям без особых усилий. Но чем больше стареешь, тем больше приходится брать с боем, бороться за своё место, за свой стиль жизни. А когда борешься, приходится и насилие применять, куда от этого денешься. Думаю, это и называется зрелостью… Конечно, люди говорят: «раньше ты был лучше, невиннее». И это действительно так. Но с другой стороны, нельзя же всю жизнь делать одно и то же. Если со временем не приходит зрелось, то и смысла никакого нет… Только удивляюсь я тем же вещам, что и раньше.
– Как известно, вы бегаете марафон…
– Да, каждый год где-нибудь бегу.
– И за сколько пробегаете?
– Мой личный рекорд – три часа и двадцать с чем-то минут. Но сейчас я уже так быстро не бегаю.
– И о чём думаете, когда бежите?
– Да ни о чём… Потею и пива хочу.
– Пива? Но если верить американскому журналу «Salon Magazine», в тридцать три года вы бросили пить, курить и стали бегать по утрам.
– Пить? Пить я не бросил. Курить бросил, это да…
– Тогда придётся срочно развенчать этот миф в России. А то одна рассерженная читательница даже прислала письмо: «Спросите у Мураками, почему он сам пить бросил, а герои у него в книжках не просыхают?»
– (Смеётся.) Да не бросал я! Выпиваю, как все нормальные люди… А насчет марафона – последний раз, на Хоккайдо, я бежал одиннадцать часов. Чуть не умер! А в последнее время ещё триатлоном занимаюсь – там плаванье, бег и велосипед.
– То есть действительно, чтобы писать, нужна физическая сила?
– О, да. Когда я пишу, мне нужно очень сильно концентрироваться. Я просыпаюсь каждое утро в четыре, сажусь и пишу пять часов подряд. Без физической подготовки так концентрироваться не получается, хоть убей. Не знаю, как обстоит дело у русских писателей, но японские писатели страшно небрежно относятся к своему физическому состоянию. Юкио Мисима был чуть ли не единственным исключением. Но лично для меня физическая энергия нужна как воздух. С тех пор как я стал писателем, я бегаю каждый день, это очень важно.
– Практически в каждом романе у вас упоминается Россия. Хотя бы на уровне шуток – например, история о Троцком и оленях в «Пинболе», или о «мартобристах» в «Охоте на овец». Откуда вы всё это берёте?
– Лет в пятнадцать-семнадцать я сходил с ума по русской литературе: Достоевского и Толстого читал без передышки. Очень любил все эти длинные истории. «Братьев Карамазовых» я до сих пор считаю идеальным романом. Собственно, пытаясь написать что-нибудь подобное, я и начал создавать тексты. Каждую их книгу перечитывал раза по три-четыре. Недавно, кстати, перечитал «Идиота», очень большое удовольствие получил.
– Значит, всё-таки Достоевский? А что же Толстой?
– Толстой тоже… Но всё-таки Достоевский.
– Но, скажем, русскую литературу ХХ века вы уже не очень хорошо знаете?
– Да, можно так сказать. То есть я, конечно, читаю… Недавно что-то такое читал… (Задумался, помотал головой.) Нет, что ни говори, всё-таки девятнадцатый.
– У ваших книг есть одна особенность, перенять которую я бы очень желал и нашим сегодняшним авторам. Подавляющее большинство наших писателей пишет, в основном, только для аудитории своей страны. И если попробовать это перевести на другой язык – это мало кому будет понятно и нужно. А ваши книги переводятся и отлично воспринимаются в самых разных странах. Откуда это у вас?
– В юности я читал сплошь зарубежную литературу. Лет до семнадцати – русскую, а затем сам выучил английский и переключился на американцев в оригинале. Поэтому моё письмо, можно сказать, – это некий «микс» из влияний русской литературы XIX века и американской прозы ХХ. А японской литературы, в общем, почти не читал.
– В «Хрониках» вы поднимаете тему Халхин-Гола, о которой десятки лет было, так сказать, «не очень принято» писать ни в России, ни в Японии, ни в Китае, ни в Монголии. Где вы собирали материал, чтобы писать об этом?
– Нигде.
– То есть как – вы всё это придумали??
– Сначала придумал и написал. А уже потом поехал во Внутреннюю Монголию и в Китай. Поехал, проверил – и сам удивился: всё очень похоже, такое действительно могло быть.
– Но если такие вещи не проверять, очень трудно кого-нибудь не обидеть или не разозлить…
– Но я же очень много прочёл до того, как об этом писать. В разных книгах понемногу об этом написано. И атмосфера в целом как-то прорисовывалась. Общие картины, настроение. И всё это постепенно оседало в голове. Написал, проверил – всё так и было.
– То есть об историчности вы особо не думали?
– Из соображений историчности я составил некий список фактов, которые потом проверял: это было, и это было, такие-то события действительно имели место. А в пространстве между этими фактами писал собственно повествование.
– А о японцах в русском плену – собирали документы или с кем-то советовались?
– Документы собирал, но ни с кем не советовался.
– В общем, чем больше я за всем этим наблюдаю, тем сильнее впечатление: может быть, придёт день – и вся ваша разрозненная «русская эпопея» наконец соберётся в единую книгу?
– Хм… (Молчит и улыбается.)
– Или, скорее, в сборник анекдотов о Троцком?
– В старших классах школы я прочитал биографию Троцкого. Мне он очень понравился…
– Что, и олени? (Общий смех.) У русских это любимое место, все смеются.
– Я знаю многих японцев, которые ездили в Москву, чтобы этих оленей найти.
– А один мой знакомый, очень серьёзный исследователь Японии, долго ругался в гостевой нашего сайта: «Это безотвественность! Кто дал право Мураками искажать русскую реальность в голове японских людей?»
– Если честно, я тогда и представить не мог, что всё это будут читать русские люди (смеётся)… Вот такой я – вечно чего-нибудь привираю, прямо беда.
– В своих произведениях вы создаёте неожиданно мягкие и «живые» женские персонажи. Хотя в традиционной японской литературе женские образы, как правило, абстрактно-размыты и служат лишь неким сопроводительным фоном для описания главных героев – мужчин. Это тоже влияние западной литературы или что-то ещё?
– Японское общество очень патриархально. В каком-то смысле оно подобно жёстко организованной фирме, в которой всё подчиняется воле сильнейшего, мужского начала, этакой «воле отца». Я всё это очень не люблю. То, что вокруг слишком много сурового мужского начала, сверх всякой необходимости. Мне всегда хотелось выправлять этот дисбаланс и выписывать женщин с мягкостью и любовью.
– В своё время меня шокировало, что женщине в японской фирме, как бы она ни старалась, никогда не дают продвинуться по службе выше начальника секции.
– Да-да, всё оттого, что мужчина здесь слишком превозносит себя, кичится донельзя во всех своих социальных проявлениях. У меня к этому стойкое отвращение… Кроме того, есть ведь и гендерное разделение внутри человека, «анима» и «анимус»: в любом мужчине есть и женское начало, а в любой женщине – мужское. Каждый мужчина, проанализировав свои мысли и поступки до мельчайших деталей, обязательно заметит в себе и женщину. Но очень многие мужчины не хотят признавать, что в них есть и женское начало. Предлагаешь им на него посмотреть – а они отворачиваются. Ну, а я – человек, который пишет, я хочу описывать всё, что вижу. Когда я замечаю в себе какие-то женские проявления, я начинаю их описывать – и получаются мои женские персонажи.
– Но в разных людях соотношение мужского и женского неодинаково, верно?
– Да, разумеется.
– Тогда, извините за прямоту, каково примерно это соотношение внутри вас? Ну, может, не в процентах, но всё-таки…
– В моем случае никакого соотношения нет. Просто у меня внутри живут и женщина, и мужчина, и каждый из них совершает свою, отдельную работу. Кого из них больше, кого меньше – так я в принципе вопрос для себя не ставлю. Я не знаю, как ощущают это в себе другие люди, а также плохо представляю, как эти двое уживаются у меня внутри.
– Вы хотели бы приехать в Россию?
– Хотел бы, но у меня столько дел… Не знаю, когда и выберусь.
– Но не из страха, что вы плохо понимаете, как и что там сейчас?
– Нет, вовсе нет. Просто… Я пишу путевые заметки, публикую их в журналах. Поездки куда-либо – это всегда часть работы. Если получится, может быть, в следующем году. Вот только… куда, по-вашему, поехать было бы интересней всего?
Наступает мой «звёздный час». Следующие десять минут я «гружу» его информацией о своей родине – острове Сахалин. О корейских невозвращенцах, детях-полукровках от японских пленных, исполинских папоротниках, клёнах и лопухах, буях с иероглифами после шторма на взморье, вымерших айнах и «невернутых» японцам же островах, которые в ясный день просматриваются с мыса Крильон.
– (Всерьёз задумавшись.) М-да, Сахалин – это действительно интересно… А что, если я туда соберусь – скажем, в следующем году, как потеплее станет, – вы составите мне компанию?
– А как же!
На прощание дарю ему «кошку Селёдку». Купил перед отъездом на Арбате. Славная такая, из необработанной глины. И, уже обуваясь в прихожей, вспоминаю «коронный» вопрос от московских друзей:
– Ну, а в «Макдоналдс» вы заходите – хотя бы иногда?
– (Картинно ужасаясь.) Ни за что! Терпеть не могу весь этот джанк-фуд…

