Часть 2
– Торжественно клянусь Богом, Всемогущим и Всеведущим.
Шел двадцать третий день процесса, сегодня должны были давать показания польскоговорящие свидетели. Ева теперь находилась не в зрительских рядах, а у свидетельской трибуны – стола в центре большого зала дома культуры. По бокам от нее стояли двое немолодых мужчин в темных костюмах – переводчики с чешского и английского. Левую руку, на которой она с недавних пор носила кольцо с синим камнем, Ева положила на тяжелую черную книгу с маленьким тисненым золотым крестом, а правую подняла вверх. Она обращалась к приветливо смотревшему на нее председателю и двум судьям. Пальцы ее слегка дрожали, сердце билось быстро и почти в горле.
– Пожалуйста, говорите чуть громче, фройляйн Брунс.
Ева кивнула, набрала воздуха и начала снова. Она сказала, что будет точно и добросовестно переводить с польского языка все показания и документы, ничего не добавляя и не сокращая. Во время принесения присяги ей показалось, что Давид Миллер неодобрительно отвернулся от нее. Зато светловолосый смотрел спокойно. Ева чувствовала и взгляды слева, со скамьи подсудимых. Часть подсудимых и их защитники благожелательно смотрели на нее – молодую здоровую девушку с густыми светлыми волосами, которая в наглухо застегнутом темно-синем костюме и в туфлях без каблуков имела приличный, добропорядочный вид.
– Клянусь Богом, Всемогущим и Всеведущим, – закончила Ева.
Судья едва заметно ей кивнул. Затем по очереди принесли присягу другие переводчики. Ева немного успокоилась. Взгляд ее упал на план позади судейского стола. Теперь, вблизи, она могла прочесть и подписи. Блок 11. Главный лагерь. Крематорий. Газовые камеры. В самом низу шла надпись: «Труд освобождает». От одного из переводчиков сильно пахло перегаром. Наверняка чех. «Господи, прости меня за предрассудки», – в странном отчаянии подумала Ева. От нее самой наверняка пахло пресно и кисловато, поскольку за завтраком она почти ничего не смогла в себя затолкать. Сегодня утром. Казалось, это было давным-давно, а прошло всего два часа.
В половине восьмого Ева с Аннегретой и Штефаном сидела на кухне и нервно помешивала ложечкой кофе. Мать поднялась из подвала с банкой варенья в руках, на этикетке которой было написано «Ежевика. 1963». Она протянула ее Аннегрете, которая, не отрываясь от газеты, легко открутила крышку. Банка шикнула, и Штефан долго пытался воспроизвести звук. «Пшшшиии» – был самый удачный вариант. Эдит ножом соскребла в мусорное ведро слой зеленовато-белой плесени, села за стол и намазала Штефану варенье на хлеб.
Они вспомнили, как поздним летом прошлого года Эдит поехала на велосипеде в горы, повесив на руль слева и справа по жестяному ведру и еще одно большое ведро прикрепив к багажнику, и наполнила их там напитанными солнцем черными-черными ягодами. Когда она вернулась, сестры, которые сидели в гостиной и смотрели передачу «Воскресное приглашение», испуганно вскочили. «Мама, что с тобой? Ты попала в аварию?» Ева побежала к телефону, чтобы вызвать врача. Аннегрета собралась проверить у матери пульс. Только Эдит не понимала, почему они так разволновались, пока не увидела себя в зеркале. Вид у нее был страшный. Губы и подбородок перемазаны черно-красным соком ежевики, светлая блузка вся в темных пятнах. Собирая ягоды, Эдит время от времени бросала их в рот, и липкий сок стекал по подбородку. Вытерев затем лицо носовым платком, она сделала только хуже. Теперь вид у нее был такой, как будто она упала лицом и изо рта идет кровь. Все три рассмеялись тогда облегченным смехом.
Сегодня утром за завтраком не смеялся никто. Рядом с тарелкой Евы лежала темно-серая папка. В ней находились показания Яна Краля, которые он дал два года назад следователю и которые Ева должна была переводить сегодня в суде. Накануне вечером она дважды прочла показания. Если все, что пережил и видел господин Краль, правда, чудо, что он еще жив. Отпивая кофе, Ева попыталась представить себе, как он выглядит, этот господин Краль. Наверно, сгорбленный, скорбный. Тут Штефан принялся ныть, что мама делает ему в школу не тот бутерброд.
– Я не люблю копченую колбасу. Она противная.
– Салями?
– Еще противнее! Фу! Меня от нее тошнит.
– Но что-то нужно положить тебе на хлеб. Или просто масло?
– Фи, масло противное!
Тут Ева взяла папку и легонько стукнула Штефана по затылку.
– Немедленно прекрати вести себя как маленький.
Штефан с удивлением посмотрел на сестру, но та встала и вышла из кухни.
– А ты не хочешь взять бутерброд, Ева?
– Я могу поесть в доме культуры, мама. Там есть столовая.
В прихожей Ева надела шерстяное пальто и осмотрела себя в зеркале. Бледная, почти белая, колени мягкие, как пудинг, в животе такое ощущение, как будто его только что выпотрошил мохнатый зверь. И, прислушиваясь к тишине на кухне, молчанию матери и сестры, она призналась себе, что чувство, нараставшее в ней в течение нескольких дней, был страх. Ева попыталась понять, чего же она больше всего боится. Того ли, что придется говорить перед большим количеством людей, искать точный перевод? Или это страх, что она не поймет? Или как раз что слишком хорошо поймет? Ева засунула папку в кожаный портфель, который сама себе подарила три года назад после сданного на получение переводческого сертификата экзамена, надела шляпу и крикнула в сторону кухни: «До свидания!» Ответ «Покеда!» она получила только от Штефана.
* * *
Это был один из дней вообще без погоды – ни восхода, ни захода, сплошь серый, ни теплый, ни холодный. О снеге остались одни воспоминания. Весь путь Ева прошла пешком. И с каждым шагом ее покидало мужество, оно утекало, как талая вода в водосток, и, когда она дошла до дома культуры, почти совсем вытекло. Но войдя в переполненное фойе, где толкались репортеры, операторы с тяжелыми камерами, узнав некоторых подсудимых, которые жали друг другу руки, заметив полицейских, которые отдали честь главному подсудимому, услышав слишком громкие разговоры мужчин, увидев их уверенные движения, а также тихих, встревоженных людей, которые стояли в стороне или сбились в группки, Ева решила, что все правильно.
* * *
В зале и в полдень не стало светлее, слегка запотевшие стекла приобрели матово-серый оттенок. Служитель включил верхнее освещение, круглые светильники показались большими светящимися пузырями. Хотя некоторые окна были приоткрыты, в зале стояла духота. Пахло сырой шерстью, кожей и мокрой псиной.
Принеся присягу, переводчики сели на стороне обвинения. Еве достался стул прямо за Давидом Миллером. Она вынула из портфеля темную папку и, положив ее на стол, посмотрела на рыжие, отросшие на затылке волосы Давида. Сзади он казался мальчиком. Прямо как Штефан, с которым иногда случались детские истерики. Давид быстро просматривал документы и передавал их светловолосому.
Со скамьи подсудимых встал высокий мужчина. Порывшись в складках мантии, он достал серебряные часы на цепочке, открыл крышку и рассеянно взглянул на циферблат. Мягкое удлиненное лицо и белый галстук напомнили Еве Братца Кролика из «Алисы в стране чудес», которую они со Штефаном не любили, так как эту самую страну чудес населяли исключительно неприятные существа. Братец Кролик, будучи защитником семи подсудимых, подал ходатайство с просьбой выслушать в качестве свидетельниц супругу подсудимого номер четыре и супругу главного подсудимого. Ева поискала на зрительских трибунах женщину в шляпке, от которой слабо пахло розами, но во множестве людей ее не увидела. Встал светловолосый. Он заявил, что обвинение отклоняет ходатайство. От свидетельниц трудно ожидать новых сведений, супруги не могут быть беспристрастны. Кроме того, они могут утаить часть сведений, если таковые усугубят положение подсудимых. Началась перепалка между защитником и заместителем генерального прокурора по вопросу о количестве свидетелей защиты. Ева знала, что первым сегодня будет приглашен Ян Краль. Она раскрыла папку и подумала, что вот супругу Яна Краля выслушать не удастся. Последний раз он видел ее первого ноября сорок второго года.
Председательствующий судья принял решение удовлетворить ходатайство защиты. Братец Кролик с довольным видом захлопнул крышку часов. Cветловолосый сел, отпил глоток воды из стакана, хотя пить совсем не хотел, и скрестил руки. Его коллеги обменялись взглядами. Давид Миллер наклонился к светловолосому и что-то ему прошептал. Тот резко покачал головой. Судья сказал:
– Суд приступает к исследованию доказательств. Пригласите свидетеля Яна Краля.
Светловолосый повернулся к Еве и хотел дать ей знак. Но она уже встала и пошла к свидетельской трибуне. Полицейский провел вперед солидного немолодого мужчину. В темно-синем костюме у Яна Краля был весьма импозантный вид, как будто он сам адвокат, а может, и американская кинозвезда. Из документов Еве было известно, что он работает архитектором в Кракове. Ян Краль держался подчеркнуто прямо. Ева попыталась перехватить его взгляд, но свидетель сквозь прямоугольные очки неотрывно смотрел прямо, на судейский стол. Он не повел головой и влево, к скамье подсудимых. Краль остановился возле Евы, и она приготовилась пожать ему руку. Но он не обратил на нее ни малейшего внимания, полностью сосредоточившись на председательствующем судье. Тот попросил его сесть. Ян Краль сел за длинную сторону стола лицом к суду. Ева села не рядом с ним, а с торца стола, как ей было велено. На столе стояли два микрофона, простой графин с водой и два стакана.
Суд начал с установления личности свидетеля – имя, дата рождения, место жительства, профессия. Ян Краль немного говорил по-немецки и на простые вопросы отвечал сам, кратко и громко. Еве пока нечего было делать, и она начала двигать блокнот и карандаш, наконец они легли безупречно аккуратно. Потом Ева сбоку начала смотреть на профиль свидетеля. Запоминающиеся очки, смуглый, свежевыбрит, на энергичном подбородке небольшой шрам. Под правым ухом Ева заметила оставшуюся капельку крема для бритья. Она сделала глубокий вдох и почувствовала запах терпкого мыла.
Давид Миллер со своего места наблюдал за Евой, сидевшей к нему почти спиной. Он смотрел на женственные плечи, сильный узел волос, несомненно, не накладной, никаких этих смешных круглых подушечек, которыми пользовалось большинство женщин. И, сведя брови, он опять непонятно почему разозлился. У него болела голова, так как ночью он изрядно погулял с коллегами из прокуратуры – не было только начальника и светловолосого. На Бергерштрассе, в развеселом квартале, они сначала пошли в бар «Мокка», где пили и смотрели на женщин, которые медленно раздевались под музыку. Дальше Давид двинулся один и зашел в пивную «У Сузи», где гремели шлягеры. За стойкой сидели полуголые женщины, и через двадцать минут Давид удалился в заднюю комнату с той из них, которая меньше всего была похожа на его мать.
В комнате без окон под номером шесть очень сильно пахло духами, стены были завешены коврами. Женщина, назвавшаяся Сисси, быстро разделась и расстегнула ему брюки. Давид нередко посещал проституток, и дело было не в сладострастии. Само соитие всякий раз происходило механически и безрадостно; от женщин никогда не пахло так, как ему хотелось. Но потом он мог презирать себя. Мать застыдила бы его вконец. И эта мысль приносила некоторое удовлетворение.
Широкая кровать оказалась очень мягкой, и он решил, что сейчас провалится и вынырнет где-нибудь в Австралии. Или где там живут антиподы жителей этого немецкого города? Давид вспомнил свой детский глобус, мальчиком он протыкал его спицей, чтобы узнать, что находится на другой стороне Монреаля. «Куда я попаду, если вырою туннель?» И, лежа на Сисси, он вспомнил – он утонул бы в Индийском океане. От Сисси затхло и сладковато пахло изюмом, который он не любил и в детстве выковыривал из кексов. Войдя в нее, он решил, что она рожала по меньшей мере один раз.
Тем временем в зале закончилось установление личности свидетеля. Давид сосредоточился на происходящем.
– Господин свидетель, когда точно вы очутились в лагере?
Ян Краль заговорил по-польски. Он отвечал быстро, не прерываясь даже на то, чтобы набрать воздуха. «Слава богу, не диалект», – думала Ева, делая пометки. Гетто, вагон, ведро, солома, дети, три дня, сын… Краль говорил все быстрее. Мужчины. Офицеры. Грузовик. Какое последнее слово? Красный Крест? Это ведь он сказал по-немецки? Ева не успевала. Она тихо по-польски сказала Яну Кралю:
– Пожалуйста, господин Краль, простите. Вы говорите слишком быстро. Прошу вас, делайте паузы.
Ян Краль умолк и, повернув голову, раздраженно посмотрел на Еву, как будто не мог взять в толк, кто она такая. Ева тихо повторила свою просьбу, председательствующий судья наклонился к микрофону.
– У вас проблемы?
Ева покачала головой, хотя и покраснела, что наверняка было прекрасно видно со зрительской трибуны. Некоторые подсудимые, которые могли видеть лицо Евы, заухмылялись и засопели; это были необразованные – истопник, медбрат. Ян Краль наконец понял, в чем состоит задача Евы, и коротко ей кивнул. Он начал с начала и теперь говорил медленнее. Ева напряженно смотрела на его губы, которые поплыли у нее перед глазами. Руки похолодели. Кровь зашумела в ушах, она перестала понимать свидетеля. «Я не могу. Мне надо выйти. Сейчас я встану и уйду. Нужно бежать… Я сбегу…» Но тут Ева увидела, что на лбу у Яна Краля выступил пот. Капельки появлялись одна за другой. Задрожал подбородок, это было видно только ей. И Еве стало стыдно. Что значит ее волнение по сравнению с его бедой? Она успокоилась. Ян Краль умолк. Он смотрел на свои руки, лежавшие на столе. По правому виску стекала капля пота. Ева посмотрела в свои записи и перевела сказанное свидетелем, обратив внимание, что старается повторять его интонацию.
– Двадцать восьмого октября сорок второго года меня с женой и сыном депортировали из краковского гетто. Мы три дня ехали в товарном вагоне. Запертом. Туалета и воды не было. Только ведро в углу на восемьдесят человек. Нам не давали ни есть, ни пить. Люди в дороге умирали. По меньшей мере десять человек. Прежде всего старики. Когда мы приехали – это было первого ноября, – нас вывели из вагона на платформу. Тех, кто остался в живых, разделили. Женщин, детей, стариков налево, мужчин направо. Два офицера СС поспорили, куда определить моего сына – ему было одиннадцать лет, но он был крепким. Я подумал, что те, кто слева, попадут в более легкий лагерь. А я не хотел, чтобы он работал. Я вмешался и сказал одному, что мой сын еще слишком мал, не может работать. Тот кивнул, и сын вместе с женой забрались в грузовик. Грузовик был Красного Креста, и это меня успокоило. Они уехали.
Ева умолкла. Председательствующий судья наклонился, чтобы задать вопрос, но тут Ян Краль опять заговорил. Он быстро произнес всего несколько фраз, под конец запутался и замолчал, как будто все сказал. Ева сбоку смотрела на него, на кадык над воротником белой рубашки. Она видела, что он глотает, глотает, глотает.
– Пожалуйста, повторите последнюю фразу, – тихо попросила она по-польски.
Все ждали, кто-то нетерпеливо постукивал костяшками пальцев по столу. Но Ян Краль чуть покачал головой и посмотрел на Еву. Глаза за очками покраснели, подбородок дрожал. Ева видела, что он не в состоянии говорить дальше. Она полистала словарь и посмотрела два слова, хотя прекрасно знала их значение. Slup и dym. Колонна и дым. И она в микрофон перевела то, что поняла:
– Потом в лагере, вечером, другой заключенный показал мне столб дыма на горизонте. И сказал: смотри, это твои жена и сын поднимаются на небо.
Ян Краль снял очки и достал из кармана брюк клетчатый носовой платок, свежевыглаженный, аккуратно сложенный. «Купил специально для процесса», – подумала Ева. Платком Ян Краль отер лоб. А потом закрыл им лицо.
В зале все молчали, даже на скамье подсудимых. Некоторые из подсудимых закрыли глаза, как будто задремали. Светловолосый что-то записал, а затем спросил:
– Господин Краль, почему вы решили, что ваша семья попадет в более легкий лагерь?
Ева перевела вопрос. Ян Краль высморкался, опять сглотнул и заговорил, а Ева перевела:
– Мне это сказал один из СС на платформе.
– Кто именно? – поинтересовался светловолосый.
Ян Краль не пошевелился.
– Кто-то из подсудимых? Вы узнаете его?
Ян Краль опять надел очки и повернулся в сторону подсудимых. Ненадолго его взгляд задержался на лице подсудимого номер четыре, а потом он указал на подсудимого номер семнадцать, аптекаря в темных очках. Тот почти весело засопел, как будто его выбрали принять участие в какой-то игре. Аптекарь вальяжно встал и сказал, а Ева перевела Яну Кралю:
– Это ложь. Свидетель меня с кем-то перепутал.
И аптекарь опять сел. Встал его защитник, Братец Кролик.
– Господин свидетель, вы показали, что прибыли в лагерь первого ноября сорок второго года. В этот день обвиняемого там не было. С первого по пятое ноября он находился в Мюнхене, у него была операция. На что имеются документы.
Ева перевела.
– Возможно, мы приехали тридцать первого октября, – сказал Ян Краль. – Когда едешь в запертом вагоне, время забывается.
– Имеются свидетельства о смерти членов семьи Краль? – обратился председатель к одному из судей.
Тот покачал головой.
– Возможно, вся история не соответствует действительности, – продолжил защитник. – У меня есть сомнения в правдивости показаний свидетеля.
Ева перевела это Яну Кралю. Тот посмотрел на нее и побелел. А светловолосый резко ответил защитнику:
– Многих жертв вообще не записывали по имени. Вам должно быть это известно, господин адвокат. Господин председатель, у нас имеется документ о регистрации свидетеля в лагере.
Давид Миллер нашел соответствующий документ. Светловолосый поискал нужное место и зачитал:
– Первого ноября сорок второго года свидетель был помещен в лагерь под номером двадцать сто семнадцать. Нередко случалось, что вновь прибывших регистрировали только на следующий день. Следовательно, прибытие тридцать первого октября вполне возможно.
Ева перевела.
– Господин свидетель, вы помните, когда именно по прибытии вас зарегистрировали? – спросил судья. – В тот же день? Или позже?
– Нет, не помню, – ответил Краль и после паузы добавил: – Для меня день смерти моих жены и сына первое ноября.
Опять взял слово защитник:
– Я повторяю, в тот день вы не могли видеть подсудимого на платформе, господин свидетель.
Подсудимый номер семнадцать снял солнечные очки и почти приветливо кивнул свидетелю:
– Простите, сударь, но я вообще не был на этой вашей так называемой платформе.
Со зрительской трибуны послышался возмущенный возглас, его зашикали. Председательствующий судья потребовал тишины, а затем попросил свидетеля еще раз, шаг за шагом описать его прибытие в лагерь, чтобы выстроить временну́ю схему. Ева перевела. Ян Краль вопросительно посмотрел на нее, она повторила:
– Все еще раз.
Краля начало трясти, его будто схватила невидимая огромная рука и трясла, трясла. Ева в поисках помощи перевела взгляд на прокуроров. Светловолосый понял, что свидетелю нужна пауза, и дал знак судье.
* * *
Низкое помещение без окон за залом, которое обычно служило гримеркой артистам, на сей раз выполняло роль комнаты для свидетелей. Заместитель прокурора, рядом с которым стоял Давид Миллер, втолковывал что-то Яну Кралю. Тот отказался сесть на стул и, шатаясь, прислонился к освещенному зеркалу, лицо у него было белое. Казалось, костюм вдруг сделался ему велик, как и воротник. От давешней солидности ничего не осталось. Ева переводила: его показания важны, он должен вспомнить. Но Краль заявил, что больше туда не пойдет. То, что здесь происходит, не оживит его жену и сына. Давид стал нажимать: Краль несет ответственность. По отношению к другим жертвам! Он схватил Краля за плечо, но светловолосый его оттащил.
– Вы не можете меня заставить, – покачал головой свидетель.
Светловолосый достал из кармана пачку сигарет и предложил Кралю. Тот взял сигарету, и они со светловолосым закурили. Все четверо молчали. Перед одним зеркалом стоял поднос со вчерашними бутербродами. Ломтики колбасы покоробились и покрылись капельками жира. Зеркало, отражавшее бутерброды, как и остальные, было обрамлено гирляндой из лампочек белого света, но видимо, что-то случилось с контактом, и лампочки тревожно мигали. Еве казалось, что Давид от нетерпения и раздражения сейчас лопнет. Под глазами у него были красные круги, как будто он почти не спал. Прилагая заметные усилия, Миллер сдержанно сказал:
– Господин Краль, вы важный свидетель не только по делу аптекаря. Самое главное – подсудимый номер четыре. Чудовище…
– Господин Миллер, я уже говорил вам… – перебил его светловолосый.
Давид отмахнулся:
– Да-да. Господин Краль, вы один из немногих, кто пережил пытки в одиннадцатом блоке. Вы должны дать показания! – И он резко обратился к Еве: – Переведите!
Ева открыла рот, но Краль вдруг рухнул на колени, как марионетка, у которой перерезали веревочки. Ева с Давидом едва успели его поймать и посадить на стул. Ева взяла у него недокуренную сигарету и потушила ее в пепельнице. Светловолосый обменялся долгим взглядом с Давидом и тихо сказал:
– У нас были сомнения уже во время допроса. Думаю, не стоит дальше настаивать. Даже если он отпадет. Мы просто теряем время. – И Еве: – Это не надо переводить, фройляйн Брунс.
Давид хотел что-то возразить, но светловолосый посмотрел на часы, кивнул Яну Кралю и вышел из комнаты. Давид недовольно двинулся за ним, не удостоив взглядом ни Еву, ни Яна Краля. Дверь он оставил открытой. Ева возмутилась. Как они могут так просто бросить человека, как будто он сломавшийся прибор? Она спросила у Краля, который обмяк на стуле:
– Хотите что-нибудь выпить, господин Краль? Стакан воды?
Но тот отмахнулся:
– Спасибо.
Ева нерешительно за ним наблюдала. Краль, похоже, не знал, что делать дальше. У него был такой вид, как будто он ждал указаний. Тогда Ева, сама себе удивившись, положила ему руку на локоть:
– Может быть, еще раз подумаете?
Краль не смотрел на нее.
– Сколько вам лет? – Но ответа он не ждал. – Такой молодой женщине нечего возиться с мертвыми. Нужно жить.
После этого он с трудом встал со стула, что-то пробормотал на прощание и вышел. Ева смотрела на мигающие лампочки и спрашивала себя, кого Ян Краль винит в смерти сына: тех людей, что в зале, или самого себя.
* * *
В детском отделении, где сегодня, как и в суде, целый день горел электрический свет, Аннегрета готовила младенцев ко второму кормлению. Она укладывала ревущие от голода свертки в коляски и вместе с сестрой Хайде везла их в женское отделение. Фрау Бартельс, молодая мама, уже сидела на кровати в одноместной палате – у господина Бартельса водились деньги – и ждала своего маленького Хеннинга. После двух недель, проведенных в родильной горячке, она выглядела хорошо. Их с малышом должны были сегодня выписывать.
Аннегрета достала громко плачущего Хеннинга из коляски и поднесла к обнаженной груди матери. Крики тотчас прекратились, Хеннинг засопел и начал сосать. Аннегрета смотрела на слегка покачивающийся маленький затылок и улыбалась. Фрау Бартельс поверх ребенка смотрела на Аннегрету и думала, что та, хоть полновата и слишком накрашена, симпатичная. Даже если бы она не спасла жизнь ее сыну.
Вскоре после родов у фрау Бартельс подскочила температура, о кормлении грудью нечего было и думать, и сестрам пришлось кормить маленького Хеннинга суррогатным молоком из шприца. Но за день до Рождества малыша сильно вырвало, а потом начался понос. Он худел с каждым днем, это вселяло серьезные опасения. Наконец ручки у него стали тонкими, гибкими, как тростинки. Аннегрета каждые полчаса вливала в него ложку подсахаренной воды, которая тут же стекала по подбородку. Но она не сдавалась. И через три дня Хеннинг, весом в полтора килограмма, скорее мертвый, чем живой, впервые удержал раствор. После этого он медленно пошел на поправку и сейчас весил, как после родов. Благодарность фрау Бартельс не знала границ, о чем она сегодня еще раз сказала Аннегрете. Но когда та хотела выйти, фрау Бартельс удержала ее за руку и прошептала:
– Я должна вам кое-что сказать, сестра. Мой муж подозревает, что Хеннинг получал здесь некачественное питание. Он написал жалобу. Лишь бы у вас не было неприятностей. Мне было бы очень жаль, вы были так добры к Хеннингу.
И фрау Бартельс извиняясь посмотрела на Аннегрету. Та, успокаивая ее, улыбнулась.
– Да все в порядке. Я бы на месте вашего мужа поступила точно так же. Я заберу Хеннинга через полчаса.
И Аннегрета вышла. Но в коридоре улыбка сошла с ее лица, и она в первый раз подумала: «Пожалуй, хватит».
* * *
В обеденный перерыв большинство участников процесса пошли в столовую дома культуры. Сотрудники прокуратуры, зрители, свидетели, родственники покупали кёнигсбергские клопсы или гуляш и садились за длинные столы неуютного, но практичного помещения. С подносом в руках искали себе место и защитники, в том числе Братец Кролик. За одном столом сидело несколько подсудимых, они утоляли голод так же, как и все остальные. Люди либо молчали, либо негромко обсуждали прогноз погоды, невозможное уличное движение, сухое, а то и резиновое мясо.
Ева с подносом подошла к столу, за которым сидели другие девушки – секретарши и стенографистки. Румяная молодая женщина в светлом костюме, уже видевшая Еву в прокуратуре, улыбкой пригласила ее подсесть. Ева села напротив нее и начала есть клопсы, которые ее отец никогда не подал бы такой температуры – еле теплые. Да и вообще есть ей не очень хотелось.
До обеда были заслушаны показания еще двоих свидетелей из Польши. Но те достаточно владели немецким и говорили без помощи Евы. Тем не менее она сидела рядом, чтобы при необходимости помочь. Однако перевести ей пришлось всего одно слово. Прогулочная трость. Палка. На платформе они были у офицеров СС вместо дубинок, чтобы успокаивать новых узников, когда те выходили из вагонов. Кто-то заговаривал, что-то спрашивал, проявлял строптивость, дети начинали плакать – и тогда, чтобы восстановить спокойствие, пускали в ход палки. Оба свидетеля видели на платформе подсудимого номер семнадцать. Один из них указал и на главного подсудимого, который, однако, так же как и аптекарь, решительно отрицал, что там был. И уж конечно, не проводил так называемых «селекций».
Ева перевела взгляд на крайний стол, окутанный сигаретным дымом. Она думала о том, что все подсудимые отрицали свою вину вполне правдоподобно. Они казались удивленными, потрясенными, даже возмущенными тем, что кому-то могло прийти это в голову: вот они смотрят людям в рот, ощупывают мышцы, отделяют работоспособных от их родных и навсегда разлучают семьи. Они правдоподобно отрицали, что тут же отправляли в газовые камеры бесполезных в их глазах людей. Ева отложила вилку с ножом. Бывало, по десять тысяч за день. Это показал Павел Пирко, входивший в состав группы заключенных, которые потом наводили на платформе порядок. Ева поискала глазами маленького хитрого человека, который рассказывал все это так весело, как будто описывал увеселительную прогулку по Рейну, но не нашла. Зато в другом конце столовой она заметила Давида Миллера, он торопливо, бездумно закидывал в себя еду и с полным ртом говорил что-то коллеге.
Ева попыталась представить себе: десять тысяч женщин, детей, мужчин. Десять тысяч ослабленных людей, они садятся в грузовик, и грузовик отъезжает. Но единственное, что она могла себе представить, это их надежду на горячий душ и кусок хлеба.
* * *
Эдит, нагруженная грязным бельем, спустилась в подвал «Немецкого дома», где у Брунсов была прачечная. Засунув руки в карманы голубого клетчатого фартука, она стояла перед новой стиральной машиной и следила за первой стиркой. Белый закрытый ящик стучал, качал воду, словно в нем билось огромное сердце. Эдит не могла оторваться, хотя на кухне было полно дел. У нее возникло смутное ощущение, будто эти звуки оповещают о начале чего-то нового. «Точнее, барабанят», – подумала она, имея в виду чудище, которое пришлось затаскивать в подвал трем грузчикам. Раньше она каждый четверг в большом чане варила передники, скатерти, кухонные полотенца, салфетки, помешивала их длинной палкой и наконец вытаскивала мокрое капающее белье из щелочного раствора, от которого слезились глаза. Теперь же она просто стояла, делать ничего было не нужно. Эдит почувствовала себя бесполезной и вздохнула.
Волосы у нее поредели, в них появились седые пряди, тело утратило формы, заплыло, стало мягче, податливее. Иногда по вечерам, прежде чем намазаться кремом, она сидела перед зеркалом и натягивала кожу лица, пока та не становилась гладкой, как прежде. А иногда по неделе не ужинала, чтобы влезть в бархатную юбку. Но тогда на лице появлялось больше морщин. «В определенном возрасте женщина должна решить, кем она хочет стать: коровой или козой». Эту фразу Эдит прочла в одном женском журнале. Ее мать определенно превратилась в козу. А Эдит никак не могла решить. На сцене она могла бы быть и той и другой. А еще возлюбленной, дочерью, матерью, бабушкой. В гриме и парике она могла бы играть леди Макбет, Джульетту, шиллеровскую Жанну Д’Арк…
Ее мысли прервал звук открывшейся двери. Вошел Людвиг в своей поварской куртке.
– Чего ты тут застряла, мама?
Эдит не ответила, и по ее виду Людвиг понял, что внутри у нее раздрай. Как в новой стиральной машине.
– Смысл машины ведь в том, что ты можешь использовать время иначе.
– Я всегда любила стирать, любила перемешивать белье в чане, тереть его на стиральной доске, выжимать, выбивать. Не знаю, смогу ли я привыкнуть к этой штуке.
– Привыкнешь. Ну давай, а то я стою под дождем с картофельным салатом.
Людвиг уже хотел выйти, но Эдит вдруг спросила:
– Может, с ней поговорить?
Людвиг посмотрел на жену и покачал головой:
– Нет.
Эдит помолчала. Барабан в стиральной машине крутился все быстрее. Вум-вум-вум.
– Он сейчас живет в Гамбурге. Торговец, у него большой магазин.
Людвиг сразу понял, о ком говорит жена.
– Откуда ты знаешь?
– В газете было написано. А жена его тоже здесь.
Стиральная машина тихонько зашипела и с хрипом начала откачивать воду. Муж и жена молча на нее смотрели.
* * *
После показаний свидетельницы, которая в тринадцатилетнем возрасте в последний раз видела на платформе своих маму и бабушку, председательствующий судья объявил перерыв до завтра. Ева отправилась в женский туалет, где ей пришлось ждать, пока освободится кабинка. Женщины стояли в очереди, как после театральной премьеры. Только сегодня не было оживленных разговоров о том, кто как играл. Все были сдержанны, вежливо придерживали двери, передавали полотенце, кивали друг другу. Ева тоже как будто ошалела.
Зайдя в освободившуюся кабинку, она закрылась и не сразу вспомнила, что, собственно, собиралась сделать. Затем раскрыла портфель и достала сложенное платье в светлых узорах. Сняла темную юбку, пиджак. В маленькой кабинке было тесно, и она все время ударялась о стенки. Натягивая через голову платье, Ева чуть не упала. Она тихо выругалась и потянулась к молнии на спине, наконец застегнула.
Тем временем в дамской комнате стало свободнее, за дверью все затихло. Ева сложила рабочий костюм и попыталась засунуть его в портфель, но тот не застегивался, и она оставила его открытым. Она уже собралась выйти из кабинки, как услышала, что дверь в дамскую комнату снова открылась и кто-то вошел. Этот кто-то шумно дышал, а может быть, плакал. Высморкался. Слабо запахло розами. Открылся кран, зашумела вода. Ева, затаив дыхание, с портфелем в руках ждала за дверцей кабинки. Но минуты шли, а вода все бежала из крана. Тогда она открыла задвижку и вышла.
В одной из раковин мыла руки жена главного подсудимого. На ней опять была фетровая шляпка, темно-коричневая сумочка стояла на подоконнике. Женщина постучала мокрыми пальцами по лицу, по которому пошли красные пятна. Ева подошла к соседней раковине. Женщина не посмотрела на нее, она словно окаменела. Очевидно, теперь Ева стала ее врагом. Они стояли рядом и мыли руки хозяйственным мылом, которое не давало пены. Ева косилась на морщинистые руки, на потертое обручальное кольцо. «Я ее знаю. Она дала мне пощечину. Вот этой самой рукой», – подумала Ева и, испугавшись этой нелепой мысли, отмахнулась от нее, закрыла кран и хотела выйти. Вдруг женщина загородила ей дорогу. За спиной шумела вода.
– Вы не должны верить тому, что здесь рассказывают. Муж говорил мне, что все они хотят компенсаций, денег. Чем страшнее то, что они рассказывают, тем больше денег.
Женщина взяла сумку с подоконника и, прежде чем Ева успела что-то ответить, вышла. Хлопнула дверь. Ева обернулась на открытый кран, закрутила его, потом посмотрела в зеркало и приложила руку к щеке, как будто еще чувствовала удар, который получила так давно.
* * *
Взяв в почти опустевшем гардеробе пальто, шляпу и перчатки, Ева вышла на улицу. Было около пяти. Серый день сразу перетек в сине-серые сумерки. В вечернем сумраке фары проезжавших мимо машин чертили длинные полосы света. Дом культуры располагался на оживленной улице.
– Вы хорошо поработали сегодня, фройляйн Брунс.
Ева обернулась. За ней стоял Давид Миллер. Он, как всегда, был без шляпы и курил. Ева невольно улыбнулась похвале, прозвучавшей из его уст. Но Давид продолжил:
– Меня просил передать это заместитель генерального прокурора.
Давид отвернулся и присоединился к двум коллегам из прокуратуры, которые выходили из здания. Еву кольнуло. Почему этот Миллер так демонстративно невежлив с ней? Потому что она немка? Но с остальными у него, судя по всему, проблем нет. По крайней мере, с коллегами. Да и со стенографистками.
От мыслей Еву оторвал автомобильный гудок. Во втором ряду остановилась желтая машина Юргена. Он, не выключая мотора, вышел из машины и открыл ей дверь. Ева села. Они быстро, стыдливо поцеловались в губы. Все-таки они помолвлены. Юрген вписался в поток машин. Ева, которая обычно во время езды бойко, беспорядочно комментировала все, что видела справа и слева, молчала. Она, казалось, не видела нагруженных покупками людей, тащивших за собой домой детей, – те то и дело застревали у освещенных витрин. Юрген бросал на нее испытующие взгляды, будто искал видимых глазу перемен, какого-то знака, который оставил на ней день. Но наружность невесты не изменилась. Тогда он спросил:
– Нервничаешь?
Ева обернулась к нему и улыбнулась:
– Да.
Потому что они собирались сделать что-то почти запретное.
* * *
Через двадцать минут машина очутилась в другом, как почудилось Еве, мире. Они проехали в высокие белые железные ворота, которые открыла и закрыла за ними невидимая рука, закружили по показавшейся бесконечной аллее, обсаженной невысокими фонарями. Ева всматривалась в темноту, за голые деревья и кусты, и догадалась, что там газон. «С каким удовольствием Штефан поиграл бы здесь в футбол», – подумала она, вспомнив две цветочные кадки, которые отец каждую весну выносил из подвала, а мать сажала в них красную герань, чтобы украсить вход в ресторан.
Дом вырос как из-под земли. Большой, белый, современный. Ему не хватало индивидуальности, будто это гараж, что Еву странным образом успокоило. Юрген затормозил перед домом и взял ее руку.
– Готова?
– Готова.
Они вышли из машины. Юрген хотел показать ей дом, который скоро станет и ее домом тоже. Отец Юргена и Бригитта еще не вернулись с острова в Северном море. И с трудом шагая против ветра – ежедневная прогулка по берегу перед ужином, – они не догадывались, что сын в это время обходит со своей белокурой невестой все их комнаты. Юрген открыл для нее даже строгую, без каких бы то ни было украшений, но солидную спальню отца. Ева была потрясена количеством комнат, размерами, элегантным дизайном. Она обратила внимание на высокие потолки, что, как объяснил Юрген, важно для отца, поскольку ему нужен воздух, чтобы думать.
Каблучки Евы то громко стучали по гладким мраморным полам, то утопали в толстых молочно-белых шерстяных коврах. И картины на стенах создавали совсем другое впечатление, чем фризский пейзаж у нее дома. Рассматривая угловатые, прорисованные черным контуры дома, стоявшего на берегу странно, намеренно неправильно – это Ева поняла – расположенного озера, она подумала о своих коровах. Когда ей было лет шесть-семь, она дала им имена.
– Гертруда, Фанни, Вероника… – попыталась вспомнить Ева.
– Добрый вечер, господин Шоорман. Фройляйн…
В комнату вошла крепкая женщина средних лет в бежевом рабочем халате. В руках у нее был поднос с двумя наполненными бокалами. Юрген взял бокалы и поднес один Еве.
– Фрау Тройтхардт, это Ева Брунс.
Фрау Тройтхардт не стесняясь смотрела на Еву глазами слегка навыкате.
– Добро пожаловать, фройляйн Брунс.
Юрген приложил палец к губам:
– Тс-с. Это тайна. Сегодня первый, неофициальный визит.
Фрау Тройтхардт, очевидно желая подмигнуть, заговорщически сощурила глаза, показав при этом ряд мелких здоровых зубов.
– Я вас умоляю. От меня никто ничего не узнает. Если вам угодно, я приготовлю ужин.
Юрген кивнул, и фрау Тройтхардт направилась к выходу.
– Я могу помочь вам на кухне, фрау Тройтхардт? – вежливо спросила Ева.
– Еще не хватало, чтобы гости сами готовили!
И фрау Тройтхардт вышла.
– У нее простые манеры, но выполняет свою работу она хорошо, – весело сказал Юрген.
Они чокнулись и отпили шампанского. Ева решила, что у колючей холодной жидкости горьковатый привкус дрожжей.
– Это шампанское, – уточнил Юрген. – Хочешь видеть верх декаданса? Захвати бокал.
Заинтригованная Ева двинулась вслед за Юргеном. Они прошли в «восточный флигель», как иронично выразился Юрген. Тревожный запах, который Ева уже давно чувствовала, но считала игрой воображения, стал сильнее. Юрген открыл дверь, включил верхний свет, и они вошли в большое помещение, выложенное небесно-голубой плиткой. Бассейн. Длинная стеклянная стена справа открывала вид на темно-зеленый сад. Уличные фонари отбрасывали мутные круги света. «Похоже на заброшенный аквариум, – подумала Ева. – В котором давно уже нет ни одной рыбы». На зеркально гладкой поверхности ярко-голубой воды не было ни морщинки.
– Хочешь поплавать?
– Нет-нет, спасибо.
Еве не хотелось сейчас раздеваться и мокнуть. Юрген, казалось, огорчился.
– Да у меня и купальника с собой нет.
Тогда Юрген открыл стенной шкаф, где на плечиках висело по меньшей мере пять купальников.
– Это как раз не проблема. Я тебя оставлю.
Ева опять хотела отказаться, но Юрген настаивал:
– Честно говоря, мне нужно сделать еще один звонок. Это может занять какое-то время. Шапочку найдешь в душе.
Юрген снял с плечиков один купальник, всучил его Еве и вышел. Оставшись одна, она стала смотреть, как со дна бассейна поднимаются маленькие пузырьки. Как в бокале шампанского, который она все еще держала в другой руке. «О нет, это же шампанское», – вспомнила Ева и отпила глоток. Ее слегка передернуло.
Через десять минут Ева в бледно-красном купальнике, который был ей тесноват, подошла к воде. С трудом запихнув под резиновую шапочку густые волосы, она послушно, ступень за ступенью, стала спускаться по металлической лесенке. Вода – теплее, чем она ожидала, – осталась почти неподвижной. Когда она поднялась до груди, Ева отпустила поручни и поплыла. Потом перевернулась на спину, понадеявшись, что шапочка удержит воду. Если у нее намокали волосы, их приходилось потом сушить феном целые полчаса. Ева легла на воду, вытянула руки и ноги и стала смотреть на гудящие лампы дневного света на потолке.
Как странно – плавать в чужом доме. С шампанским в желудке. В чьем-то чужом купальнике. Никогда еще Еве не было так трудно представить себе, что придется оставить прежнюю жизнь и поселиться тут с Юргеном. Но таков порядок вещей. Она вспомнила Яна Краля, который, возможно, уже возвращался домой. Может быть, как раз в эту минуту он летит высоко над домом с бассейном на самолете, который держит курс на Польшу. Через Вену. Ева один раз проделала этот путь: три года назад она летала на экономический конгресс в Варшаву. Там-то и утратила невинность. Ева перевернулась на живот и нырнула головой вниз. Она плыла по дну бассейна, чувствуя, как вода просачивается под шапочку. Но вынырнула, только когда стало невмоготу.
* * *
В своей гостиной, которая одновременно служила ему кабинетом, Юрген бесшумно ходил взад-вперед по толстому ковру. Он не говорил по телефону. Никакого звонка ему делать было не нужно, он солгал Еве. Он просто хотел проверить, как это, когда Ева здесь, рядом, в другой комнате, где он ее не видит. Как это, если она тут поселится? И ему пришлось признаться себе: приятно сознавать, что Ева в доме. Как маленький новый орган, накачивающий новую жизнь в старое тело.
* * *
Потом Ева с Юргеном ужинали за длинным обеденным столом, сев по обе стороны угла.
– Нет, не напротив, Ева, мы тут не на великосветском приеме, – пошутил Юрген.
Влажные волосы Ева распустила по спине. «Как-то нехорошо, – покосившись на нее, подумал Юрген. – Какая-то распущенность». Он подавил желание ее поцеловать. Только не в доме отца, который еще ничего не знает о Еве. Они ели приготовленное фрау Тройтхардт оленье рагу. Юрген подробно рассказывал о важном архитекторе, который восемь лет назад построил этот дом – «вариации на тему раннего Миса ван дер Роэ». Ева вспомнила вязаные крючком салфетки у себя дома и попыталась представить этого архитектора у них в гостиной. Она спросила у Юргена, что бы сказал архитектор, если бы пришел к ним в гости и увидел повсюду салфеточки на мебели. Юрген недоуменно посмотрел на Еву.
– Предупреждаю, это мое приданое. Пятьдесят шесть салфеточек на все случаи жизни.
Юрген понял и подчеркнуто серьезно ответил:
– Вязаные салфетки тоже отвечают архитектурному принципу симметрии. – И рассмеялся, как ребенок, которому удалась дерзкая проделка.
Ева тоже рассмеялась. Интересно, какой вид был бы у господина архитектора, если бы он у себя над камином обнаружил фризский пейзаж с ярко-красным закатом? Коров? Но, продолжая хихикать, Ева вспомнила, как отец иногда смотрит на картину и тяжко вздыхает. Ностальгия по родным местам. И еще она помнила, как мать всегда осторожно протирает раму, потому что картина была куплена за большие деньги. Ева посерьезнела и почти погрустнела.
– У меня такое ощущение, будто я предаю своих родителей.
Юрген тоже перестал смеяться и взял Еву за руку.
– Тебе нечего их стыдиться.
Поужинав, они перешли в кабинет Юргена. Юрген поставил пластинку и подсел к Еве на широкий серый диван. Ева не в первый раз задумалась о том, что решительно не понимает джазовой музыки. Не понимает, когда песня начинается, когда заканчивается. Да и вообще джаз сбивал ее с толку. Она любила такую музыку, когда слышала следующий звук еще прежде, чем он прозвучал. А в джазе не так. Ева попросила у Юргена еще вина, которое приятно затуманило голову и сделало комнату еще прекраснее – теплый свет, высокие книжные полки, симпатичный беспорядок на письменном столе перед доходящим до пола окном. Она устало замигала и закрыла глаза. И всплыла картина – люди с чемоданами, давка, люди в военной форме, шипя, отдают короткие приказы. Старая женщина с желтой звездой на пальто достает что-то из кармана, кладет в руку девушке и говорит: «Храни свою честь!» Потом старуху уводят, а девушка смотрит на руку. Ева открыла глаза и выпрямилась. Она не хотела думать о том, что сегодня рассказывала свидетельница, о том единственном, что ей осталось от бабушки и потом было украдено в лагере.
– А какая же комната будет моя?
– Хозяйственная, – с отсутствующим видом ответил Юрген, который, откинув голову на спинку дивана, курил и слушал музыку. – Хочешь посмотреть? Или, может, кухню? Она, прежде всего, большая…
– Я не об этом. Мне же нужен письменный стол.
– Если тебе, например, нужно будет написать письмо, ты всегда сможешь воспользоваться моим.
Юрген встал и перевернул пластинку. У Евы начинал болеть живот. Дичь была ей противопоказана. Кроме того, фрау Тройтхардт пережарила оленину. И без того темная панировка стала почти черной. Она лежала в желудке, как уголь. Или как камень вместо молодого козленка у волка – эту сказку сегодня просил ее почитать Штефан, хотя он уже большой. Юрген опять подсел к ней и положил на колени толстый фотоальбом.
– Я хочу показать тебе фотографии мамы.
Ева постаралась не обращать внимания на боль в животе и раскрыла альбом. Мать Юргена оказалась нежной черноволосой женщиной, все фотографии были не очень четкими. На одной из них перед пивной стояли улыбающиеся родители, между ними маленький Юрген. Ева узнала его по серьезному взгляду. Узнала она и место.
– Это наверху, на горе. Пивной ресторан.
– Да, лето сорок первого, два дня спустя отца арестовали.
– Почему?
– Он был коммунист. Я не видел его четыре года.
Юрген замолчал и потушил сигарету в тяжелой стеклянной пепельнице. Похоже, он ничего больше не собирался объяснять. Еве показалось, он вообще пожалел, что дал ей альбом.
– У тебя красивая мама. И милая. Я бы хотела с ней познакомиться.
Ева полистала еще, но фотографий больше не было. Вдруг из альбома выскользнула незакрепленная картонка. Ева взяла ее. Это оказалась открытка с изображением горного ландшафта. Ева перевернула ее, оборотная сторона была плотно записана детским почерком. «Дорогая мама…» Прежде чем Ева успела прочесть дальше, Юрген забрал у нее открытку.
– Меня отправили в деревню, в Альгой, – сказал он и после паузы добавил: – С тех пор я не переношу запаха коров и коровьего молока.
– Там было так плохо?
Юрген вернул открытку в альбом, закрыл его и положил на стеклянный столик.
– Я хотел остаться с мамой. У меня было такое чувство, что я должен ее защищать. Как это бывает у мальчишек. А потом она погибла.
Ева погладила Юргена по щеке. Он посмотрел на нее, и вдруг она легонько, но слышно пукнула. Чертово оленье рагу. Ева пунцово покраснела. Как ужасно. Юрген чуть улыбнулся, но потом все-таки поцеловал ее. Они сползли по дивану, задышали быстрее, посмотрели друг на друга, смущенно улыбнулись, опять поцеловались. Рука Юргена поползла вверх по ее голой руке и осторожно стянула почти высохшие волосы, которые слегка пахли хлоркой. Ева вытащила его рубашку из брюк и запустила обе руки. Вдруг он отпрянул.
– Ты хочешь меня соблазнить?
– Или ты меня? – засмеялась Ева.
Но Юрген мрачно сказал:
– Я высказал тебе свое мнение. До свадьбы…
– А может, это немножко несовременно?
Ева опять хотела обнять Юргена. Не потому что ее переполняло желание. Она просто хотела, чтобы они наконец переспали, окончательно заключили союз, связали себя, так она думала. Но Юрген придержал ее руку, и она испугалась его сурового взгляда. На мгновение ей показалось, что он ее сейчас ударит. Она молча выпрямилась. Музыка закончилась протяжным звуком, который становился все тише. Пластинка закончилась.
– Я не понимаю.
– Я отвезу тебя домой.
* * *
Пока Ева с Юргеном ехали по почти ночному городу и Ева пыталась подавить отвратительное бурление в животе, в окнах прокуратуры еще горел свет. В конференц-зале Давид Миллер и другие стажеры готовили вопросы и документы к следующему дню судебных слушаний. Свидетели продолжат давать показания.
Светловолосый сидел в своем кабинете с генеральным прокурором. Их тускло освещала настольная лампа. Они тихо обсуждали слухи, будто бы судьям угрожают знакомые подсудимых, бывшие члены СС.
* * *
А у Аннегреты закончилась смена. Она вышла на улицу, ледяной ветер дул в лицо. Опять будет мороз? Этот вопрос занимал медперсонал во время перерыва. Самой Аннегрете погода была безразлична, она почти никогда не мерзла и сегодня не застегнула темно-синее, похожее на палатку пальто. Она хотела повернуть налево к трамвайной остановке, но вдруг увидела, что ее ждут. Доктор Кюсснер, который стоял, прислонившись к темной машине, завидев ее, отделился от кузова. Аннегрета хотела сделать вид, будто не заметила его, но доктор махнул рукой и тихо позвал:
– Сестра Аннегрета!
Аннегрета подошла и вопросительно посмотрела на него, ветер развевал ее расстегнутое пальто. Кюсснер смущенно пробормотал что-то насчет «случайно узнал, что нам в одну сторону» и «охотно подвезу». Аннегрета дала ему высказаться. Она понимала, что это начало нового романа. Она уже давно замечала его взгляды и намеки типа: «У моей жены никогда нет для меня времени». Кроме того, уже несколько дней карты указывали на это, выкладывая на соответствующем месте бубнового короля. Вечно одно и то же. Она села в машину.
– Вы сразу хотите домой? Или есть возможность выпить по глоточку?
Не дожидаясь ответа, доктор тронулся с места.
– Еще раз должен вам сказать, – нервно продолжил он, – как славно вы выходили маленького Бартельса. А его отец все-таки написал руководству. На меня давят. Но что же мы можем сделать, кроме гигиены, гигиены и еще раз гигиены? Или мы что-то пропускаем?
Аннегрета не ответила. С ней произошло нечто необычное: она расплакалась. Салон машины заполнили звуки, как будто кошка попала в водосточную трубу. Круглое лицо покраснело, она хрюкала и рыдала. Зрелище было не слишком привлекательное. Доктор Кюсснер, бросая на нее обеспокоенные взгляды, снизил скорость и наконец съехал на обочину, беспомощно включив аварийный свет. Он представлял себе это несколько иначе. Но Аннегрета не могла успокоиться. Еще никогда ее не посещало столь острое чувство, что жизнь прошла зря. И закончилась, не начавшись. Через какое-то время доктор Кюсснер протянул ей чистый, выглаженный женой носовой платок и сказал:
– Мы мешаем движению.
Аннегрета вымученно улыбнулась и успокоилась.
– Все в порядке. Я бы с удовольствием поужинала. В винном ресторане.
* * *
Тем временем Юрген привез Еву домой, и они договорились, что в выходные поедут куда-нибудь в Таунус прогуляться.
– Если будет погода, – одновременно сказали они.
Прощаясь, оба были уже трезвые и недовольные. Войдя в темную прихожую, Ева увидела, что из-под двери гостиной выбивается полоса света, но за дверью было странно тихо. Ева тихонько постучала, однако ответа не получила. Она вошла и испугалась: отец растянулся на полу, ноги положив на материно кресло. Глаза у него были закрыты.
– Папа? Что случилось?
– Эта спина меня доконает. Я не стал говорить матери, она уже спит.
Ева тихо закрыла за собой дверь и подошла к нему.
– У тебя кончились таблетки?
Людвиг открыл красные, воспаленные глаза.
– Они так бьют по желудку.
Ева, не снимая пальто, села на диван и посмотрела на отца. Ей было очень его жалко. У нее у самой почти заболела спина.
– Это мне посоветовала Ленце. У ее мужа тоже часто болит спина. Лечь на пол и поднять ноги… Вроде бы так меньше давления на межпозвоночные диски. Проклятые диски…
Не глядя на Еву, Людвиг поохал и совсем иначе, чем обычно, спросил:
– Ну, что было сегодня интересного?
Ева вспомнила двух отцов, которых видела сегодня, и неожиданно для себя сказала:
– Были двое мужчин, оба потеряли свои семьи.
С минуту Людвиг лежал неподвижно, затем снял ноги с кресла, с трудом перевернулся на бок, встал на четвереньки, потом на колени. Выругался. Он по-прежнему не смотрел на Еву.
– В войну многие потеряли семьи, дочерей, а прежде всего сыновей, – сказал он.
– Но тут другое. Людей сортировали…
Людвиг рывком встал и выпрямился.
– Да, я рад, что не пришлось на Восток. Ну, дочь, а теперь расскажи, сколько комнат у Шоорманов, – вдруг весело попросил он.
Ева раздраженно смотрела, как отец выключает торшер, дважды дернув шнурок – по одному движению на каждую лампочку. Вжик. Вжик. В комнате стало темно. С улицы проникал слабый свет, и отец вдруг показался большим черным духом.
– Папа, в этом лагере в день убивали тысячи людей. – Ева с удивлением отметила, что голос ее прозвучал чуть не с упреком.
– Кто это говорит?
– Свидетели.
– Прошло столько лет… Память может подвести.
– Ты полагаешь, они говорят неправду?
– Я уже сказал, что думаю насчет твоей работы.
Ева испугалась, таким несговорчивым она еще отца не видела. Людвиг хотел выйти и уже открыл дверь. Ева встала, нагнала его и, понизив голос, сказала:
– Но это должно выйти наружу. И преступления должны быть наказаны. Не могут же они и дальше просто так жить на свободе.
К ее полной растерянности Людвиг ответил:
– Да, конечно.
И оставил Еву в темной гостиной. Еще никогда отец не был таким чужим. Ужасное чувство, но, наверно, сейчас пройдет. Тут она услышала позади шум и ритмичный шорох, потом скулеж. Пурцель сидел на ковре и вилял хвостом.
– Пурцель, маленький мой, ты еще раз хочешь на улицу? Ну пойдем.
* * *
Ева перед домом ждала, пока Пурцель управится со своими делами. Боль в животе утихла. Она набрала побольше воздуха и, выдохнув, проследила глазами за облаком пара, еще раз сильно выдохнула, облако вышло больше. Пурцель все обнюхивал, в том числе свой фонарь, но не садился. «Что-то с ним не так», – подумала Ева и поплотнее запахнула пальто. Сегодня ночью будет мороз. На припаркованных машинах уже образовался иней. Как слой сахарной пудры. Только одна машина еще была темная. В ней сидели два человека, их головы все время сливались в одну. Ева узнала Аннегрету, которая целовалась с мужчиной. Ева отвернулась и резко затянула Пурцеля в дом. Наверняка опять женатый.
* * *
Шел третий час. Ева набросила на себя второе одеяло, но согреться не могла. Перед глазами мелькали дневные картинки. Отец лежит на спине. Суровый Юрген. Свидетель, который, обмякнув, сидит в гримерке, подобно птице, что ударилась о стекло и теперь прислушивается к себе – выживет она или умрет. Девушка на платформе, которая раскрывает ладонь, после того как увели ее бабушку, в руке кусочек мыла. Жена главного подсудимого в дамской комнате, которая рядом с ней моет руки.
Ева попыталась навести порядок в своих чувствах: любовь, страх, невозможность поверить, странное чувство долга, чужие непонятные истории. Как и родители, как и сестра, она долго не могла уснуть. Только Штефан глубоко спал, растянувшись поперек кровати, возле которой были разбросаны солдатики и крошки кекса. Когда около четырех Ева заснула, ей приснился сон. Фрау Тройтхардт в несоразмерно большой кухне готовит в огромной кастрюле оленье рагу. Возле кастрюли высится куча мясных обрезков размером почти с самое фрау Тройтхардт. Ева говорит ей: «Это слишком много на двоих». Та нетерпеливо смотрит на Еву: «Я вам все-таки покажу. Просто посмотрите сюда». Фрау Тройтхардт берет кусок мяса и бросает его в кастрюлю, потом еще один, еще. По очереди.
* * *
Серьезных морозов больше не было, хоть их и боялись. Зима незаметно отступала, «уходила по-французски», как говорил Людвиг Брунс. Теперь все ждали хорошей весны. По вторникам и четвергам Ева работала в доме культуры, а по понедельникам ходила в прокуратуру, где переводила письменные документы. Теперь она часто видела сны, что было ей несвойственно. Ей снились люди, с которыми она днем сидела на свидетельской трибуне. Чаще всего они начинали говорить и не оставляли ей времени найтись с ответом.
Лагерь чудовищным образом становился ей родным: бараки, хозяйственные корпуса, распорядок. Дома ей не с кем было об этом поговорить. Родители, Аннегрета и слышать не хотели о процессе. Они даже пролистывали статьи, которые почти каждый день появлялись в газетах. Ева начала записывать в синюю школьную тетрадку то, что слышала за день. Первоначальное чувство, что она как-то связана с лагерем, что узнаёт людей, жену главного подсудимого, не уходило.
Она познакомилась с другими девушками – секретаршами в прокуратуре, стенографистками в суде. Во время перерывов они вместе обедали, обсуждая моду и танцевальные площадки. О том, что происходило в зале, они не говорили.
По вечерам, если Юрген никуда ее не приглашал, они созванивались. Вальтер Шоорман с мачехой, вернувшись с острова, не заметили, что Ева была в доме. Фрау Тройтхардт их не выдала. Она теперь, как рассказывал Юрген, часто ему подмигивала. Ей явно нравилось быть сообщницей. Состояние отца не ухудшилось. Напротив, морской воздух, как он сам неоднократно говорил, «прочистил мозги». К радости и огорчению Юргена, отец решил принять участие в составлении нового каталога. Юрген хотел поместить на обложку женщину в норковой шубе. «Отец, нам нужно выбираться из твоей дешевой коммунистической норы!» Но Вальтер Шоорман настаивал на том, что обложку должны украсить дети, играющие на снегу. «Дети наше будущее. Но тебе, вероятно, это невдомек, Юрген». Состоялся жесткий разговор.
Ева каждый день ждала, что Юрген представит ее отцу и его жене. Но приглашения не поступало, а спросить Ева не решалась. Они ходили на танцы или в кино, а когда их никто не видел, целовались. Иногда Юрген гладил ее бедра или грудь. Как будто они не планируют совместное будущее, так казалось Еве. Как-то они пошли на шведский фильм, о котором все перешептывались с расширенными глазами – стенографистки и секретарши в суде, коллеги Аннегреты в сестринской. На фильм пускали только с восемнадцати лет, Ева непременно хотела его посмотреть и с растущим возбуждением следила за женщиной, которая не имела никаких барьеров в половом отношении. Когда на трехметровом экране во второй раз показалась ее обнаженная грудь, Юрген встал и вышел из зала. Ева раздраженно пошла следом и затянула его на неосвещенное крыльцо оружейного магазина «Вилл».
– Это в тебе до сих пор говорит священник? Ты ханжа, Юрген. И зажат.
Юрген возразил, что секс в фильме не имеет ничего общего с его представлениями о близости и утолении желаний. Ничего общего с любовью. Ева не согласилась:
– Я думала, тебе для этого нужен брак. А теперь вдруг любовь? Значит, мы все-таки можем? А может, ты просто не считаешь меня привлекательной? Я была бы тебе благодарна за правду.
На это Юрген назвал ее любострастной. И хотя такого слова в словаре Евы не было, она возмутилась. Ей трудно было себе представить, что это она умоляет мужчину переспать с ней.
– Ты унижаешь меня!
– Это твоя прерогатива!
Вернувшись домой после этого похода в кино домой, Ева постучалась к Аннегрете. Опытная сестра пришла к выводу, что Юрген гомик, и Еве нужно решить, может ли она с этим жить. Ева горько плакала в эту ночь, но на следующее утро Юрген стоял в дверях с цветами и таким несчастным лицом, что она его простила. Она смотрела в его глаза и видела, что он любит, желает ее. Конечно, что-то его останавливало. Но Ева прогнала эту мысль. Может, он просто не такой, как все.
* * *
Ранним утром с запада в темный еще город пришел первый теплый весенний ветер. В пансионе «Солнечный» венгр Отто Кон уже давно не спал. Каждые несколько минут он брал часы с ночного столика, открывал крышку и смотрел на циферблат. Сотрудники прокуратуры наперебой утешали его: все, к сожалению, занимает больше времени, чем предполагалось, поскольку был изменен порядок слушаний. Много дней он терпеливо ждал. Но сегодня настал его черед. За оранжевыми занавесками светлело, зачирикала первая птица. Серьезно, неутомимо она выводила все те же три звука. Пю-па-пи. Пю-па-пи. Когда часы показали семь, венгр встал. Он, как всегда, спал в одежде. И, как всегда по утрам, надев черную шляпу с узкими полями, достал из чемодана маленькую темно-коричневую бархатную сумочку с надписью на иврите. Кон посмотрелся в зеркало и с удовлетворением отметил, что борода отросла и уже покрывает воротник рубашки.
Когда он, проходя мимо стойки администратора, не поздоровавшись, положил тяжелый ключ, владелец пансиона не остановил его, не пригласил на завтрак, накрытый в небольшом помещении в глубине дома. Он делал это только в первые дни: «Завтрак включен в стоимость». И всякий раз зря. Когда Кон и сегодня вышел из пансиона, не позавтракав, хозяин заметил вышедшей из кухни с полным кофейником жене, что этот чертов еврей наверняка пошел молиться. Жена попыталась его успокоить: им и так хватило, чего наваливать лишнего. Она читала в газете, что по прибытии в лагерь людей «сектировали, или как там это называлось». Одних на смерть, других на работу, где они, правда, тоже скоро умирали. Все же такого они не заслужили. Хозяин пожал плечами. Да бог с ними, с этими евреями. Он их даже пускает в пансион. Уже несколько недель! Хотя потом наверняка придется проводить дезинфекцию от вшей.
– Ты ведь в глубине души хороший человек, Хорст. – И жена исчезла в столовой.
Хозяин точно не понял, говорит она серьезно или в насмешку, но решил, что это не так важно и нечего тут раздумывать. Ему нужно было проверить смету сантехника, которого он попросил установить в четырех номерах раковины. Тот заломил несусветную цену. А ведь они друзья.
* * *
Тем временем венгр дошел до синагоги в Вестэнде. У входа он коротко кивнул охраннику в форме и вошел в высокий молельный зал, стены которого были покрыты белой штукатуркой. Здесь собралось больше десятка пожилых мужчин. Хазан, маленький энергичный человек в черной шляпе, запевал общине молитву на иврите:
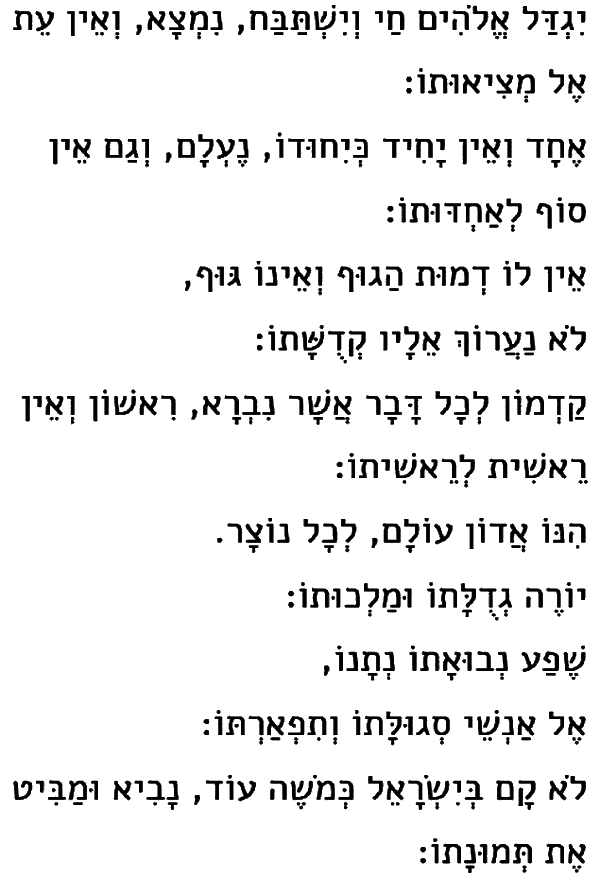
«Будь возвеличен и славим, вечно живой Б…г! Он сущ, и нет предела его существованию. Он един, и нет никого, кто был бы так же един. Он скрыт, и единству его нет предела. Нет у него телесного подобия и нет никакой телесности. Ни с чем не сравнима его святость. Он предшествовал всему, что сотворено. Он первый, и нет начала у его начала. Он господин мира и всему сотворенному показывает он величие свое».
Среди молящихся был молодой человек в вышитой кипе, покрывавшей рыжие волосы, которые довольно сильно отросли на затылке. Венгр узнал его. Он из прокуратуры. Рыжеволосый все время посматривал, как ведут себя остальные. Венгр достал из бархатной сумочки молитвенное покрывало, набросил его, и, произнеся соответствующий стих, принялся бормотать что-то, легко, ритмично покачиваясь. Но сегодня он молился не вместе с общиной. Он просил у Бога прощения за то, что собирался сделать. Должен был сделать.
Давид Миллер не заметил венгра. Но он не следил и за хазаном, который говорил:
– Разве все язычники пред тобой не есть ничто? Мужей, носивших великие имена, словно и не было. Мудрые словно не имеют знаний, понимающие словно не имеют понимания. Ибо большинство их деяний туман, и дни их жизни пусты пред тобой, и человек не выше зверя, ибо все суета.
Давид Миллер тоже не молился вместе с общиной. Он просил Бога о страшной мести подсудимым. Особенно худощавому с лицом шимпанзе, подсудимому номер четыре. Чудовищу.
* * *
Хотя Еву просили быть только после обеда, она уже за полчаса до начала заседания сидела на своем месте среди прокуроров. Ей нравилась эта почти молитвенная атмосфера в зале. Многие еще не пришли. А те немногие, кто готовил сегодняшнее заседание, раскладывая на судейском столе документы и другие бумаги, двигались степенно и тихо, если и переговаривались, то шепотом. Даже свет казался приглушенным, как в церкви. Еще не включили высокие прожекторы, которые несколько дней назад установили в каждом углу, чтобы усилить дневной свет и верхнее освещение, а также дать возможность судье лучше видеть нюансы мимики подсудимых.
Ева надела новый светло-серый костюм из легкой ткани, стоивший почти сто марок. Но теперь она зарабатывала сто пятьдесят марок в неделю, а в темно-синем костюме очень быстро начинала потеть. Зал часто был перетоплен, а множество людей, никак не меньше двухсот человек, дополнительно прогревали его своими телами и потребляли кислород. Несмотря на высокие потолки, на постоянно приоткрытые окна, несмотря на то что служители прикручивали отопление, начиная с полудня здесь стояла невыносимая духота. На зрительских трибунах женщины падали в обморок. «Но возможно, это еще ужасные рассказы свидетелей», – думала Ева, доставая из портфеля оба словаря.
Она не понимала, почему некоторые зрители ходят на заседания. Репортеров, в основном молодых нечесаных людей в пыльных костюмах, можно было узнать по блокнотам и бесстрастным лицам. Жены главного подсудимого, подсудимых номер четыре и номер одиннадцать, не пропускавшие ни одного заседания, были Еве уже хорошо знакомы. Наверняка среди зрителей есть и родственники погибших. Или друзья. Они слушают показания с расширенными, испуганными глазами, качают головой, плачут и возмущенно выкрикивают что-то подсудимым, когда те в очередной раз повторяют: «Я ничего не знал. Ничего не видел. Ничего не сделал. Мне об этом ничего неизвестно».
Еще приходили мужчины, следившие за ходом процесса невозмутимо, однако явно симпатизировавшие подсудимым. В перерывах они держались вместе и, когда мимо проходил главный подсудимый, машинально щелкали каблуками. Но были еще зрители, не поддававшиеся классификации. Некоторые приходили каждый день и ловили каждое слово.
Один раз Ева настоятельно просила прийти Юргена. Однако тот сослался на запарку с осенне-зимним каталогом. Ева видела, это отговорка, но его она могла понять, как могла в конечном счете понять и своих родных. Зачем добровольно копаться в прошлом? «Но я-то почему здесь?» – спрашивала она себя, не имея ответа на этот вопрос. Зачем ей хотелось выслушать показания венгра, которого она тогда отвела в пансион? Почему она хотела, должна была знать, что с ним случилось? С самого первого дня процесса Ева постоянно видела его в фойе – в черной высокой шляпе над бородатым лицом. Как свидетель он не обязан был присутствовать на всех заседаниях. Но во время слушаний Кон часто ставил себе стул у входа, как будто стоял на карауле. Во время перерывов они с Евой иногда обменивались взглядами, но он ни разу не дал ей понять, что помнит ее.
Служитель и техник вкатили тележку. На ней стоял прямоугольный аппарат, похожий на танк без гусениц. Из него торчала короткая трубка с линзой. Эпископ. Ева помнила такой по школе. На уроках географии учитель с его помощью воспроизводил на стене фотографии из дальних стран. В основном это были голые дикари перед хижинами, откуда шел дым. «Эта раса скорее обезьянья или скорее человеческая? Фройляйн Брунс?» К подобным вопросам у господина Браутлехта была слабость. Иногда, до прихода учителя, девочки включали аппарат и подкладывали туда вырезанные из газет фотографии кинозвезд, которыми тогда бредили. Молодые мужчины в свободных позах и остроконечных туфлях. Разве могли сравниться с ними пигмеи господина Браутлехта? Ева слегка улыбнулась при этом воспоминании и стала смотреть, как техник устанавливает тележку перед белым экраном, который повесили возле плана лагеря. Затем он взял шнур и принялся искать между столами подсудимых розетку. Вероятно, эпископ позволит сэкономить время. До сих пор фотографии и доказательства передавали из рук в руки: судьи прокурорам, те защитникам. Это было довольно сложно. Техник включил эпископ, и на экране появился дрожащий квадратик света. Техник что-то сказал служителю, и тот, положив на стекло проектора лист бумаги, закрыл крышку. На экране появилось несколько нечетких слов. Техник подкрутил линзу, стало еще хуже.
– Вы, кажется, понадобитесь нам сегодня только после обеда?
Давид Миллер прошел мимо Евы к своему столу во втором ряду.
– Доброе утро, господин Миллер, – ответила она.
– Посмотрим, какое оно доброе.
Ева хотела сказать что-нибудь остроумное, но ничего не пришло в голову. Давид достал из портфеля несколько разноцветных папок и в определенной последовательности разложил их на столе. При этом из портфеля выпал кругляш из вышитой ткани. Маленькая шапочка, которую Давид опять упрятал в портфель.
– Что вы, собственно, против меня имеете?
Не оборачиваясь на Еву, Давид продолжал раскладывать бумаги.
– С чего вы решили, что я что-то против вас имею?
– Вы даже не здороваетесь со мной.
Давид не удостоил Еву взглядом.
– Не знал, что для вас это так важно. Добрый день, фройляйн Брунс.
Тем временем техник настроил резкость. «Просьба не бросать гигиенические прокладки в унитаз». Такое объявление висело в каждой кабинке женского туалета дома культуры. Служитель и техник заухмылялись.
Заместитель генерального прокурора, уже в торжественном облачении, в черной мантии, вошел в зал и поприветствовал Еву коротким, но дружелюбным кивком. Его светлые волосы, мягкие, как у младенца – Аннегрета называла такие ангельскими, – влажно поблескивали. Дождь, что ли, пошел? Через стекло понять это было невозможно. Давид протянул светловолосому папку.
– Если мы сегодня не прижмем аптекаря… Здесь подготовленное постановление об аресте. Сегодня он не выйдет просто так из зала суда. А если наш человек-луна даст слабину, то…
– То что? – отмахнулся светловолосый. – Вы посадите его в кутузку? Я уже не раз просил вас проявлять благоразумие, господин Миллер. А вы ведете себя, как герой вестернов.
Светловолосый оставил Давида и подошел к председателю, который как раз входил в боковую дверь вместе с молодым судьей. Лицо у него более чем когда-либо было похоже на полную луну. Ева решила, что «человек-луна» действительно точное определение, и улыбнулась. Давид через плечо обернулся на Еву.
– Что вы на меня так смотрите?
Он явно разозлился, что переводчица стала свидетельницей того, как начальство устроило ему выволочку.
– Я вообще на вас не смотрю.
– Но я же не слепой.
– Мне кажется, вы страдаете от завышенной самооценки, господин Миллер.
Ева как-то читала статью о психических заболеваниях, там встречалось это выражение. Давид принялся яростно листать папки. У главного входа появилась стенографистка, фройляйн Шенке. На ней тоже был новый костюм – узкого покроя, в матово-розовых тонах. Садясь на свое место, она улыбнулась Еве, которая ответила ей короткой улыбкой. Ей не очень нравилась фройляйн Шенке, в ее взгляде было что-то лукавое, «католическое», как сказал бы отец. Но Еве нравился Давид Миллер, она, к собственному изумлению, вдруг поняла это. Она посмотрела на его затылок – Давид как раз низко склонился над папкой – и пожалела о своих словах, почувствовав потребность положить ему руку на плечо. По-дружески.
Чуть позже свои места заняли, как обычно, сначала зрители, затем обвинение, потом защитники и подсудимые в сопровождении восьми полицейских. Под конец вошли судьи, при появлении которых все встали. Полицейские выстроились позади скамьи подсудимых, смахивая скорее на почетный караул. На зрительских трибунах, как всегда, не было ни одного свободного места.
Отто Кон, выпрямившись, стоял у свидетельской трибуны, чуть опираясь на стол тремя пальцами правой руки. Благодаря высокой черной шляпе с узкими полями он казался выше своего роста. Свидетель отказался снять ее. На нем, как разглядела Ева, были все те же тонкие кожаные ботинки на босу ногу и потрепанное пальто. Борода Кона напомнила ей елку, которую отец со Штефаном после Крещения отнесли на чердак, чтобы весной сжечь во дворе. «Он как будто не мылся с тех пор, как я подошла к нему на рождественской ярмарке, – подумала Ева. – Хоть бы побрился». Еве стало чуть ли не стыдно за неаккуратный вид этого совсем чужого ей человека. Ей не пришло в голову, что Отто Кон хотел, чтобы его не только слышали и видели, нет, виновные на скамье подсудимых должны были еще почувствовать его запах.
Кон громко заговорил по-немецки – с сильным акцентом, но вполне понятно. Он сам настоял на этом, хотя презирал язык, как и все немецкое. «Чтобы те, там, меня услышали». Говорил он быстро, будто горный ручей бежал по камням. Фройляйн Шенке и еще две стенографистки едва успевали строчить на маленьких щелкающих стенографических машинках. Отто Кон сообщил, что как еврей румынского города Херманштадт он вместе с женой и тремя маленькими дочерьми был депортирован в сентябре сорок четвертого года.
– Мы прибыли, вышли на платформу, там была толпа людей, она двигалась вперед. Я был с женой и тремя детьми – дочерьми – и сказал им: «Главное, чтобы мы остались вместе. Все будет нормально». Едва я успел это сказать, как между нами вклинился солдат: «Мужчины направо, женщины налево!» Нас разделили. Я не успел обнять жену. Она крикнула мне: «Иди сюда, поцелуй нас!» Может быть, женским инстинктом она чувствовала, какая нам грозит опасность. Я подбежал к ним, поцеловал жену, девочек. Тут меня опять оттеснили на другую сторону, и мы двинулись. Параллельно, но врозь. Между рельсами. Между двумя поездами.
Вдруг я услышал: «Врачи и аптекари сюда». И я встал, куда велели. Из Херманштадта было тридцать восемь врачей и несколько аптекарей. К нам тут же подошли два офицера. Один, высокий, красивый, моложавый человек, дружелюбно спросил: «Где господа учились? Вы, например. Вы?» Я сказал: «В Вене», другой: «Во Вроцлаве» и так далее. Второго офицера мы сразу узнали и стали перешептываться: «Это ведь аптекарь». Мы, врачи, часто его видели. Он был представителем фармацевтической фирмы. Я сказал ему: «Господин аптекарь, у меня двое близнецов, за ними нужен особый уход. Пожалуйста, я буду делать все, что вам угодно, только позвольте мне не разлучаться с семьей». Тогда он переспросил: «Близнецы?» – «Да». – «Где они?» Я показал: «Вон они идут». – «Позовите их», – сказал он мне. Я громко позвал по имени жену и детей. Они услышали и подошли к нам. Аптекарь взял за руку моих двух дочерей и отвел к другому доктору. И, стоя у того за спиной, он мне говорит: «Ну, скажите ему». Я сказал: «Господин капитан, у меня двое близнецов». Я хотел продолжить, но тот врач сказал: «Потом, сейчас у меня нет времени», – и, махнув рукой, отослал меня. Аптекарь сказал: «Ну, тогда возвращайтесь в свою колонну». Жена с детьми пошли своей дорогой. Я начал плакать, и аптекарь сказал мне по-венгерски: «Ne sírjon, не плачьте. Их просто ведут на помывку. Через час увидитесь». Я вернулся к своей группе. Больше я их не видел.
Аптекарь, это был подсудимый номер семнадцать, вон тот. В черных очках. Тогда я был ему даже благодарен. Я думал, он хочет сделать мне что-то хорошее. Только потом я узнал, что это значило передать тому врачу близнецов для экспериментов. Я нашел объяснение и тому, почему врач не заинтересовался моими девочками. Они были разнояйцевые, совсем не похожи. Такие разные. Одна была нежная, а другая…
Председатель резко перебил свидетеля:
– Господин свидетель, вы уверены, что узнаете в подсудимом номер семнадцать аптекаря, с которым говорили на платформе?
Вместо ответа Отто Кон полез в карман пальто, порывшись, достал две фотографии и, подойдя к судейскому столу, молча положил их перед председателем. Тот дал знак служителю, ответственному за эпископ. Служитель с серьезным видом взял фотографии, включил эпископ, торжественно положил первый снимок на стекло и подкрутил объектив. Все в зале увидели на белом экране сильно увеличенное изображение. Ева мельком уже видела эту фотографию – в открытом чемодане в маленьком номере пансиона. Теперь она могла как следует ее рассмотреть. На снимке была изображена семья в саду – обычный день в жизни.
За окном прозвонил школьный звонок. Окна в зале стояли открытыми, но на школьном дворе за домом культуры по-прежнему было тихо. Зимние каникулы. Штефана вчера посадили в поезд и отправили к бабушке в Гамбург – с увещеваниями и запасами еды, которых хватило бы на пять поездок.
Глядя на снимок, Отто Кон вспоминал, как старшая дочь, Мириам, не хотела фотографироваться. Они с женой принялись уговаривать ее и в конце концов подкупили шоколадом с орехами. На фотографии было видно, что у нее набиты щеки. Она сжала губы и выдавила смешную улыбку. Кон решил, что он правильно все продумал.
Председатель повернулся к скамье подсудимых.
– Подсудимый, вам знакома эта семья?
– Нет.
Аптекарь развернул газету и стал читать, как будто все происходящее его не касалось. Служитель поместил в эпископ вторую фотографию. Даже до наведения резкости можно было узнать подсудимого номер семнадцать в том же самом саду. А уж после того как служитель навел резкость, все увидели Отто Кона и подсудимого номер семнадцать в свете заходящего, судя по всему, солнца. После хорошего разговора за бокалом хорошего вина. Рядом.
– Подсудимый, вы узнаете фотографию? Вы признаете, что знакомы со свидетелем? Снимите ваши солнечные очки.
Аптекарь неохотно снял очки и, как бы равнодушно пожав плечами, наклонился к адвокату. Они пошептались. Ева видела, что Братец Кролик растерян. Наконец защитник встал.
– Мой подзащитный не имеет ничего сказать.
Тогда встал светловолосый. Он зачитал подготовленное постановление об аресте.
– Показания свидетеля недвусмысленны. Участие подсудимого в селекциях на платформе доказано…
Ева видела, что листы бумаги в его руке дрожат. Давид тоже заметил это и обернулся на Еву. Они обменялись одинаково напряженным взглядом.
– Господин председатель, наше право не позволяет подсудимому оставаться на свободе, – продолжил светловолосый. – Мы ходатайствуем о заключении его под стражу в следственный изолятор.
Тишина.
Председатель с судьями удалился на совещание. Почти никто не воспользовался пятнадцатиминутным перерывом, чтобы сходить в туалет или купить в фойе прохладительных напитков. Ева тоже осталась в зале. Давид впереди что-то царапал в тетрадке. На зрительских трибунах люди молча ждали или тихо переговаривались. У входа светловолосый беседовал с генеральным прокурором, который ненадолго появлялся на процессе – будто крот, решила Ева, – а потом снова исчезал и целыми днями прятался в своей норе. Прокуроры косились на Отто Кона, который занял свое место. Он так пододвинул стул к столу, чтобы смотреть прямо на подсудимых. Те дремали или изучали документы.
Аптекарь не обращал на Кона никакого внимания. Он отвернулся и, положив руку на спинку соседнего стула, обратился к человеку с лицом хищной птицы, главному подсудимому, который, как обычно, во время коротких перерывов сидел прямо и неподвижно, пристально наблюдая при этом за людьми в зале. Теперь он кивнул аптекарю и что-то ему ответил. В обоих не чувствовалось никакого напряжения.
Ева не могла отвести глаз от аптекаря. Он был похож на жабу, жирную, самодовольную жабу, которая подквакивала бывшему начальству. Наконец аптекарь резко развернулся и посмотрел прямо на Еву. Главный подсудимый тоже сощурил глаза. Оба через зал изучали Еву. Она задержала дыхание, как будто на нее дыхнул кто-то со скверным запахом изо рта. Аптекарь издевательски ей поклонился. Ева быстро взяла словарь и лихорадочно принялась его листать. Она прочла, как будет по-польски «перекресток со светофором».
* * *
Когда судьи заняли свои места и в зале снова воцарилась тишина, председатель объявил, что удовлетворяет ходатайство прокуратуры. На основании достаточных доказательств в части пункта обвинения «пособничество убийству» подсудимый номер семнадцать в конце заседания будет задержан и препровожден в камеру предварительного заключения. Аптекарь молча надел солнечные очки, стряхнул пылинку с дорогого костюма и скрестил руки. Некоторые из его собратьев принялись возмущаться, в том числе главный подсудимый: «Для этого отсутствуют всякие основания!» Светловолосый оставался неподвижен, но Ева видела, что под столом он сжал правый кулак. Со зрительских мест послышались жидкие аплодисменты. Давид Мюллер импульсивно повернулся к Еве и прошептал:
– А ведь это только начало!
Ева кивнула. Она тоже радовалась этой победе. Затем председатель попросил Отто Кона, который бесстрастно наблюдал за происходящим, рассказать о своем прибытии в лагерь и последующих месяцах. Кон встал, опять оперся тремя пальцами о стол и рассказал все, что пережил. Он говорил больше часа, его речь прерывали только короткие уточняющие вопросы. Свидетель утверждал, что часто видел главного подсудимого, тот ездил по дорожкам на велосипеде, от барака к бараку, а также слышал о подсудимом номер четыре, которого все боялись и называли чудовищем. Он видел, как медбрат, подсудимый номер десять, положил на шею одному поваленному на землю заключенному трость и, встав на оба конца, задушил его.
– Это грязная ложь! – закричал человек, которого его пациенты, когда он входил к ним в палату с завтраком или сменной повязкой, любовно называли «папой».
Еву затошнило. Кон, не прерываясь, говорил о том, чего в лагере не было: хлеба, тепла, защиты, покоя, сна, дружбы. И о том, чего было в избытке: грязи, шума, боли, страха и смерти. Кон вспотел и снял шляпу, обнажив наполовину лысую голову, отчего борода показалась еще более буйной.
– В день освобождения я был голый, весил тридцать четыре килограмма, весь обсыпан черно-серой сыпью, кашлял гноем. Смотря на себя вниз, я будто видел собственный рентгеновский снимок. Один скелет. Но я поклялся себе, что выживу, потому что я должен рассказать, что там происходило.
Кон положил шляпу на стол и рукавом тонкого пальто отер капли пота на лбу. Давиду показалось, что свидетель на волосок от смерти, хотя сейчас он совсем не тощий. Кон смотрел на подсудимых, как будто ждал ответа, но они молчали. Только медбрат встал и, надувшись, стал кричать во все стороны:
– Я должен решительно возразить! Никогда я не совершал ничего подобного! Я на такое просто не способен! Спросите у моих пациентов, они называют меня «папой», потому что я к ним добр! Спросите!
Некоторые зрители взорвались негодованием, председатель настойчиво призвал соблюдать тишину. Ева боролась с тошнотой, она глотала, глотала, но во рту было сухо, а сердце билось очень быстро. Встал защитник. Он спросил Кона, кого же именно подзащитный якобы убил при помощи трости? И когда это якобы случилось? Кон не мог назвать имени, дата тоже не сохранилась у него в памяти, но он это видел. Сев на свое место, довольный адвокат вытащил из складок мантии часы и посмотрел на них.
– У меня больше нет вопросов.
У обвинения тоже больше не было вопросов, и председатель объявил, что свидетель свободен. Ева с облегчением подумала, что сейчас будет перерыв, она дышала ртом и беспрестанно сглатывала. Тут Отто Кон поднял руку.
– Я должен сказать еще кое-что. Все эти господа утверждают, им, дескать, ничего не было известно о том, что происходило в лагере. Попав туда, я знал все уже на второй день. И не только я. Там был юноша, шестнадцати лет. Его звали Андреас Рапапорт. Из одиннадцатого блока. Он кровью написал на стене, по-венгерски: «Андреас Рапапорт, прожил 16 лет». Через два дня его забрали. Он крикнул мне: «Дядя, я знаю, что сейчас умру. Скажи моей маме, что я до последней минуты думал о ней». Но я не смог ей этого передать. Она тоже погибла. Этот юноша, он знал, что там происходило! – Кон сделал несколько шагов к подсудимым и затряс кулаками. – Этот юноша, он знал. А вы нет? Вы нет?
Еве вдруг показалось, что Кон – библейский персонаж. Бог гнева. На месте подсудимых ей стало бы страшно. Но мужчины в приличных костюмах и галстуках смотрели на него с презрением, равнодушием или любопытством. Подсудимый номер четыре, чудовище с лицом старого шимпанзе, даже прикрыл рукой нос, будто защищаясь от дурного запаха.
– Спасибо, господин свидетель, вы свободны. Господин Кон, вы нам больше не понадобитесь. – Председатель наклонился к микрофону. Кон растерянно обернулся, как будто вдруг забыл, где находится. – Вы можете идти.
Кон коротко кивнул, развернулся и пошел к выходу. Другой судья объявил перерыв. Ева сразу заметила, что венгр забыл на столе свою шляпу. Не раздумывая она встала, взяла шляпу и вышла за Коном в фойе.
Несколько репортеров стояли перед телефонными кабинками, установленными специально для процесса. Все кабинки были заняты, одну так затянуло сигаретным дымом, что курильщик утонул в нем. Но, проходя мимо, Ева услышала:
– Да говорю же тебе, аптекаря арестовали… Он проводил селекции.
Чувствовался слабый запах столовой – картошки и голубцов, которые давали почти каждый день. Еву все еще тошнило, но на секунду она об этом забыла.
– Господин Кон! Вы забыли свою шляпу…
Но Кон, казалось, ее не слышал. Он подошел к двойным стеклянным дверям, легко открыл их и вышел. В окно Ева видела, как он, не останавливаясь, шагает по улице, размеренно, по прямой. Она торопливо распахнула тяжелые двери и, оказавшись на площадке перед домом культуры, с ужасом поняла, что венгр, не оборачиваясь ни налево, ни направо, приближается к проезжей части, где было много машин.
– Господин Кон! Остановитесь! Стойте!
Тот, не реагируя, двигался, как заводная железная игрушка Штефана. Арлекин. Хотя новая юбка была такой узкой, что не позволяла делать большие шаги, Ева заторопилась, как могла. Кон тем временем уже пробирался между припаркованными машинами. Ева почти догнала его. И тут – за секунду до того, как Еве схватить его за рукав, – он сделал шаг вперед, на проезжую часть, в самый поток, как будто в шумную реку. Послышался удар, и белая машина смела Кона капотом. Он отшатнулся, развернулся и мешком упал лицом вниз. У Евы ненадолго потемнело в глазах, она сама чуть не упала вместе с ним, однако сумела на коленях подползти к нему и трясущимися руками перевернула на спину. Машина, под визг тормозов проехав несколько метров, остановилась. Загудели другие машины, некоторые водители опускали стекла и начинали ругаться, так как им приходилось теперь объезжать. Они не видели человека на обочине. Кон был бел лицом, глаза закрыты. Ева провела ему рукой по лбу.
– Господин Кон, вы меня слышите?.. Эй, откройте глаза… Вы меня слышите?
Ева взяла старческую руку, поискала пульс, но слышала только собственное сердце. Кто-то опустился рядом с ней на асфальт. Давид.
– Что случилось?
Давид приподнял Кону голову. Тем временем из белой машины вышел еще совсем молодой человек, начинающий водитель, и, подойдя к ним, в ужасе посмотрел на бородатого старика, который находился без сознания.
– Он умер? О Господи, вот это удар! Я тут вообще не виноват.
Из уголка рта на буйную грязную бороду вытекла маленькая струйка крови. Ева поднялась, отошла на несколько шагов, оперлась правой рукой на багажник одной из припаркованных машин, а другой, в которой все еще была шляпа, сдавила живот. Со стороны могло показаться, что она после представления раскланивается перед публикой, но ее несколько раз вырвало на асфальт. Оказавшийся рядом Давид протянул ей носовой платок. «Бумажный. Типичный янки, – прыгали мысли Евы. – Ах нет, он же канадец». И Давид в первый раз тепло на нее посмотрел.
Через двадцать минут машина «Скорой помощи» с синей мигалкой и завывающей сиреной пробралась сквозь дневной поток машин к дому культуры. Вокруг на улице собралась небольшая группка людей. Некоторые перешептывались, какая, дескать, вонь, наверняка бродяга. Да к тому же пьяный. Полицейский со смехотворно маленьким блокнотиком беседовал с начинающим водителем, который только качал головой. Другой полицейский отгонял репортеров с фотоаппаратами – те с горящими глазами повыскакивали из дома культуры. Ева снова опустилась на колени перед Коном и взяла его за руку – безжизненную, холодную. Она не заметила, что прямо за ней стоит главный подсудимый с лицом хищной птицы и строго смотрит на Кона.
– Улица для того, чтобы по ней ездить, – сказал он жене, нос которой под шляпкой казался еще острее. – А здесь нужно сделать переход.
Возле них остановилась «Скорая помощь», сирена смолкла, и Ева беспомощно наблюдала, как врач быстро осмотрел Отто Кона, а потом два санитара торопливо понесли его на носилках в машину.
– Насколько это серьезно? – спросила она у врача.
– Посмотрим.
– Можно я поеду с ним?
Врач бросил на Еву мимолетный взгляд.
– А вы кто? Дочь?
– Нет, я… я не родственница.
– Тогда, простите, нет.
– Куда вы его везете?
– В городскую больницу.
Санитар захлопнул двери. Машина отъехала и скоро исчезла из вида, только сирену еще было слышно довольно долго. Люди разошлись. Давид продиктовал полицейскому с маленьким блокнотиком домашний адрес Кона, после чего тот обратился к Еве:
– Вы были свидетельницей?
Он записал имя Евы, и она заявила, что Кон сам виноват в случившемся. В этот момент мимо с грохотом проехал грузовик. Полицейский не разобрал ее слов, и ей пришлось повторить:
– Он сам явился виновником аварии.
Полицейский поблагодарил ее и отошел к коллегам. Ева заметила, что все еще держит в руках черную шляпу.
* * *
После обеденного перерыва, во время которого, словно по тайной договоренности, никто не заговаривал о несчастном случае, Ева переводила поляка, который был капо в камере хранения. Старик показал, что у прибывавших в лагерь немедленно отбирали все вещи и за пять лет там скопилось множество денег, украшений, шуб, ценных бумаг. Он помнил огромное количество цифр, и хотя числа было первое, что она выучила по-польски, Еве пришлось сосредоточиться, чтобы не наделать ошибок. На время она забыла про Кона, но войдя около шести в квартиру на Бергерштрассе, положила черную шляпу в прихожей на вешалку и тут же, не снимая пальто и не включая в прихожей свет, прошла к телефону и в полумраке набрала телефон городской больницы. Ожидая соединения, она заметила на полу у двери в гостиную маленькую блестящую лужу. Пурцеля нигде не было видно, он не выбежал, как обычно, поздороваться с ней. На другом конце провода раздался приятный женский голос:
– Городская больница. Приемный покой.
Ева поинтересовалась пожилым человеком, Отто Коном из Венгрии, которого доставили днем. С ним произошел несчастный случай возле дома культуры. Как он себя чувствует? Но приветливая женщина не предоставила Еве никакой информации. Тогда Ева попросила соединить ее с детским отделением, с сестрой.
* * *
В полутемной процедурной детского отделения горела только лампа над кушеткой, которая обычно освещала маленьких пациентов. Пустая кушетка имела печальный, покинутый вид. Доктор Кюсснер и Аннегрета жарко спорили. Оба были возбуждены, но говорили шепотом, чтобы их никто не услышал в коридоре.
– Я не понимаю тебя, Аннегрета. Это такая редкая возможность.
Жена Кюсснера с обоими детьми внезапно на две ночи отправилась к родственникам, а Аннегрета тем не менее отказывалась от свидания.
– Не хочу.
– Необязательно же у меня дома. Хотя, если ко мне зайдет медицинская сестра кое-что обсудить, что в этом такого?
Аннегрета, скрестив руки на груди, прислонилась к шкафу, на котором стояли огромные весы с неумолимой стрелкой и холодной металлической чашей – неподкупный инструмент ухода за младенцами.
– Просто не хочу, Хартмут, подстраивать свою жизнь под вашу. Мы договорились на следующий четверг. До этого я не поступаю в твое распоряжение.
– Ты невыносимо упряма.
Доктор Кюсснер подошел к Аннегрете и неловко погладил ее по голове. Она недавно осветлила волосы, которые стали почти белыми.
– Я хочу насладиться этой короткой свободой, неужели ты не понимаешь? Вместе с тобой.
– Разведись, тогда будешь вечно свободен.
Аннегрета не имела это в виду всерьез, но ей было интересно услышать, как станет выкручиваться Кюсснер, как будет говорить те же самые слова, которые она уже столь часто слышала от других женатых мужчин.
– Я же сказал тебе, мне нужно время.
«Да, классическая фраза», – с удовлетворением подумала Аннегрета и улыбнулась. Кюсснер приподнял полу ее халата, завел руку между ног и замер. Он был неопытный любовник. Аннегрета отвела его руку и высвободилась. Доктор сел на металлический вращающийся табурет, его вдруг будто покинули все силы.
– Я думал, это будет проще.
– Роман? Тут нужна тренировка. Любой человек – машина. Любой может включить или выключить чувства. Только нужно знать, на какую кнопку нажимать.
Кюсснер посмотрел на Аннегрету.
– Я беспокоюсь о тебе.
Аннегрета хотела состроить шутливую гримасу, но с испугом поняла, что Кюсснер говорит правду. Она пошла к двери.
– Мне нужна твоя ответственность, Хартмут, а не чувства.
Кюсснер встал и сделал жест человека, признающего поражение.
– Ладно, тогда, как обычно, в четверг.
– И пожалуйста, не влюбись в меня, – серьезно сказала Аннегрета.
Кюсснер рассмеялся, как будто его застали врасплох, и хотел что-то ответить, но тут дверь в сестринскую распахнулась. И Аннегрета, и доктор Кюсснер с облегчением отметили, что они на расстоянии нескольких метров друг от друга. Сестра Хайде заглянула в комнату и недовольно, как всегда, сказала:
– Там ваша сестра звонит.
Доктор Кюсснер подчеркнуто по-деловому обратился к Аннегрете:
– Хорошо, сестра, мы все обсудили.
* * *
По коридору, где уже включили ночное освещение, Аннегрета подошла к посту дежурной. Собравшись с духом, она подняла лежавшую на столе трубку. Ева обычно не звонила ей в больницу.
– Что-то с папой?
– Нет, Анхен, не волнуйся, мне нужна твоя помощь.
Аннегрета облокотилась на стол, за который уселась сестра Хайде. Та заполняла истории болезней и старалась казаться занятой. Аннегрета с удивлением услышала, что Ева просит ее осведомиться об одном пациенте в отделении экстренной хирургии.
– Я вообще не понимаю, о ком ты говоришь, Ева. С кем произошел несчастный случай? Отто как? Кто это?
– Свидетель. На процессе.
Аннегрета молчала, не отводя взгляда от стены позади сестры Хайде. Там висело расписание на следующий месяц. Дни были помечены разными цветами. Цвет Аннегреты голубой, как браслетики на руках мальчиков, которых она так любила. Вот уже два дня в первой палате лежал особенно очаровательный младенец. Михаэль. При рождении он весил почти пять килограммов.
– Попробую, – сказала в трубку Аннегрета.
– Спасибо. Перезвони, пожалуйста, если что-то узнаешь.
Аннегрета повесила трубку. Сестра Хайде в немом вопросе подняла на нее кислое лицо. Аннегрета не стала ничего ей объяснять. Она прошла по коридору и остановилась на пороге первой палаты. Пока еще лежавшие в темноте дети не плакали. До кормления у Аннегреты было полчаса. Она подошла к кроватке Михаэля и погладила его по маленькой головке. Тот не спал и, уставившись черными глазами в пустоту, водил кулачками.
* * *
В квартире Брунсов Ева взяла в кладовке за кухней ведро с тряпкой и вытерла лужу, оставленную Пурцелем в прихожей. Режим его прогулок не изменился, но в последнее время он все чаще гадил в квартире. Ему было уже одиннадцать лет, возможно, это старческое. Ева отогнала мысли о том кошмаре, который устроит Штефан, когда им придется усыпить пса. Над кухонной раковиной она промыла и отжала тряпку и посмотрела на часы. После разговора с Аннегретой прошло уже полчаса. Ведь не так же долго спросить? В этот момент зазвонил телефон. Ева быстро прошла в прихожую и сняла трубку.
– Ева Брунс.
Но это был Юрген, он звонил из Западного Берлина, куда на несколько дней поехал по делам – осмотреть фабрику в Восточном Берлине, где шили постельное белье. Юрген был весел. Его приятно удивило качество восточногерманского белья, и он надеялся дешево его купить. Стена, по его словам, все еще действует угнетающе. На ужин ему подали замечательный кострец. Живет он в гостинице на Ку-дамм с видом прямо на разрушенную церковь Вильгельма. Решение оставить ее в разбомбленном виде, по его мнению, было неправильным.
– Такие напоминания вовсе не нужны, память люди несут в себе.
У Евы не хватило терпения выслушивать эти философские рассуждения.
– Юрген, прости, но я жду звонка.
– От кого?
– Расскажу потом, спокойно, когда вернешься, ладно?
Юрген замолчал, и Ева воочию увидела перед собой его подозрительное лицо, потемневшие глаза, однако гордость не позволяла ему пуститься в расспросы. Юрген был ревнив, в этом Ева убеждалась уже несколько раз на танцах, когда ее приглашали другие мужчины. Но ей это льстило. Значит, она ему небезразлична.
– Ладно, тогда заканчиваем. Желаю тебе спокойной ночи.
Он действительно обиделся. Ева сказала:
– Да, завтра уже увидимся. Сладких снов.
Ева ждала, пока Юрген положит трубку, но он вдруг сказал:
– Кстати, мой отец и его жена хотят с тобой познакомиться. В пятницу мы идем ужинать. В «Интерконти». Согласна?
Ева была обескуражена, но радостно ответила:
– Да, конечно. А что ты им сказал?
– Что хочу на тебе жениться.
Юрген произнес эти слова странно холодно, но Еве было все равно.
– Да ну! И что? Что они сказали?
– Могу только повторить: они хотят с тобой познакомиться.
Юрген повесил трубку. Еве понадобилось некоторое время, чтобы осознать, что «прорыв», как она это называла про себя, наконец свершился. Страх, что Юрген еще может увильнуть, ушел. Шоорманы знают о ее существовании. Знают, что она невеста их сына. Ева громко позвала Пурцеля, поскольку больше обнять на радостях было некого. Но пес не показывался. Ева зашла в гостиную и встала на колени. Собака черным пятном с двумя блестящими глазами затаилась на своем обычном месте под диваном. При том, что Пурцель был хитер, больно кусался, когда этого никто не ожидал, он умел чувствовать себя виноватым.
– Ну давай, выходи, не оторву я тебе голову.
Пурцель не пошевелился, но Ева видела белки его глаз. Она протянула руку, медленно вытащила пса за ошейник и взяла его на руки. Снова зазвонил телефон. Ева вместе с Пурцелем пошла в прихожую и опять подняла трубку. На этот раз звонила Аннегрета. Она поговорила с заведующим отделением экстренной хирургии.
– Этот Кон, у него все в порядке.
Ева с облегчением выдохнула.
– Как здорово, потому что казалось, все очень плохо…
– Просто сотрясение мозга.
– Ты сможешь к нему зайти? У меня тут его шляпа…
– Его уже выписали. Он сам захотел.
– Что? Ах, ну да… Спасибо, Анхен, я так рада… Благодарю тебя…
Чпок. Аннегрета повесила трубку. Или связь оборвалась. Ева прижала к себе Пурцеля, который недовольно сучил ногами.
– Ну, что скажешь? Какой счастливый день!
Ева покрутилась с Пурцелем по прихожей и поцеловала его в жесткую, короткую шерсть.
– И я никому не скажу, что ты натворил. Обещаю.
Тут Пурцель клацнул, пытаясь укусить ее за щеку. Ева сбросила его на пол.
– Ты был и остаешься чудовищем.
* * *
В городской больнице сестра Хайде с коллегой повезли коляски с младенцами к матерям в женское отделение. Аннегрета осталась ухаживать за Михаэлем, у мамы которого из-за тяжелых родов не появилось молоко, а кормить малыша из бутылочки еще не было сил. В сестринской Аннегрета развела в стеклянной бутылочке четыре столовые ложки молочного порошка кипящей водой, достала из кармана халата стеклянный шприц, наполненный коричневатой жидкостью, медленно ввела его содержимое в бутылочку, закрутила соску и сильно потрясла. Зайдя в палату, она взяла Михаэля на руки и уселась с ним на удобный стул, стоявший у окна. Михаэль беспокойно мотал головой и прижимался ртом к ее халату. Аннегрета улыбнулась – ищет грудь. Приложив бутылочку к щеке, она проверила температуру суррогатного молока и поднесла соску малышу. Он тут же начал пить, сильно и равномерно, издавая булькающие звуки.
Аннегрета сверху смотрела на него, чувствовала маленькое теплое тельце, которое ей доверяло. Это был ни с чем не сравнимый покой, тяжелый золотой мед разлился по всему телу. Она забыла обо всем, забыла, что ходила к старшей сестре отделения экстренной хирургии, которую немного знала, справиться об Отто Коне. Забыла, что та провела ее по коридору в особое помещение, рассказывая при этом о трудном пациенте. Такой неухоженный. Дурно пахнет. Забыла, как старшая сестра открыла дверь в помещение без окон с крестом на стене. Там на носилках лежало покрытое белой простыней тело. Сломанное ребро проникло в легкое, объяснила сестра. Он не дышал уже, когда санитары грузили его на носилки. Аннегрета смотрела на Михаэля, который с блаженным видом пил из бутылочки, забыв, что сестра спросила ее: «Ты его знала?» Она забыла, как, подойдя к носилкам, увидела возле укрытых ног скудные пожитки. Потертый бумажник, откуда торчало несколько новеньких банкнот, расплющенные карманные часы, стрелки которых остановились на без десяти час, и две старые фотографии.
* * *
О том, что свидетель умер от последствий несчастного случая, Давид, собираясь уходить, узнал поздно вечером от зампрокурора. Они стояли в дверях кабинета и молча смотрели друг на друга. Радость от ареста аптекаря окрасилась горьковатым привкусом. Светловолосый попросил Давида взять на себя все формальности. В Будапеште у Кона не было никого, кто мог бы оплатить транспортировку тела. Значит, придется запрашивать департамент по погребению неимущих. Давид пообещал все устроить. Светловолосый смотрел, как стажер медленно идет по коридору и исчезает за стеклянной дверью. Он ничего не мог с собой поделать: он привязался к этому молодому человеку.
Давид вышел из здания прокуратуры, его омыл влажный вечерний воздух. Ноги вдруг стали страшно тяжелыми. Кон, скорее всего, умер, как раз когда они с фройляйн Брунс стояли возле него на коленях. А его душа тем временем отлетела и поднималась в небо. Или провалилась в канализацию. В зависимости от того, какие у кого представления о вечности. Давид устал, но в пансион ему не хотелось. Он повернул налево, к Сисси. Ее смена «У Сюзи» начиналась в десять, значит, у них больше часа.
После первой встречи Давид больше не ходил в это заведение, пробовал другие. И других дам. Но не так давно в холодном, тесном овощном магазинчике он покупал три апельсина, так как был простужен, а у него застряли в голове наставления матери о витаминах. Пока тепло закутанная продавщица в шерстяных перчатках без пальцев осторожно, будто это сырые яйца, укладывала фрукты в бумажный пакет, в магазин зашла худая и несколько грустная женщина. Она медленно сняла перчатки и стала отбирать картофель из ящика, внимательно осматривая каждую картофелину. Ногти у нее были покрыты ярко-красным лаком, не сочетавшимся с бесцветным обликом.
– Да они мерзлые!
– Послушайте, я торгую первоклассным товаром!
Женщина показалась Давиду странно знакомой. Расплачиваясь, он вспоминал, где ее видел. В доме культуры? В прокуратуре? Она не похожа на пожилых письмоводительниц. Или это уборщица? Женщина заметила его взгляд, повернулась к нему и приветливо поздоровалась. И тут он уловил слабый сладковатый запах. Сисси, с которой он спал. В которую он входил, в которую излил семя. Давид покраснел под цвет своих волос. Сисси улыбнулась, и на лице у нее образовалось множество мелких морщинок, которые он не заметил в темной комнате борделя.
Как школьник, который хочет чуть подзаработать, он помог Сисси донести картошку до дома и с тех пор частенько к ней заходил. В маленькой квартирке, выходящей на задний двор, где она жила с четырнадцатилетним сыном – «производственная травма», как выразилась новая знакомая, – они сидели за кухонным столом, курили и беседовали. Иногда включали новый телевизор, которым Сисси очень гордилась. Они были как две собаки, которые понравились друг другу и улеглись рядом. Спать они больше не спали. После того как Давид увидел настоящую жизнь Сисси, она ему больше не подходила. О процессе она знать ничего не хотела. В войну ей пришлось туго. И после войны, когда русские вошли в Баулиц, где они с мужем держали маленькое хозяйство. На окраине.
В этот вечер Сисси заметила, что в Давиде поубавилось напыщенности. Он казался испуганным и начал говорить уже с порога: об уличном движении, погоде, странном запахе из соседнего дома. Пока Сисси, повернувшись к нему спиной, стирала в раковине чулки, Давид сидел за кухонным столом, выпрямившись, прислонившись к стене, и рассказывал – не о Коне, а о жизни. Своей и своего старшего брата. Их депортировали из Берлина в лагерь. Брат был в Сопротивлении и попал в политический отдел. Там во время допросов его запытали, и он умер. И позвали его, младшего брата, чтобы он его вынес. Он не узнал брата. Допрос вел начальник политического отдела. Подсудимый номер четыре. Похожий на старого шимпанзе. Когда Давид замолчал, Сисси повернулась к нему и начала развешивать выжатые, но еще влажные чулки на веревку, протянутую по всей длине кухни. Давид ждал, что она что-нибудь скажет – посочувствует или возмутится. Но Сисси, не глядя на него, только спросила:
– А ты рассказал об этом своему начальнику?
Давид с минуту обиженно помолчал, потом с важной строгостью ответил:
– Ты понятия не имеешь. Меня бы тут же вышвырнули.
Он объяснил, что личная заинтересованность исключает участие в процессе. Это называется пристрастность. Ему нужно было принять решение. И он решил стать не свидетелем, а в судебном порядке преследовать преступников. Из спальни, служившей одновременно гостиной, послышалась драматично нарастающая музыка. Сын Сисси сидел на корточках перед телевизором и смотрел детектив. Давид умолк. Послышались выстрелы, кто-то закричал.
Сисси продолжала развешивать чулки. Давид решил, что он, наверно, как-то не так все сделал. Он прокашлялся и добавил, что никому еще этого не рассказывал. Что было неправдой – он два раза ужинал с фройляйн Шенке, стенографисткой, и на второй раз поделился с ней своей историей. Под страшным секретом. С тех пор фройляйн Шенке во время заседаний иногда бросала на него сочувственные взгляды. И не только она, другие девушки тоже стали вести себя с ним более скованно – кроме фройляйн Брунс. На нее болтливость фройляйн Шенке, очевидно, не распространялась.
Сисси тем временем развесила четырнадцать чулок, с которых тихонько капало на пол и на ноги Давиду. Сисси заявила, что у нее разболелась голова. Плохие воспоминания вредны для здоровья.
– Знаешь, – сказала она, открывая Давиду бутылку пива, – у меня здесь такая маленькая каморка. – Она показала на грудь, прямо под сердцем. – Я отволокла все туда, выключила свет и заперла дверь. Эта каморка иногда давит, тогда я принимаю чайную ложку соды. Я знаю, что она есть, но, к счастью, не помню, что там находится. Русские? Погибший муж? Множество мертвых детей? Понятия не имею. Дверь заперта, свет выключен.
* * *
На следующее утро, сразу после завтрака, Ева положила шляпу с узкими полями в большой бумажный пакет и отправилась в пансион «Солнечный». За стойкой никого не оказалось, из помещения слева доносились невнятные голоса и звон посуды. Гости завтракали, хозяйка с кофейником сновала между столами. Хозяина нигде не было видно. Ева помнила, в каком номере поселили Кона, поднялась по лестнице на второй этаж и прошла по темному, застеленному ковровой дорожкой коридору. У двери с номером восемь она остановилась и тихо постучала.
– Господин Кон? Я вам кое-что принесла.
Ответа не было. Ева постучала еще раз, подождала и нажала на ручку двери. Дверь оказалась не заперта, комната была пуста, окно широко открыто, из него открывался вид на высокий брандмауэр, на сквозняке колыхались светящиеся занавески. Несмотря на свежий воздух, комнату наполнял резкий запах. «Как будто газ или хлороформ, обезболивающее у дантиста», – подумала Ева, невольно прикрыв рукой нос и рот, и вышла обратно в коридор.
– Что вы тут ищете, фройляйн? – подошел к ней хозяин.
– Мне нужен господин Кон.
Хозяин смерил ее взглядом слегка опухших глаз.
– А это не вы тогда с ним приходили? Вы ему родственница?
Ева покачала головой.
– Нет, у меня просто его…
В качестве объяснения Ева приподняла бумажный пакет, который, однако, хозяина не заинтересовал. Он вошел в номер.
– Сколько недель старик тут прожил, – заворчал он, закрывая окно. – О гигиене и санитарии они просто ничего не слышали. А мне теперь выковыривать вшей изо всех щелей. А те на уговоры не поддаются. Их только выкуривать.
– Он уехал?
Хозяин обернулся к Еве.
– Нет, его же задавила машина.
Ева уставилась на хозяина и с сомнением покачала головой.
– Но… он ведь… у него всего-навсего сотрясение мозга.
– Откуда мне знать. Сегодня утром уже заходил прокурор или кто там, рыжий такой, забрал чемодан. Все оплачено. Только средство против вшей – на него мне, разумеется, опять придется раскошеливаться самому. Или, может, вы заплатите?
Ева развернулась и, не ответив, медленно пошла по коридору, держа в левой руке бумажный пакет. Тремя пальцами правой руки она легонько опиралась о стену. Было такое чувство, что нужна опора.
* * *
Войдя полчаса спустя в дом, Ева с удивлением услышала в своей комнате шум. Голоса и смех. Мать и сестра стояли у открытого шкафа и шерстили ее одежду. Они уже достали и повесили на дверцу шкафа два лучших ее платья. Ева раздраженно посмотрела на них.
– Что вы здесь делаете?
– Хотели тебе помочь, – заявила Аннегрета, не оборачиваясь на Еву.
– Мы ищем, что тебе лучше надеть сегодня вечером, дочка. Ты должна блистать у Шоорманов, – прибавила Эдит.
– Но вы же не можете просто так входить в мою комнату и рыться в моем шкафу… – возмутилась Ева.
Мать с сестрой проигнорировали протест. Вместо этого Аннегрета ткнула в темно-синее облегающее платье.
– Я за это, оно стройнит, а мама за светло-коричневый костюм. Но ты же знаешь мамин вкус – не самый изысканный.
Эдит в шутку замахнулась на дочь:
– Я тебе покажу!..
– Нет, ты только посмотри на этот старый мешок. – Аннегрета потянула голубой в клетку халат Эдит, который та носила дома, когда не нужно было в ресторан. – А волосы? Просто сахарная вата. Противно природе…
– Перестаньте! – сказала Ева так серьезно, что Эдит и Аннегрета прекратили перепалку.
Ева положила бумажный пакет на кровать и тяжело села. Эдит пристально посмотрела на младшую дочь и приложила ей ко лбу тыльную сторону ладони.
– Ты не заболеваешь?
– Ах, ерунда, мама, – отмахнулась Аннегрета, – просто волнуется, выдержит ли смотрины. Да все получится, Ева, дорогая! Скоро вольешься в круг высших десяти тысяч.
Аннегрета злорадно усмехнулась и снова повернулась к шкафу. Ева смотрела на широкую спину сестры.
– Ты же сказала, что у Отто Кона всего-навсего сотрясение мозга.
Аннегрета, которая как раз прикладывала белый пиджачок к синему платью, проверяя, подходит ли он по цвету, замерла.
– Я – что?
– Кто такой Кон? – сердито спросила Эдит.
– Он умер, – сказала Ева Аннегрете, не обращая внимания на мать.
Аннегрета вернула белый пиджак в шкаф.
– Я только передала тебе то, что сказал мне заведующий отделением.
– Значит, травмы были значительно серьезнее. Значит, он умер где-то на улице, после того как ушел от вас из больницы. Как вы могли его отпустить?
– Мне откуда знать? Я-то тут при чем, Ева?
Аннегрета стремительно развернулась и посмотрела на Еву в яростном негодовании. При этом она так выпучила глаза, что стала слегка косить. Да, вспомнила Ева, у сестры в детстве бывал такой вид, особенно когда она попадалась на том, что тырила съестные припасы. Догадавшись, что Аннегрета солгала, Ева испугалась.
– Вы не могли бы, в конце концов, объяснить мне, что здесь происходит? – нетерпеливо спросила Эдит, продолжая чистить щеткой светло-коричневый костюм.
– Свидетель в суде, мама. Он вчера…
– Ах вот оно что, – резко перебила Эдит и, как бы обороняясь, подняла руку, в которой держала щетку.
Было очевидно, что она ничего не хочет об этом слышать. Ева смотрела на мать и сестру. Те снова отвернулись и продолжили заниматься гардеробом, как будто ее вообще тут не было. Вдруг она почувствовала себя не дома – в своей собственной комнате – и встала.
– Выйдите, пожалуйста.
Эдит и Аннегрета обернулись, опешили, помялись. Затем Эдит всучила Еве светло-коричневый костюм.
– Послушай меня, надень это. Он скромный, приличный, в нем ты произведешь хорошее впечатление. Ты ведь помоешь голову?
И Эдит вышла, не дожидаясь ответа. Повернувшись к двери, Аннегрета сочувственно пожала плечами.
– Мы просто хотели тебе посоветовать. Насильно мил не будешь. – И тоже вышла.
Оставшись одна, Ева вернула наряды в шкаф и закрыла дверцу. Затем достала из бумажного пакета шляпу и повертела ее в руках. Густо-черный бархат в некоторых местах потерся, сиреневая подкладка отошла. Когда-то бело-голубая ленточка внутри стала жирно-черной и блестела от пота и грязи. На пришитом клочке ткани было вышито: «Дом Линдман, Херманштадт, телефон 553». Ева осмотрелась, сдвинула на полке несколько книг и положила шляпу на освободившееся место.
* * *
Вечером около семи машина Юргена остановилась у фонаря перед домом. Под шерстяным пальто на Еве было не синее платье и не светло-коричневый костюм. Она выбрала темно-красное шелковое платье с глубоким вырезом, самое элегантное. Шляпу она не надела, пучок уложила выше обычного. Лодочки сделали ее выше, что с удивлением констатировал Юрген, открывая ей дверь. Кроме того, он заметил, что Ева, кажется, совсем не волнуется, и пошутил на эту тему. Она промолчала. С обеда она пребывала в странном состоянии. Ее как будто обернули толстым слоем ваты.
Юрген, напротив, был на взводе. Он закурил сигарету и продолжил курить во время езды, чего Ева еще не видела. Они молча слушали новости по радио. Диктор сообщил, что во многих американских городах прошли демонстрации против расового неравенства. В Сан-Франциско, столице штата Калифорния, был осажден отель «Шератон», поскольку его руководство при отборе персонала дискриминировало чернокожих граждан. Арестовано более трехсот человек. После прогноза погоды, пообещавшего на выходные весеннюю температуру выше двенадцати градусов, началась музыкальная передача «Пятничная пластинка», которую Ева слушала каждую неделю, если оставалась дома. Молодой ведущий, захлебываясь, рассказал, что «Битлз» выпустили новый альбом. И его-то сейчас смогут услышать только слушатели нашего радио!
Can’t buy me loove! Loove! Can’t buy me loove! —
что было мочи завопили певцы из маленького усилителя без музыкального вступления. На четвертом «love» Юрген выключил радио. Они уже как-то поругались из-за «Битлз». Ева полюбила их песни. Музыка захватывала, а молодые британцы притягивали и нравились своей дерзостью. Юрген тогда заявил, что это не музыка, а неорганизованный грохот. Ева ответила, что он мыслит так же по-мещански, как и ее родители. Но сегодня вечером она не хотела начинать ссору и ничего не сказала. Однако про себя решила в понедельник купить в «Херти» новый альбом. Уже первые такты подействовали на нее хорошо и несколько развеяли подавленное настроение.
Несколько позже, как непреодолимая стена на темно-красном вечернем небе, перед ними вырос отель «Интерконтиненталь».
– Ты уже здесь бывала? – спросил Юрген.
Ева покачала головой.
– Семьсот номеров. И в каждом ванная с туалетом и телевизор.
Юрген поехал прямо на здание, и Еве на секунду показалось, что они сейчас врежутся в фасад. Но тут машина нырнула, и они начали спускаться в подземный гараж под отелем. Ева еще никогда не ездила на машине под землей. По ощущению потолок становился ниже, горело всего несколько тусклых лампочек, пестрые знаки и линии на бетонном полу показались непонятными, таинственными. Она схватилась за поручень над дверью. Юрген уверенно лавировал по лабиринту между колоннами и припарковался возле стальной двери с надписью «Вход в отель». Помогая Еве выйти из машины, он не сразу отпустил ее. Ева решила, что он хочет ее поцеловать, но Юрген сказал:
– Пожалуйста, не заговаривай о процессе. Отец может разволноваться. Ты ведь знаешь, он сам несколько лет сидел.
Ева растерялась. С тех пор как она регулярно ходила в дом культуры, Юрген ни слова не сказал о ее работе. Но очевидно, это было для него важнее, чем Ева могла представить.
– Да, конечно, – ответила она. – Он хорошо себя сейчас чувствует?
Юрген кивнул, не глядя ей в глаза. Они вошли в лифт, весь в зеркалах. В медную табличку возле дверей были вмонтированы двадцать две светящиеся кнопки. Юрген нажал на верхнюю. Пока лифт ехал наверх, Ева с восторгом смотрела на их отражения, они убегали в бесконечность – в больших, потом все меньших зеркальных проемах, близко, потом все дальше, дальше. Ева решила, что они хорошо смотрятся вместе: темноволосый Юрген в синем пальто и она, блондинка, в светлом клетчатом. Как муж и жена. В одном из отражений она поймала взгляд Юргена. Оба невольно улыбнулись. Лифт несколько раз останавливался, входили другие люди. Стало тесно. Наконец звякнуло, загорелась верхняя кнопка, и двери открылись на верхнем этаже, где располагался ресторан. Выйдя из лифта, Ева, Юрген, как и остальные гости, сперва остановились у большого окна полюбоваться панорамой.
– Свет в домах как звезды, упавшие с неба, – тихо сказала Ева Юргену.
Юрген погладил ее по щеке:
– Не волнуйся. Я думаю, у отца сегодня хороший день.
Но прозвучало так, словно он скорее хотел успокоить себя, чем спутницу. Она пожала ему руку. В гардеробе их коротким поклоном приветствовал служитель в темном костюме. Господин директор и его супруга уже ожидают в баре «Манхэттен». Юрген помог Еве снять пальто. При этом его взгляд упал на ее глубокое декольте.
– Это было необходимо? – прошептал он.
Ева отпрянула, будто получила пощечину, и прикрыла вырез платья рукой.
– Ну, теперь уже ничего не изменишь.
Юрген предложил ей руку, которую она нехотя приняла. Согласие между ними растаяло.
Возле блестящей металлической стойки изрядно заполненного бара на вращающемся табурете сидел Вальтер Шоорман. Перед ним, в глухом элегантном черном платье стояла Бригитта, пытаясь оттереть мокрой салфеткой пятно на воротнике пиджака, который стал ему слишком велик.
– Все, Бригитта, хватит.
– Но дома его еще не было! Что ты опять натворил?
Тут Вальтер Шоорман увидел сына. Тот вел под руку красивую, может быть, не слишком элегантную, но, похоже, порядочную молодую женщину. Ее платье отдавало дешеватым шиком, а декольте было слишком глубоким для такого случая. Однако во взгляде никакого расчета, с облегчением отметил Вальтер Шоорман. «Какие роскошные густые волосы, – подумала Бригитта Шоорман, – но ужасно старомодная прическа. А вырез смелый. Интересное противоречие». Ева заметила пристальные, оценивающие взгляды обоих. Приблизившись, она тоже составила свое впечатление: Шоорманы ей понравились. Отец, несомненно, капризный и резкий – вон как только что срезал жену. Но кажется, с юмором, ясная голова, доброжелателен. И никакой он не больной. Лицо Бригитты осталось непроницаемым, она не торопилась выражать свое мнение. Но Еве фрау Шоорман показалась человеком, который старается быть справедливым.
– Рад с вами познакомиться, фройляйн Брунс.
И Ева почувствовала, что так оно и есть. Они пожали друг другу руки. Только сейчас Ева обратила внимание на легкую, нежную фортепианную музыку. За черным роялем пианист в смокинге играл песенку «Лунная река» из кинофильма «Завтрак у Тиффани», который Ева год назад смотрела в кинотеатре вместе с Аннегретой. Последние полчаса сестры проплакали.
Ева невольно вздохнула. Напряжение ушло. Бармен наполнил шампанским четыре бокала на тонкой ножке, что стояли на стойке – во всяком случае, Ева решила, что это шампанское, – и все четверо чокнулись. Ева отпила большой глоток. Да, тот самый терпкий вкус, который она запомнила, когда тайком была у Юргена дома. Она посмотрела на него, тот не сводил глаз с ее декольте. Ева опять прикрыла вырез рукой. Затем они пошли к праздничному столу, накрытому в кабинете с деревянными панелями. Еву окутала теплая атмосфера, оранжевый свет, источник которого она не могла определить. За окнами мерцали далекие городские огни. Бригитта объяснила, что будет французское меню из шести блюд. Вальтер Шоорман отодвинул для Евы стул.
– Садитесь слева от меня. Мне так лучше слышно. Юрген, а ты здесь.
И он скривил губы в улыбке. Юрген шутливо огрызнулся и сел напротив Евы.
* * *
В «Немецком доме» в эту пятницу почти не было свободных мест. Два стола зарезервировал Карнавальный союз. Людвиг парил, жарил, варил. Ему помогали фрау Ленце, палец у которой за несколько недель более-менее зажил, и молодая работница, которая, правда, только мыла посуду и жевала жвачку. Эдит обслуживала гостей вместе с вечно угрюмой, но ловкой официанткой фрау Витткопп, которая в свои сорок восемь лет еще не вышла замуж и, вероятно, уже не выйдет. Пиво за стойкой разливал господин Патен, работавший в ресторане уже много лет. У супругов Брунс не было ни секунды передохнуть, ни минуты поговорить, хотя поговорить было очень нужно. Всего раз, относя на кухню грязные тарелки, Эдит застала там Людвига одного. Судомойка жевала свою жвачку и курила во дворе, а фрау Ленце отлучилась в туалет. Эдит остановилась возле Людвига, который с невероятной скоростью панировал шницели и бросал их на сковородку с шипящим жиром.
– Сейчас будут готовы, шесть минут. Пять.
Эдит молчала. Людвиг обернулся к ней и с ужасом увидел, что она плачет. Он развернулся, неловко, испачканной в муке рукой отер ей слезы и взял полотенце, чтобы вытереть и слезы, и муку.
– Что такое, мама?
– Скоро мы будем недостаточно хороши для нее.
– Ну что ты такое говоришь! Нашей дочери не так-то легко вскружить голову.
В кухню вошла фрау Ленце, запричитав, что у нее болит палец, после того случая, мол, так и не восстановился. Эдит сглотнула подступившие опять слезы, взяла пять тарелок с огуречным салатом и, ловко удерживая их, отправилась в зал. Людвиг вернулся к сковороде и ругнулся: шницели чуть подгорели.
– Ладно, сгодится. Не для кисейных барышень, – сказал он громко.
В зале Эдит разнесла огуречный салат и приняла новые заказы. Из-за войлочной занавеси, которая утепляла входную дверь, вошли элегантно одетые мужчина и женщина. Эдит тут же их узнала и, отвернувшись, придержала за руку фрау Витткопп, которая как раз проходила мимо с подносом.
– Скажите той паре, что свободных мест нет.
– Но ведь второй стол скоро…
– Он забронирован на девять часов!
Фрау Витткопп растерянно посмотрела на Эдит – это была неправда – и, подойдя к вновь прибывшим, постаралась изобразить на угрюмом лице сочувствие:
– Простите, все занято.
Мужчина с лицом хищной птицы приветливо ответил:
– Мы слышали о ваших превосходных шницелях. Какая жалость. – И повел спутницу к выходу со словами: – Придем в другой раз, мама.
Они исчезли за занавесью. Никто из гостей не узнал мужчину, хотя его фотографии нередко появлялись в газетах – он же был главным подсудимым.
* * *
В отеле «Интерконтиненталь» тем временем подали третье блюдо. Coq au citron. Цыпленка со вкусом лимона Ева еще не пробовала. Он вызывал ассоциации со средством для мытья посуды, но она не сдавалась. Сначала разговор зашел о каталоге. Бригитта призвала мужчин подыскать тему, которая была бы интересна и дамам. Заговорили об уличном движении, которое уже вообще ни в какие ворота. Бригитта, которая как раз училась в автошколе, назвала учебные поездки невыполнимой задачей. Ева усомнилась в том, что ей самой понадобятся водительские права. Юрген решил, что не понадобятся. Тут Ева заупрямилась и только хотела заявить, что она, может, еще и запишется в автошколу, как вдруг Вальтер Шоорман положил ей руку на локоть.
– Извините, барышня, а вы кто?
Ева окаменела, ее облила волна жара. Юрген, встревожившись, отложил вилку с ножом, и только Бригитта, сохраняя полное спокойствие, сказала Вальтеру:
– Это фройляйн Брунс, подруга твоего сына.
У Вальтера Шоормана был растерянный вид.
– Меня зовут Ева Брунс.
Старик посмотрел на нее будто слепыми глазами и повторил имя.
– У вас есть муж? Дети? Профессия?
– Я переводчица с польского языка.
Юрген посмотрел на Еву и, предупреждая, чуть покачал головой. Но Вальтер Шоорман вдруг кивнул и, наклонившись к ней, постучал указательным пальцем по столу:
– Разумеется. Я навел о вас справки. Вы переводите на процессе в доме культуры.
Ева, беспомощно посмотрев на Юргена, кивнула:
– Да.
– Что это за процесс? – поинтересовался Вальтер Шоорман.
Ева не поверила своим ушам. Неужели он правда не знает, в чем дело? Или хочет ее испытать? Юрген посмотрел на Еву многозначительным взглядом. И Бригитта улыбнулась ей едва заметной, умоляющей улыбкой. Ева попыталась взять небрежный тон:
– Ах, там обвиняют нескольких человек, военных преступников, которые совершали преступления в этом… в одном… в общем, в Польше. Это было давно и… – Ева осеклась на середине фразы. Она почувствовала, что не имеет права в таком легком тоне говорить о процессе.
Но по счастью, высохший старый человек уже вернулся к лимонному цыпленку, будто забыв свой вопрос. Скованные Ева и Юрген тоже продолжили есть.
– Да, война, это было ужасно, – сказала Бригитта. – Но давайте поговорим о чем-нибудь приятном. Дорогой, ты не думал о том, чтобы на пасхальные каникулы пригласить фройляйн Брунс на остров? – Она любезно обратилась к Еве: – Я думаю, это самое прекрасное время, все цветет и…
– От меня вы ничего не узнаете, ничего! – крикнул вдруг Вальтер Шоорман и встал со стула. – Бригитта, мне нужно в туалет.
Ева посмотрела на будущего свекра. В паху расплывалось темное пятно. Бригитта тоже встала.
– Пойдем, пойдем, Валли, все в порядке.
Бригитта обошла стол и вывела мужа из кабинета. Юрген бросил взгляд на шелковую обивку стула, на которой, кажется, следов не осталось. Ева сидела окаменевшая, беспомощная. Бесшумно появился старший официант.
– Можно убирать? – слегка поклонившись, спросил он.
Юрген дал знак рукой:
– Да, пожалуйста.
– Следующее блюдо подать чуть позже?
Юрген посмотрел на него.
– Принесите, пожалуйста, счет.
Старший официант заметно растерялся, но переспрашивать не стал. Вместо этого он кивнул и удалился. Ева попыталась поймать взгляд Юргена.
– Прости, но не могла же я лгать…
– Ева, это вовсе не твоя вина.
Они прошли в гардероб, где встретили у лифта Вальтера и Бригитту. Те были уже в пальто. Все четверо вошли в тесное зеркальное помещение, чтобы спуститься вниз.
– Вы тоже в гараже?
– Нет, мы стоим перед зданием, – ответила Бригитта.
Юрген нажал кнопки напротив цифры 1 и буквы П. Лифт дернулся, больше ничего не почувствовалось. На сей раз Ева смотрела не в зеркала, а на ковер. «Какой печальный конец». Тут Вальтер Шоорман обернулся к Еве:
– Я болен, фройляйн. Поэтому со мной такое бывает.
– Да, понимаю, господин Шоорман.
– Возможно, было бы лучше, если бы вы пришли к нам домой. Там у меня есть запасные брюки.
– Верно, – неуверенно улыбнулась Ева.
Когда двери на первом этаже открылись, они протянули друг другу руки. Прощание прошло быстро, и Ева с Юргеном спустились дальше в подвал.
* * *
В машине Юрген далеко не сразу включил мотор. Он наклонился вперед и, уставившись на неподвижную стрелку спидометра, заговорил о том, что его отец всегда был непредсказуем, болезнь мало что изменила, только вот он уже не контролирует некоторые физиологические отправления организма. В детстве отец мог его поддерживать, хвалить, часами удить с ним рыбу на пруду, а потом ни с того ни с сего унижал и бил. Сын мог задавать ему любые вопросы, но иногда огребал крепкую оплеуху просто за то, что назвал «шикарной» форму штурмовиков. Материнская любовь была надежной, а отец то и дело бросал. Но он пережил войну. И сыну нужно было жить с ним.
Обернувшись – в холодных сумерках подземного гаража глаза заблестели чернотой, – Юрген сказал, что Ева отцу понравилась, это он заметил. Значит, несмотря ни на что, вечер прошел успешно. А вот теперь он скажет всю правду: он никогда бы не женился на Еве, если бы отец решил, что она ему не пара. Глаза у Юргена заблестели. Он всхлипнул и закрыл лицо руками. Но мужчины не плачут. Юрген стыдливо отвернулся, испытывая тем не менее большое облегчение. Ева подумала, что она его любит, хоть и не понимает, и, отняв с его лица влажную от слез руку, погладила ее.
Значит, скоро она станет жить вместе с Вальтером и Бригиттой Шоорманами в доме, где пахнет хлоркой. Ева попыталась представить себе, как она завтракает в новой семье, перебирает с Бригиттой белье, ругается на кухне с фрау Тройтхардт. Это оказалось не под силу. Но вспомнив свой дом, вечно душную квартиру над рестораном, родных, она вопреки обыкновению не испытала чувства вялой надежности.
Держа Юргена за руку, Ева смотрела на бетонную стену. Она сидела под землей, под высоченным зданием с семьюстами номерами и таким же количеством ванн, в машине, которая не трогалась с места, и тем не менее у нее было ощущение, как будто она в дальней дороге.
* * *
Посреди ночи ее согнал с кровати страшный голод. Она целый день берегла аппетит для вечера в роскошном ресторане, но жалкие закуски уже давно переварились. Ева босиком прокралась на кухню, намазала на хлеб масло, налила стакан молока, вернулась в комнату и, подойдя к окну, принялась есть, редкими глотками отпивая молоко. Ее освещал уличный фонарь. Позади на потолке колыхалась тень от фонаря. Дон-Кихот, как и каждую ночь, занес копье. На полке, будто домашнее животное, привыкающее к новой обстановке, лежала шляпа. На улице было тихо, ни одной машины, только в двух окнах в доходном доме напротив горел свет. Может быть, кому-то плохо.
Мать всегда очень переживала за детей, даже если они подхватывали безобидную простуду. Температура у них повергала Эдит в панику, и доктору Горфу даже посреди ночи приходилось заверять ее, что чадам не грозит смерть. Еве всегда это очень нравилось, так как серьезно она болела всего один раз, в пять лет. Нравилось видеть мать такой встревоженной и растерянной. Облегчение ее, когда дочери снова начинали есть и вставали с кровати, было огромным.
– Это в прошлом, – громко сказала Ева.
Она проглотила последний кусок и допила молоко. Ноги замерзли. Захотелось обратно в постель, под два одеяла – так она спала с недавних пор, – и Ева отвернулась от окна. Тут краем глаза она заметила новый свет. В трехэтажном доме наискосок кто-то включил свет в парадном. Через матовое стекло входной двери пробивался оранжевый отблеск, Еве не знакомый. Надо же, только построили, и уже сломалось: свет мигал, как будто у лампочки плохой контакт. Ева ждала, когда кто-нибудь выйдет из дома. Но никто не выходил. А свет становился все желтее и ярче. И перемещался. Еве потребовалось еще несколько секунд, чтобы понять, что означает это мерцание. В парадном противоположного дома занимался пожар. Она на мгновение замерла, а потом выскочила из комнаты и помчалась в прихожую к телефону с криком:
– Папа, пожар! Напротив, в четырнадцатом!
Ева набрала номер 112, запыхаясь, два раза прокричала в трубку адрес, пока там наконец поняли. Двери родительской спальни и комнаты Штефана распахнулись, только Аннегреты не было видно, наверно, еще не вернулась с ночной смены. Людвиг, вовсе не заспанный, спросил:
– Где?
– Напротив, у Пеншуков!
Людвиг в чем был выбежал из квартиры. Штефан, вокруг которого скакал и испуганно тявкал Пурцель, хотел было за ним, но Эдит поймала сына за ворот пижамы.
– Ты никуда не пойдешь!
Ева тем временем повесила трубку.
– Они приедут. Пожарные приедут.
Эдит кивнула, набросила халат, прошла к двери, потом подумала, вернулась, открыла шкаф в прихожей, достала оттуда пару сложенных одеял и вышла вслед за мужем на улицу. Пурцель тоже выскочил из квартиры. Штефан опять захотел вниз.
– Мама! Я тоже хочу!
Ева с силой удержала его.
– Отпусти! – захныкал он.
Ева подняла его, он принялся сучить ногами и больно стукнул ее по ноге, успокоившись, только когда Ева поднесла его к окну в своей комнате.
– Отсюда все видно.
Ева со Штефаном смотрели в окно, как отец в потертой пижаме и тапках, которые мог потерять в любую секунду, изо всех сил бежит по улице и вопит:
– Пожар! Пожар!
Вот он нажимает на все кнопки возле входной двери, молотит в дверь, опять звонит. В квартирах постепенно стал зажигаться свет. Эдит с одеялами перешла улицу и сказала что-то Людвигу. Тот показал на арку, которая вела на задний двор, и Эдит по палисаднику перед домом вернулась к тротуару и зашла в арку. Мерцание за входной дверью тем временем заполнило все стекло. Наверху открывались окна. Кто-то высунулся. Людвиг что-то прокричал наверх – Ева не разобрала – человек исчез из окна, но скоро опять выглянул и сбросил что-то вниз, в палисадник. Людвиг нагнулся и, поискав, поднял какой-то предмет. Вернувшись к входной двери, он открыл ее, очевидно, ключом.
– Что папа делает? – испуганно спросил Штефан.
Ева ничего не ответила и, не веря своим глазам, смотрела вниз. Когда отец открыл дверь, огонь стал виден во всей своей красе, пылающий, белый, над ним вился и тянулся к двери черный дым. Людвиг коротко помедлил, затем быстро зашел в дом. Его поглотил дым.
– Господи, что он делает? – прошептала Ева.
На улице из темноты вынырнула бесформенная фигура. Аннегрета. Она остановилась и повернула голову к открытой двери, из которой вырывалось черное облако. Из арки на улицу вышли три закутанных в одеяла человека и остановились возле Аннегреты. Все стали смотреть на горящее парадное. Отца не было видно.
– Сейчас приедут пожарные.
Штефан на руках у Евы дрожал от страха. Ева прислушалась, но ничего не было слышно. Она открыла окно и почувствовала запах дыма. Горящей ткани. Опаленной кожи. Отец не показывался.
– Папа! – что было сил завопил Штефан. – Папа!
* * *
Полчаса спустя семья Брунсов – Аннегрета держала Штефана на коленях – и жители пяти из шести квартир дома напротив (пожилые супруги Пеншук, по счастью, гостили у дочери в Кёнигштайне) сидели в зале «Немецкого дома». У всех из-под одеял, которые вынесла им Эдит, выглядывали пижамы и ночные рубашки. В полусне плакал маленький ребенок.
– У вас вид, как после бомбежки, – заметила Эдит.
Они с Евой, обе в халатах, приготовили для взрослых чай, а для детей какао. Людвига чествовали как героя. Еще до приезда пожарных он «под угрозой жизни», эти слова прозвучали не раз, вытолкал из дома на улицу ярко пылающую детскую коляску и теперь сидел за столом – Эдит тоже укутала его одеялом, – держа руки в миске с ледяной водой. Ожог, однако, был поверхностным.
– Я же повар, привык к совсем другим температурам, – тоже не в первый уже раз сказал Людвиг.
Но по побелевшему носу отца Ева поняла, что его действия не были вовсе безопасны. Пожарные появились вскоре после того, как Людвиг вошел в горящее парадное. Один на ходу спрыгнул с машины и ручным огнетушителем потушил детскую коляску, медленно катившуюся по направлению к «Немецкому дому». Коляска остановилась посреди улицы, как странная покореженная машина; с нее, покачиваясь, свисали раскаленные металлические рейки. Она принадлежала молодой семье, с которой Ева еще не была знакома. Сейчас темноволосая женщина – жена – на ломаном немецком благодарила ее за чай. На руках у нее крепко спал ребенок. Муж, хрупкого сложения мужчина, горестно вздыхал. Наверно, думал о том, как ему теперь оплатить новую коляску. Эдит шепнула Еве, что это семья Джордано, гастарбайтеры из итальянского Неаполя, приехали совсем недавно.
– Я правильно произношу ваше имя? – спросила Эдит, и фрау Джордано улыбнулась.
Из-за войлочной занавеси в зал вошел брандмейстер в темно-синей форме. Штефан напрягся на коленях у Аннегреты и восхищенно на него уставился. Остальные тоже прервали разговоры – в основном о том, кто же устроил пожар. Подросток? Сумасшедший? Брандмейстер прокашлялся и с некоторым упреком в голосе сказал, что огонь перекинулся на стены, которые никуда не годятся, так как не отвечают требованиям противопожарной безопасности. Все смотрели на него, как будто их застигли на месте преступления, хотя никто из присутствовавших не нес ответственности за решения владельца противоположного дома. Брандмейстер выдержал театральную паузу и заявил, что опасность уже миновала и можно возвращаться домой. Однако квартиры придется как следует проветрить. Фрау Джордано шепотом переводила мужу. Тот при этом так тяжко вздыхал, что все невольно рассмеялись. Раздались аплодисменты. Людвиг отодвинул миску с водой, сбросил одеяло, в своей любимой пижаме прошел за стойку и щедро разлил всем по шнапсу – за пережитое волнение. Женщин тоже заставили выпить, только брандмейстер отказался. Эдит опрокинула рюмку, ее передернуло, и она тихо сказала:
– Господи, как я рада, что ни с кем ничего не случилось.
Ева видела, что отец тоже очень рад счастливому исходу для соседей напротив. Хотя можно было расходиться по домам, он разлил нежданным гостям по второй и чокнулся с ними, сияя, как намасленный блин. Ева встала и взяла удивившегося отца под руку, а мать, которая, улыбаясь, смотрела на них, расцеловала в обе щеки. Аннегрета насмешливо поджала губы. Ева бросила на нее упрямый взгляд. Она понимала, что эти нежности от шнапса, да еще ночью. Но и от любви тоже.
* * *
Через несколько дней произошло событие, глубоко потрясшее Еву. Был четверг, шло судебное заседание. Весна уже давно закрепилась в городе, нечеткие за окнами деревья наливались зеленью. Все в зале казались какими-то вялыми. Обычно воинственно настроенные подсудимые словно погрузились в себя. Лунообразное лицо председательствующего судьи низко склонилось над столом. Давид тяжело оперся головой на руку. Спал? Даже голоса детей на школьном дворе во время большой перемены звучали глуше, как будто пластинка крутилась на низкой скорости.
Ева переводила показания польской еврейки, Анны Мазур, темноволосой женщины, которая была на несколько лет моложе Эдит, но выглядела старухой. Приветливой улыбкой поздоровавшись с Евой у свидетельской трибуны, на каждую переведенную фразу она благодарно кивала. Еве понравилась эта женщина с запавшим лицом и усталыми глазами – скромная, умная, вежливая. Спросив ее имя, возраст, профессию, председательствующий судья поинтересовался номером бывшей узницы, который не мог найти в документах. Ева перевела вопрос. Вместо ответа Анна Мазур закатала рукав широкого серого пиджака, затем рукав светлой блузки и поднесла предплечье к Еве, чтобы та могла увидеть и перевести номер.
Глядя, как номер цифра за цифрой появляется из-под рукава, Ева испытала в животе нестерпимо сильное чувство, что она это уже видела, что с ней это уже происходило. Еще одно дежавю. Но на сей раз чувство не покидало ее, напротив, усиливалось. Произнося по очереди немецкие цифры, она съежилась, как Алиса, съевшая волшебный гриб в детской книжке, которая им со Штефаном не понравилась, и они ее бросили.
Ева превратилась в маленькую девочку. Она сидела на вращающемся стуле, а рядом стоял мужчина в белом халате. Он закатал рукав и, показывая номер на предплечье, приветливо что-то говорил. Пахло мылом и палеными волосами. Мужчина в халате произносил числа. Два – четыре – девять – восемь – один. Ева смотрела на его рот, коричневатые зубы, аккуратную бородку, на то, как движутся губы при произнесении слов. Польских слов. Мужчина стоял перед ней воочию, никаких сомнений в его реальности быть не могло, и вдруг Ева почувствовала резкую боль над левым ухом, так что захотелось кричать. И она знала: это действительно было.
– Милая девушка, с вами все в порядке? – спросил кто-то тихо.
Ева пришла в себя, когда Анна Мазур легко положила ей руку на локоть. Ева посмотрела ей в глаза, полные печали и теплоты.
– Вам необходим перерыв, фройляйн Брунс? – спросил и судья.
Ева перевела взгляд на Давида, который с беспокойством и нетерпением привстал, как будто был уверен, что она сейчас хлопнется в обморок. Но Ева взяла себя в руки и сказала в микрофон:
– Спасибо, все в порядке.
Она начала переводить показания Анны, которая, будучи узницей, работала писарем в лагерном загсе. Ее начальником был главный подсудимый. В обязанности госпожи Мазур входило написание свидетельств о смерти, иногда по сотне в день. И это только на тех, кто погиб в лагере. Имена уходивших в газовые камеры никто не записывал. В графе «причина смерти» нужно было писать «сердечная недостаточность» или «тиф», хотя этих людей расстреливали, забивали, пытали до смерти.
– Только один раз я отказалась указать в качестве причины смерти одной женщины сердечную недостаточность. Я поспорила с начальником. С ним, вон он сидит.
– Почему именно этой женщины? – спросил председатель.
– Это была моя сестра, – перевела Ева ответ свидетельницы, – и от другой женщины, которая была с ней в женском лазарете, я узнала, как она умерла.
Ева слушала рассказ Анны Мазур о мученичестве ее сестры и переводила по возможности спокойно, а Анна после каждого предложения благодарно кивала.
– Врачи хотели знать, как дешево стерилизовать женщин.
* * *
Когда судья объявил перерыв до следующего дня, Ева осталась на месте. Зал понемногу пустел. У нее разболелась голова, а небольшой шрам за левым ухом просто горел, чего не случалось уже много лет. Она сидела на стуле и собиралась с духом, не зная точно для чего. Когда в зале осталось только двое служителей, собиравших со стульев забытые зонты и перчатки, Ева встала и прошла вперед к осиротевшему судейскому столу. Здесь пахло иначе, серьезнее, камнем. Но возможно, это пыль плотных бледно-голубых занавесей, задрапировавших театральную сцену позади стола.
Так близко Ева еще не подходила к плану лагеря – большому, она не могла бы обхватить его руками. Ева прочла знакомую надпись над воротами, и взгляд пополз по лагерной улице. Она внимательно осмотрела все здания красного кирпича, бараки, «прошла» по всем дорожкам, мимо сторожевых вышек, к газовым камерам, крематорию и вернулась назад, как будто искала ответ на вопрос, который не осмеливалась задать себе.
В левом верхнем углу, за внешним ограждением лагеря, были нарисованы тесно прижатые друг к другу двухэтажные, кубической формы дома. Они в отличие от остальных лагерных зданий были черно-белыми и изображены схематично. Ева знала, что в самом большом доме жили главный подсудимый и его жена – человек с лицом хищной птицы и женщина в шляпке. Несколько недель назад во время заседания возникла необходимость проложить его ежедневный маршрут в лагерь, который он, по показаниям свидетелей, проделывал на велосипеде. Светловолосый прокурор хотел доказать главному подсудимому, что он при этом проезжал мимо крематория. Два раза в день. И абсолютно невозможно, чтобы он ничего не знал об умерщвлении людей при помощи газа. Главный подсудимый, как обычно сохраняя спокойствие, заявил, что план неверный.
Ева посмотрела на дома поменьше, рядом с домом главного подсудимого. Что-то ей это напомнило, не само здание, а стиль рисунка – заостренная крыша, кривая дверь, большие окна. Она увидела девочку лет восьми: сидит за столом и толстым карандашом рисует такой рисунок. Детская подруга? Сестра? Она сама? Разве не все дома на детских рисунках одинаковые?
Ева не заметила, как вернулся Давид Миллер в светлом мятом пальто, – все, что он носил, было мятое. Недоуменно посмотрев на Еву, он бесшумно прошел к своему месту, поднял лежавшие там два юридических справочника, быстро пролистал их, опустился на колени, заглянул под стулья. Он ненавидел портмоне и наличные деньги, а документы носил просто в кармане. Давид хотел навестить Сисси и купить для нее в маленьком овощном магазинчике первую клубнику. Но когда собрался платить, то не обнаружил банкноту в двадцать марок, которая точно была утром. Его последние деньги до конца месяца. И здесь он тоже ее не нашел.
Давид встал и опять посмотрел на Еву, которая неподвижно стояла перед планом, как будто ждала, что ее сейчас туда затянет. Светлый пучок волос, круглая спина, мягкие формы под светлым костюмом. «Так себе. Странная девушка. Что она вообще тут делает?» – подумал Давид, а вслух спросил:
– Ева, а вы не могли бы одолжить мне двадцать марок?
* * *
Вечером Еве пришлось помочь родителям. По четвергам господин Патен ходил на вечерние курсы изучения испанского языка. По выходе на пенсию он собирался переехать с женой на Майорку. Людвигу не нравилось ни то ни другое: ни что господин Патен каждый четверг исчезал, ни что через три года ему придется искать человека, который будет стоять за стойкой. За пятнадцать лет совместной работы Людвиг и господин Патен не обменялись и парой слов, не связанных с этой самой работой. «Всем темный „Пильзен“, господин Брунс». – «Модное новшество. Закажу-ка я для начала всего четыре бочонка». Только это и было слышно, исключения можно было пересчитать по пальцам. Они понимали друг друга без слов и слепо доверяли друг другу.
Ева надела темно-синюю, нечувствительную к брызгам пива робу и, встав за тяжелую стойку, принялась наливать из крана пильзенское и лимонад. Она привычно открывала блестящие краны, мыла, полоскала и вытирала стаканы. Улыбалась гостям, перебрасывалась репликами о пожаре в доме напротив, который мог стоить жизни четырнадцати людям, в том числе пятерым детям. Подумать только! Если бы ее отец не проявил такую отчаянную храбрость… и так далее. Ева слушала вполуха, то и дело поглядывая на часы. Минуты до закрытия текли медленно, как смола. Ей хотелось остаться одной, подумать. О говорящем ей что-то мужчине в белом халате. О детском рисунке. Она хотела записать в синюю тетрадку то, что Анна Мазур рассказала о своей сестре, чтобы больше об этом не думать.
К ней подошла Эдит. Как всегда к этому часу, лицо ее пылало. Когда она с размаху поставила на стойку круглый поднос, качнулись серьги. Ева убрала использованные стаканы и поставила полные. Она думала о боли, которую испытывала каждые четыре недели в нижней части живота. Эдит, до того как ее год назад прооперировали, вообще каждый месяц на один день удалялась в затемненную спальню. Скорчившись, лежала на кровати, прижав к животу грелку, и скулила; ее тошнило в металлическое ведро. Эдит мучилась, несмотря на обезболивающие средства. Никакие врачи не вводили ей в матку жидкость, которую намешали химики. Жидкость, которая постепенно затвердела бы в ней, как бетон. Ева, не глядя на мать, сжала губы. Эдит пристально посмотрела на нее.
– У вас с Юргеном все в порядке?
Ева неопределенно кивнула.
– Они пригласили меня на Троицу на свой остров. На четыре дня.
– А вы наконец условились насчет дня свадьбы?
Ева пожала плечами и повернулась к двери, из которой вышел отец. Лицо у него было красное, он чуть согнулся от боли. Людвиг подошел к одному столу, за которым сидела большая оживленная компания. Штраухи были постоянными посетителями. Ева смотрела, как отец пожал руку дочери Штраухов, что-то сказал и все рассмеялись. Девушка покраснела. Может быть, семейство праздновало ее день рождения – двадцать первый. Эдит сняла со стойки полный поднос.
– Не переживай, дорогая, никуда он уже не денется. Ты понравилась его отцу.
И, подойдя с подносом к столу Штраухов, она расставила стаканы и тоже что-то сказала, возможно, иронично прокомментировала замечание мужа. Наверняка про то, как хлопотно иметь дома взрослую дочь. Опять все рассмеялись. Чокнулись. Опуская грязные стаканы в мойку, Ева почувствовала щекой струю прохладного воздуха. Новые гости, открыв входную дверь, вышли из-за темно-красной войлочной занавеси. Это был главный подсудимый с женой. Ева замерла. Вновь прибывшие стояли в дверях и осматривались в поисках свободного столика. В самом деле сегодня в зале было не так «тесным-тесно», по выражению ее отца, как в предыдущий раз, можно было выбрать. Фрау Витткопп, которая как раз убирала освободившийся стол у окна, подняла голову. Она узнала посетителей и подошла к ним с грязными тарелками в руках.
– Двое? Прошу, там свободно. Сейчас принесу меню.
Фрау Витткопп скрылась на кухне. Ева беспомощно наблюдала из-за стойки, как главный подсудимый провел жену к столу. Он помог ей снять пальто, она села на отодвинутый им стул, и он прошел к гардеробу слева от стойки, не обратив внимания на Еву. Она смотрела на острый профиль. Вот он взял плечики, сначала повесил пальто жены, потом свое. Вблизи он оказался старше, кожа сморщилась, как старый пергамент. Один из двух посетителей у стойки постучал по дереву, требуя пива, но Еву будто парализовало. Главный подсудимый вернулся к столику и сел напротив жены. Он сидел спиной к окну, ему был виден весь зал.
Родители Евы еще беседовали со Штраухами. Господин Штраух рассказывал длинную историю, они не могли отойти. Ни Людвиг, ни Эдит не заметили новых гостей. Фрау Витткопп вышла из кухни и подала им два темно-зеленых меню. Пока она бесстрастно рекомендовала блюда – «У нас сегодня свежие почки», – главный подсудимый вдруг поднял голову и посмотрел Еве прямо в глаза. Так же он однажды уже смотрел на нее в суде. Ей стало нехорошо. Захотелось отвернуться, исчезнуть, но тут Ева поняла, что он ее не узнал. В другой обстановке лицо было для него чужим. Ева с облегчением вздохнула и начала дрожащими руками разливать пиво, наклоняя и вращая стаканы, чтобы пена оказалась правильной высоты. Она делала все, как всегда, то, чему научилась уже в двенадцать лет и с чем справилась бы и во сне.
– Фройляйн, будьте добры, у вас есть винная карта?
Главный подсудимый обращался к ее матери, которая как раз отошла от Штраухов, потрепав по голове младшего члена семейства. Эдит направилась к столу у окна и подняла искусно доброжелательное лицо. Сейчас она объяснит, что всем их гостям вполне хватает пяти домашних вин. Но тут Ева увидела, как мать споткнулась и дальше двинулась, будто окоченев. Главный подсудимый и его жена тоже оцепенело смотрели на Эдит Брунс. Эдит остановилась у столика и без выражения сказала:
– Винной карты у нас нет. В меню вы найдете наши…
Тут человек с лицом хищной птицы с угрожающим видом встал во весь свой рост. Еве на мгновение показалось, что сейчас он отделится от пола, расправит крылья и улетит. Но произошло другое. Главный подсудимый надул щеки, выпятил губы и плюнул Эдит Брунс под ноги. Его жена тоже встала и, дрожа от возмущения или гнева, натянула перчатки. Ева услышала, как она прошипела:
– Мы уходим, немедленно. Роберт, немедленно!
Людвигу тем временем удалось отделаться от Штраухов, он двинулся в сторону кухни, но обратил внимание на троих странно замерших людей. Как собаки, которые следят друг за другом. Чем тише и неподвижнее, тем яростнее будет атака. Ева видела, как отец побелел. Никаких сомнений не могло быть в том, что он знал главного подсудимого и его жену.

