Глава пятьдесят пятая
Несколько любовных историй
Это история мастерской. История предприятия, его взлетов и падений, его работников, нанимающихся и увольняющихся, его прибылей и убытков, и в некоторой степени история большой страны и людей, которые оказывались у наших дверей. Итак, позвольте я объясню.
Королевская семья, в том числе и принцесса Елизавета – в особенности моя любезная Елизавета, – переехала из Версаля в Париж. Большая толпа рыночных торговок пришла ко дворцу и стала требовать хлеба, король оказался фактически в осаде, а его жизнь под угрозой, к нему были обращены оскорбительные крики простонародья. Дворец заперли. Я бы сильно испугалась за Елизавету, но о кровавом бунте мне стало известно лишь после того, как все завершилось. Мне принесли голову – вот так я и узнала.
Группа торговок рыбой из Ле-Аль прибыла к нам с коробкой, завернутой в фартук. Они вытряхнули содержимое коробки на кухонный стол. Голова, очень неаккуратно отсеченная.

– Вот, – объявила одна из женщин. – Я вам принесла.
– Так, – говорю, – и кто это?
– Гвардеец из Версаля.
– Швейцарский гвардеец?
– Ага, один из них.
– Что-то я не узнаю лицо. Впрочем, его бы и родная мать не узнала.
– Отлейте ее заново из воска.
– Похоже, ее сильно исколошматили.
– Гыгыгы…
Это была Флоранс, кухарка. Флоранс среди них!
– Флоранс, ты была там? Ты ходила туда?
– Гыгыгы. Ходила. Да.
– Боже…
– Давай, – сказала Флоранс, – сделай голову.
– Лучше бы ты принесла мне эту голову до того, как ее изуродовали.
– Делай! – Теперь ни тени улыбки на ее лице.
Флоранс-то и поведала мне, что Елизавета переехала в город.
Они были очень горды собой, эти женщины.
– Твое старое жилище заперли, – сообщила она.
Пустота… Можно ли представить себе такую пустоту, как обезлюдевший Версаль? И еще: где же разместить всех людей, живших в Версале?
– Мне жаль это слышать.
– Жаль, говоришь? – переспросила Флоранс.
– Ну, мне жаль Елизавету.
– Жаль? Она еще говорит, что ей жаль?
– Нет, – ответила я. – Мне-то нечего жалеть, правда? Я же простая прислуга. Я делаю то, что мне говорят.
– Тогда сделай эту голову!
– Да, Флоранс.
– А после я испеку тебе что-нибудь вкусненькое.
На следующее утро я отправилась во дворец Тюильри, где разместили королевских особ. Как же билось мое сердце, когда я шла через парк. Перед дворцом выстроились шеренги швейцарских гвардейцев и солдат, а еще волновалось море парижан, пришедших сюда в надежде кого-нибудь увидеть. Я протиснулась сквозь толпу ко входу – детям это дозволялось, а я была малорослая, как ребенок, – и подступила к гвардейцам.
– Я бывшая служанка мадам Елизаветы, особая служанка. Даже, можно сказать, друг. Не пропустите ли вы меня внутрь? Передайте ей, что Мари Гросхольц, ее сердце и ее селезенка, ждет снаружи.
– Уходите, мадемуазель.
– Просто передайте ей. Мое имя. Она захочет меня видеть.
– Никаких визитов. Уходите!
Кто-то из толпы плюнул в мою сторону, потом еще кто-то меня толкнул, а потом рядом вырос Жорж, подхватил меня на руки и понес прочь, потому как к нам прибыла новая голова. И я поспешила домой, обещая себе снова сюда вернуться. В те дни произошли поистине невероятные события. Народ восстал против королевской семьи. Я восстала против вдовы Пико. И наконец: Эдмон покинул свой чердак. А Елизавета оказалась рядом. Мы жили в Париже, все трое: он, она и я.
– Скоро я уеду, – объявила я наставнику. – Воспользуйтесь мной, пока вы еще можете. Когда я уеду, вам придется самому принимать головы и отливать их из воска. Больше я этим заниматься не буду.
Но Елизавета еще не была готова меня увидеть. На другой день я вернулась в Тюильри, но гвардейцы со мной даже разговаривать не стали. Парижане тратили деньги на посещение Кабинета доктора Куртиуса. Они приходили поглазеть на самые новые головы, они беседовали о гражданах и о свободе, они рассматривали друг друга и головы. Новые экспонаты парижской жизни привлекли очень много посетителей, одни тихо плакали в сторонке, другие не могли себя заставить приблизиться. Деньги уносили наверх Мартену Мийо, он заносил суммы в книгу, а потом складывал деньги в несгораемый шкаф. Все это происходило на моих глазах, потому как теперь я могла заходить в большой зал, когда мне хотелось. Изредка туда захаживала вдова, она выходила раскрасневшаяся, иногда скорбно качая головой, иногда в слезах, и на всех орала.
А на улицах города готовилось шумное празднество.
– Что за люди, Крошка, эти парижане! – восклицал Мерсье. – Просто живая картина согласия, трудолюбия и мира. Такого зрелища еще не видывал мир. Все слои граждан собрались, готовясь к Празднику федерации. Все многотысячное население города вышло беззаветно поработать ради общего блага, подготовить Марсово поле для народных гуляний. Все стали братьями и сестрами – торговки рыбой и аристократы. Крошка, наконец-то мы дожили до этого: мы увидели способность человека совершенствоваться! Все придут! Все будут веселиться!
– А принцесса Елизавета там будет?
– Все будут, все!
– Я так хочу ее увидеть!
Потоки ливня орошали участников Праздника федерации, но на дождь мало кто обращал внимание. Тысячи людей заполнили центр города, многие из них навещали восковых питомцев Куртиуса и восхищались эпохой, в которую им посчастливилось жить. В краткий период проведения этого первого национального фестиваля люди любезничали друг с другом, обменивались рукопожатиями и поцелуями. Весь город был словно озарен новым светом, то были чудесные дни, когда все вдруг стали красивыми и молодыми, и сам Париж на краткий миг обернулся городом-утопией. Даже Жак Бовизаж со своим верным Эмилем упивался моментом, бродя по улицам и подкармливая бездомных псов – наводнивших город догов, пуделей и спаниелей, ухоженных домашних собак, брошенных хозяевами-аристократами. Куртиус просиживал с вдовой в ее кабинете, отливая для нее изящные восковые украшения в виде фруктов и цветов. Она не выставляла их на всеобщее обозрение, а держала у себя в ящике стола, но и не выкидывала.

В один из тех странных дней, заинтересовавшись очередной восковой новинкой, она оставила Эдмона одного во дворе Большого Обезьянника, и я незаметно спустилась туда к нему. При ярком солнечном свете на его коже отчетливо проступали голубые вены, а еще я заметила скол на переднем зубе и родинку на шее под затылком. Я знала все эти его приметы: если он оставался на солнце продолжительное время, на бледной коже его нижних век и на переносице, чуть выше несимметричных ноздрей, выступали веснушки. И тут я увидала, как краснеют его уши.
– Эдмон?
– Мари!
– Эдмон, ты здесь?
– Да, здесь. Мари…
– Ты вернулся ко мне! Ну да, вернулся…
И почти сразу же раздался крик вдовы:
– Эдмон! Эдмон, ты где? Возвращайся немедленно!
Его мать, как всегда, была начеку, она позвала его еще раз, и он послушно пошел на ее зов. Но обернулся ко мне и помахал.
В тот краткий период оживления нашего предприятия Куртиус однажды привел меня в свою мастерскую. Его лицо запунцовело, что придало ему вполне здоровый вид.
– Тебе ведь что-то известно об этом, Крошка? – робко пробормотал он. – У тебя же есть какие-то соображения на эту тему? Какие-то мысли? Ты можешь дать мне совет?
– А что за тема, сударь? Вы не сказали.
– Не сказал? Гм, а я счел, что сказал. Ну, о любви, Мари. Тебе что-нибудь об этом известно?
– Да, сударь, известно. Это моя самая любимая тема.
– А как ты полагаешь, Мари, будучи живым человеком, ведь ты живой человек… Как ты полагаешь, возможно ли, что такой, как я, смог бы полюбить?
– Да, сударь, полагаю, да.
– А как ты полагаешь, можно ли полюбить такого, как я?
– Я полагаю, это возможно, сударь.
– Дело в том, что ввиду последних больших перемен в нашем предприятии, с нами тоже произошли некоторые перемены. Я это заметил. Шарлотта, дорогая моя Шарлотта… Раньше я нужен был ей исключительно для коммерции, но теперь, мне кажется, возникла другая потребность. Я это не придумываю. Нет! Это любовь, – прошептал он. – Любовь. Но что это, как это бывает? Увидеть ее знаки на лице. Запечатлеть ее в воске. Вот это было бы великолепно!
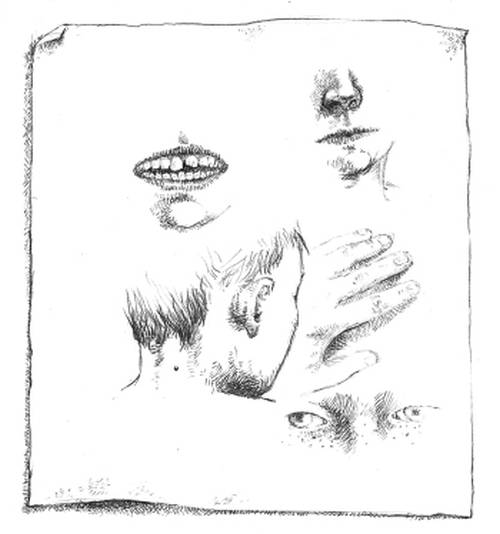
Назад: Глава пятьдесят четвертая
Дальше: Глава пятьдесят шестая

