Книга: Самая страшная книга 2020
Назад: Игорь Кременцов Большая стирка
Дальше: Елена Щетинина Мать сырой земли
Вадим Громов
Подарки
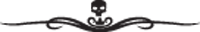
– Здравствуй, Дедушка Мороз! Ты меня послушай…
Темноволосый упитанный карапуз в костюме зайчика заметно шепелявил, светло-карие, чуть навыкате глаза вдохновенно поблескивали. Тягачев слушал его, поощряя старания благодушной полуулыбкой и легкими кивками.
Утренник только набирал ход, карапуз был первым желающим отработать будущий подарок, рассказав Тарасу незамысловатый стишок. На стульчиках, расставленных вдоль светло-бежевых, скудновато и без особой фантазии украшенных новогодней мишурой стен ждали своей «минуты славы» еще около двух десятков «зайчиков» и «снежинок» старшей группы. Детские взгляды – смесь нетерпеливого любопытства и восторга – шмыгали с трехметровой искусственной ели в центре зала на фигуру Деда Мороза, а с нее – на мешок клубничного цвета, стоящий у ног Тягачева.
– Мы тебе отрежем нос, губы, пальцы, уши…
В первый момент Тягачев решил, что ослышался. Он растерянно моргнул, с тревогой посмотрел на «зайчика» и сразу же – в дальнюю часть зала, где сидели родители. Надеясь увидеть, что кто-нибудь нахмурится, вздрогнет или еще как-нибудь даст понять: карапуз и в самом деле говорит то, что говорить никак не должен…
Но лица взрослых остались безмятежными, все улыбались точь-в-точь как сам Тягачев несколько секунд назад.
– Ребра громко захрустят, дети праздника хотят!
Мгновение спустя Тарасу показалось, что у него начались глюки. Лица теряли отличия, черты смазывались до полной неразличимости, как будто по свежему акварельному рисунку вдохновенно мазюкали мокрой кисточкой. Нетронутыми остались лишь улыбки, но теперь они выглядели пугающими, неживыми…
– В лужу крови снег-снежок стелет белым пухом. Доберемся до кишок, вытянем из брюха…
Взгляд Тягачева лихорадочно побежал по «зайчикам» и «снежинкам». Он ожидал, что детские мордашки постигнет та же участь, но все вышло иначе.
– Глаз я вытекший увижу – это Новый год все ближе!
Лица детей грубели, делались жестче, взрослее. Словно каждому из них прибавилось по четверти века, а то и больше. Рост и телосложение не изменились совсем, и теперь Тарас видел перед собой два десятка карликов.
– И язык щипцами – хвать, он сюрприз для мамы. Праздник буду я встречать, лучший самый-самый!
Мешок с подарками неожиданно качнулся влево, вправо, а потом завалился набок, подальше от Тягачева. На боках проступило множество островерхих бугорков, как будто нечто сидящее в мешке изучало преграду на прочность. Карапуз ощерился, показав неровный частокол тонких клыков цвета старой ржавчины. Радужка заплыла мутной белизной, зрачок сильно увеличился, став ярко-алым и крестообразным.
– Шея просит топора… Новый год пришел, ура!!!
Родительские ряды вспыхнули: сильно, чадно, без единого звука. Это словно послужило сигналом – карлики повскакали с мест и окружили Тягачева. В кулачках были зажаты миниатюрные ножи, молотки, опасные бритвы, серпы, шипастые дубинки, колуны…
– Раз, два, три! Дед Мороз – умри!!!
Скрипучий многоголосый рев оглушил. Тягачев выпустил из рук посох, чтобы зажать ладонями уши, а в следующий миг живое кольцо начало сжиматься, карлики поднимали свое оружие…
…И кошмар оборвался.
Тарас открыл глаза. Шторы не были задернуты, и света уличного фонаря, стоящего метрах в пяти-шести от дома, вполне хватало, чтобы рассмотреть-узнать потолок своей комнаты, обклеенный сероватой пенопластовой плиткой с абстрактным узором.
И тут же ощутил новый прилив страха, услышав негромкий, прерывистый хрип. Тот звучал отголоском рева из сна, непонятно как проникшим в другую реальность. А через секунду до Тягачева дошло, что это – его собственное дыхание, вырывающееся сквозь сжатые зубы.
«Греб всех чтоб… – он заставил себя дышать медленнее, спокойнее. Слегка повернул голову вправо, влево, убеждаясь, что точно находится дома. – Так, а какое сегодня? Двадцать пятое? Или двадцать четвертое еще?»
Он пошарил рукой в изголовье, вслепую отыскивая лежащую на боковине дивана пачку «Альянса». Нашел, вытащил из нее зажигалку, сигарету, прикурил. Щербатая суповая тарелка, заменявшая пепельницу, стояла на полу, и Тарас лег на бок, чтобы удобнее было сбрасывать пепел.
Курил жадно, стараясь как можно быстрее притупить «послевкусие» сна и зная наперед, что старания напрасны. Ни разу не получалось добиться облегчения за считаные минуты, сон всегда напоминал о себе самое малое часа полтора, назойливо всплывая в памяти эпизодами разной длины. Чаще всего – самыми отталкивающими, жуткими…
За первой сигаретой без перерыва последовала вторая, за ней – третья. Тягачева мутило даже не от «послевкусия», а оттого, что он никак не мог привыкнуть к кошмарам. Тарас знал, что после передышки в месяц-полтора обязательно приснится законченная чертовщина, ничуть не похожая на предыдущие, но тесно связанная с новогодними праздниками. Знал, старался настроить себя на неизбежное, и все шло насмарку: кошмары курочили его восприятие как в первый раз, страх от них всегда оставался пронзительным, безрассудным…
Но самым худшим было то, что они играли второстепенную роль – оставались довеском, фоном того, что Тягачеву приходилось делать наяву. Потустороннее без устали держало на коротком поводке, время от времени бесцеремонно стучась в его реальность кошмарами-напоминалочками: «Тук-тук! Ничего не изменилось. Тук-тук! Мы ближе, чем ты думаешь. Тук-тук! Мы не перестаем помнить о тебе».
В последнее время Тарас начал подумывать о том, чтобы свести счеты с жизнью. Шаг за черту не давала сделать мысль, что вскрытые вены или петля не гарантируют избавление, что те, кому он задолжал, дотянутся до него где угодно. Только платить за попытку «соскочить с гнилой темы» придется с неподъемными процентами…
Прикончив третью сигарету, Тягачев помедлил, но все-таки достал из-под подушки мобильный. Посмотрел на дату и тоскливо выматерился.
Слабая надежда на то, что он запутался в числах и у него есть в запасе день или даже два, разбилась вдребезги. На экране было двадцать пятое, половина шестого утра.
Неделя до Нового года.
Время разносить подарки.
«С-сука, хоть бы не как в прошлый год… Поменьше, ну хоть немного». – Тягачеву вдруг захотелось с головой нырнуть под одеяло, как будто оно могло защитить от неизбежного. А еще лучше – отмотать время назад. Набрехать Колкому и Градусу, что подхватил простуду, сломал обе ноги, валяется при смерти… что угодно, лишь бы никуда не ходить с ними в тот вечер.
В этот раз даже не хотелось утешать себя тем, что удалось пережить приятелей на пять лет. Что надо потерпеть всего неделю, семь нещадно долбаных дней, а потом наступит почти нормальная жизнь…
Тарас лег на спину и уставился в потолок, физически чувствуя, как уходят секунды и приближается момент, когда в прихожей появится чертов костюм Деда Мороза и мешок с первым подарком. Из ниоткуда, сука, появится и в никуда, тварь, за минуту до боя курантов сгинет без следа. Но останется ощущение, что в жизни не было и не будет ничего – кроме него. Ни матери, ни отчима, ни сводной сестры, ни друзей-приятелей – только мешок, валенки, тулуп, рукавицы, шапка и накладная борода с усами…
В памяти без спроса и предупреждения возникли Градус и Колкий. Первый – высокий, тощий, узкие покатые плечи и лысая пулевидная голова в шапочке-«пидорке». Второй – пониже и покрепче, верткий, похожий на Квентина Тарантино в молодости, отрастившего шкиперскую бородку и волосы до плеч.
Потом кинопленка воспоминания распалась на кадры, и они хаотично запорхали в голове – объемные, четкие, со звуком…
– Дядя, э, пацанам подарочка зажал? Слышь, куда намылился? Сюда встал, э…
Сухой, звучный щелчок выкидухи и тусклый блеск лезвия, торчащего из кулака Колкого…
– Ребята, не надо. Всем только хуже будет.
Снежная крупка, усыпающая разбитый, обледеневший тротуар…
– Э, клоун, ты фанат радио «Дерзим-плюс», как я врубаюсь… Не? А с какого хрена тогда позитивно разбежаться не хочешь? Людям настроение на ночь глядя паскудишь. Вежливости мама не учила? Я могу краткий курс провести.
Неяркие огни многоэтажек в отдалении…
– Ребята, дайте пройти.
– Не, ты не фанат – ты ведущий, в натуре… Тяга, Колкий, верняк же?
Его собственный кивок, хищная ухмылка Колкого…
– Ты, клоун, пацанам в детство вернуться не даешь. А это – святое, а ты на него ссышь.
Алый как кровь и почти пустой мешок на плече человека в костюме Деда Мороза. Его неуклюжая попытка убежать, стремительный прыжок и подножка Градуса, ватный звук упавшего тела…
– Ребята, зря!
Квадратный носок ботинка Градуса, расплющивший губы незнакомца.
– Глохни, падла! Братва, топчи ушлепка!
Две фигуры, остервенело пинающие лежащего, который даже не пробовал подтянуть колени к груди, закрыться руками, словно ему было все равно, что с ним происходит. И он сам, опасливо обшаривающий пьяноватым взглядом окрестности в поисках случайных свидетелей…
Назойливый иллюзорно-целлулоидный рой в голове наконец-то исчез. Тягачев остался лежать в прежней позе, глядя в потолок и монотонно повторяя про себя: «Неделя… Неделя…»

Костюм все так же вызывал у Тараса страх, густо приправленный отвращением. Тот, как и мешок, был сделан из материала, очень напоминавшего кожу – прочную, но удивительно мягкую, бархатистую. Тягачев как-то сразу вбил себе в голову и до сих пор не мог отделаться от впечатления, что она – человеческая. Изрядная – с кожуру грейпфрута – толщина его убеждения не поколебала. «Несколько слоев скрепили, мразоты».
Но страшно, большей частью, Тягачеву было не от этого. Ему неотвязно казалось, что наряд – живой. Что-то наподобие организма, зачем-то принявшего именно такой вид.
По правде говоря, за то время, что выпадало носить его, Тарас не заметил ничего, способного расставить жирные точки над «ё»: «Ты не попутался, братуха. Эта хрень – не палец в жопе: здесь все мутно и стремно, в натуре». Костюм как костюм. Мешок как мешок.
И все же ерзала в подсознании паскудная заноза, упорно не позволявшая даже предположить, что это – просто костюм. Пару раз Тягачев пытался избавиться от нее, упорно вдалбливая себе, что человеческая кожа – это одно, а неизвестный организм – другое, и уживаться в одном флаконе они попросту не могут, но помогало слабо и ненадолго. Иногда отчаянно хотелось верить, что к имеющимся трудностям попросту прицепилась шизофрения или паранойя, но эта «палочка-выручалочка» ломалась к чертовой матери сразу же после того, как Тягачеву приходило время влезать в красно-белое одеяние…
Он всегда надевал под него штаны, рубашку, свитер, носки потолще, даже шапку и рукавицы натягивал на подшлемник и нитяные перчатки, чтобы избежать прикосновения к коже. И все равно – никак не хотело умирать ощущение, что он – человек, который позволяет пчелам облеплять себя. Только у его «пчел» не было названия, они старательно и успешно притворялись неживыми, и Тягачев не знал, на что они способны.
Вот и сейчас ему дико хотелось открыть входную дверь и пинком отправить аккуратную стопку одежды, мешок и валенки на площадку. Он глухо зарычал сквозь зубы и начал натягивать штаны, твердя, как заевшая пластинка:
– Носи, или будет хуже… Носи, или будет хуже…
Память вновь проколола пласты дней. Эту встречу Тягачев хотел забыть еще сильнее, чем Колкого с Градусом, вошедших в раж и поочередно прыгающих неподвижно лежащему человеку на голову и грудь.
Его окликнули сзади – негромко, равнодушно:
– Тяга!
Тарас машинально повернулся. Спустя секунду нахлынуло ощущение, что вместо мышц под кожу утрамбовали мелкого, покрытого изморозью щебня, и тело стало непослушным, чужим.
Фигура в костюме Деда Мороза замерла шагах в трех. Огромная, невероятно длиннорукая, казалось – она могла дотянуться до Тягачева, не сходя с места. Пустой на три четверти мешок лежал на земле, и Тарас подумал, что сейчас гигант схватит его за ноги, за руки, сломает пополам и затолкает в темное, выстуженное тридцатиградусным морозом нутро, к сверткам и коробочкам.
Лица Тягачев не видел, фигура почти заслоняла собой ближайший фонарь, а два следующих светили еле-еле, часто мерцая и грозя погаснуть в любой миг. Из-за этого у Тараса возникло ощущение, что между воротом тулупа и шапкой нет ничего, кроме непроницаемо-темной пустоты.
– Если хочешь жить – слушай, – так же равнодушно донеслось из нее. – Уйдешь – скоро умрешь. Как твои приятели.
Свой ответ, писклявый и заискивающий до омерзения, Тягачев услышал будто со стороны:
– Непоняточка вылезла… Не при делах я.
Шапка еле заметно качнулась, и в уши Тарасу вонзился крик: надсадный, захлебывающийся. Он тут же оборвался, но затишье было недолгим. Потом зазвучал шепот – срывающийся, полубезумный, и Тягачев с ужасом узнал голос Колкого. «Не надо… Нет, нет, не хочу…» Слова быстро сменились бессвязным бормотанием, в него тут же вплелось частое, беспорядочное постукивание, как будто на стекло пригоршнями кидали крупный сушеный горох, и приятель закричал снова, еще страшнее.
Он быстро смолк, и Тарас услышал, как орет Градус. Громче, чем надрывался лет семь назад, когда опрокинул себе на босые ноги только что вскипевший чайник без крышки. Судя по всему, сейчас Градуса жрали заживо. А может, тянули за яйца, одновременно полосуя их тупым ножом. Или… дальше Тягачев даже не хотел представлять.
Шапка снова качнулась, и наступила тишина.
– Хватит, нет? – тон Деда Мороза был прежним. – Если надо, могу показать, что с кем стряслось…
Тягачев торопливо, мелко замотал головой, панически боясь, что гигант примет бездействие за согласие и – покажет… После услышанного он верил собеседнику безоговорочно и понимал, как теперь похож на марионетку, все нити которой – в его руках. Захочет – отпустит, а может – сплетет из них же удавку, и…
– Жить хочешь?
Тарас хотел крикнуть «да», но горло сжало спазмом, и он начал кивать – еще быстрее, чем мотал головой.
– Сейчас идешь домой, – Тягачев превратился в столб, ловя каждое слово. – Там будет костюм, как у меня. Надеваешь его, вынимаешь адрес из кармана, находишь, где это, мешок с собой – и туда. Звонишь или стучишься, подарок вручаешь и уходишь. Поздравлять или вообще что-то говорить – не надо. Потом достаешь другой, и все то же самое. Если вдруг пригласят зайти – заходишь, подарок так же отдаешь и делаешь, что скажут… Сам не уходишь, что бы ни увидел, иначе пожалеешь. Ждешь, когда отпустят. Пока адреса не кончатся – никаких передышек. Тридцать первого вечером костюм исчезнет, и отдыхай до следующего декабря…
– Почему… я? – еле слышно, сипло выдавил Тягачев.
Дед Мороз легонько пожал плечами:
– Потому что ты никогда не подозревал, что не всё в жизни – то, чем кажется. Изнанка бывает совсем другая: правила, по которым оно существует. И нарушать их – себе дороже. Все, дальше сам решай, как и что.
Он поднял мешок, повернулся и шагнул прочь. Но тут же остановился. Тарас смотрел ему в спину с бешеной надеждой, что гигант сейчас расхохочется и крикнет что-нибудь вроде: «А классно я тебя разыграл?!»
Последняя фраза прозвучала так же отрешенно, как и все предыдущие.
– Костюм носи, или будет хуже.

«Улица Академика Бурденко, дом 14, квартира 9».
Тягачев привычно скомкал очередную записку – качественная, чуть сероватая бумага, листок размером с пачку сигарет, крупный принтерный шрифт… ни капли инфернального, мистического – и, не глядя, отбросил в сторону.
Он не боялся, что забудет адрес. Одного прочтения хватало, чтобы тот засел в голове крепче, чем та самая репка – в грядке. И не испарялся оттуда, пока подарок не обретал своего владельца.
Спустя минуту после этого в нагрудном кармане тулупа появлялся листок-близнец, а мешок беременел очередной упаковкой…
Тарас стащил рукавицы, привычно зажал их под мышкой. Достал из чехла – висевшего на шее, под бородой, – смартфон: он так и не решался носить его в одном из карманов костюма. Высвободил из перчатки указательный палец, забил в «Гугл-картах» нужный адрес.
Улица неизвестного Тягачеву академика находилась не так уж и далеко – три остановки на метро и пара минут пешком. В прошлом году он безвозвратно забил на попытки вычислить систему, по которой «работодатели» выдавали адреса. Иногда приходилось ехать из одного конца города в другой, а потом возвращаться если не в ту же точку, то – в расположенную по соседству. Впрочем, Тягачева это ничуть не печалило и, была бы его воля, катался по мегаполису как можно дольше, оттягивая очередную доставку. Но особо тянуть время не получалось, стоило без причины задержаться больше чем на десять минут, как приходила головная боль, терпеть которую Тарас не мог. И шел дальше, угрюмо гадая, сколько адресов еще предстоит посетить. Самым легким был день в позапрошлом году – всего девять «визитов». Самым паршивым – в прошлом: восемнадцать. В среднем выходило по тринадцать-четырнадцать.
Но хуже всего было не разносить подарки, а постоянно находиться в ожидании, что каждый новый адрес окажется «тем самым». Местом, где придется перешагнуть порог и увидеть то, что не сотрется из памяти до конца жизни. Его невозможно было предугадать, оно могло выпасть когда угодно – в начале, в конце, – и без него не обходился ни один год. Однажды в голову Тягачева пришло, навсегда засев в ней, сравнение, что это – вишенка, с любовью слепленная из мозгового фарша и украшающая торт из мяса, костей и внутренностей…
– Мама, мама! Смотри-и-и! Дедушка Мороз! Настоящи-и-ий!
Тарас обернулся. Румяный, отчаянно веснушчатый пацан лет шести восторженно тыкал в его сторону пушистой варежкой, напоминающей божью коровку – красную с черными кружочками. В темных, слегка увеличенных очками глазах бурлило ликование.
– Давай стиральную машину новую у него попросим тебе! И велосипед мне! И Лего, то, огромное! И еще, чтобы папа не пил! А еще…
– Боря, прекрати! – невысокая, полная, такая же веснушчатая женщина схватила его за руку, улыбнулась Тягачеву – скупо, нервно. – Мы торопимся! И Дедушке тоже некогда, он другим детям подарки несет…
Она потащила занывшего и едва успевающего за ней пацана вглубь двора. Тягачев развернулся и быстро пошел прочь, безуспешно унимая проснувшуюся при виде веснушек дрожь. Память, паскуда, мгновенно зашвырнула в тот самый вечер, когда…
…Дверь в квартиру приоткрылась, стоило Тарасу скинуть мешок с плеча. Тусклый свет из прихожей растолкал крепко воняющую мочой темноту в стороны, из дверного проема дохнуло кислятиной и еле уловимым запахом сгоревших бенгальских огней. Тягачев машинально прижал рукавицу к носу – дышать стало почти невыносимо.
– А мы вас зажда-а-ались… – дверь открылась полностью. – Проходите, гость дорогой. Матвейка ждет, совсем места себе не нахо-о-одит…
Тягачев невольно сделал шажок назад. На пороге стояла женщина лет пятидесяти – очень худая, некрасивая. Узкий лоб, еле заметные росчерки бровей, крючковатый, свернутый на сторону нос, темные, близко посаженные глазки, большой рот и массивный подбородок с крупной бородавкой посередине. По лбу, наискось – от зачесанных назад волос к виску, – тянулся шрам. Рваный, похожий на кривую кардиограммы, толщиной с шариковую авторучку.
Женщина улыбалась. Неумело накрашенные кроваво-красной помадой губы растянулись, как показалось Тарасу, до предела, выставляя напоказ мелкие кривые зубы. Левая сторона рта почему-то была заметно выше другой, и это делало улыбку неестественной, жутковатой…
Но сильнее шрама и улыбки Тараса напугал ее наряд Снегурочки. На голове торчало кривобокое, обшарпанное подобие кокошника, вырезанное, судя по характерному изгибу внизу, из пластикового ведерка. Воротник и карманы голубого ситцевого, сильно полинялого халата были небрежно оторочены облезлой серебристой мишурой. Она же обвивала голенища голубых резиновых сапог.
Тягачев сделал еще один шажок от двери.
«Шизанутая, – напряжение, не отпускавшее его весь вечер, окрепло донельзя. – Сука, на хрен мне это, а? Кинуть подарок и валить с концами».
«Снегурочка» словно уловила настрой Тягачева, ее глаза стали двумя черными льдинками. Уголки рта чуть-чуть опустились, и улыбка обрела сходство с оскалом.
– Заходи, Дедушка Мороз. Не огорчай нас с Матвейкой…
«Пригласят – заходишь, – проворно выкарабкалось из памяти. – Иначе пожалеешь».
Тарас шагнул вперед, чувствуя себя сопливым шкетом, которого вынуждают пойти в заброшенный дом, где когда-то жила ведьма.
«Снегурочка» шустро посторонилась, пропуская его в квартиру. За спиной Тягачева закрылся один замок, другой, третий… Тарас с трудом заставлял себя стоять спокойно, твердя заевшей пластинкой: «Ждешь, когда отпустят».
Женщина обогнула его, взяла за рукав – бесцеремонно, цепко, и повела по коридору. Шаги Тягачева сопровождались потрескиванием – вытертые, некогда коричневые доски были грязными, липкими. Жирные разводы на частично ободранных к так и не начавшемуся ремонту обоях, хлопья пыли, полиэтиленовые, завязанные и туго набитые чем-то пакеты и разный хлам вдоль стен, паутина… Тарас старался не смотреть по сторонам, злясь, что не отважится послать «Снегурочку» в жопу, а потом – вырвать руку, развернуться и уйти.
«Снегурочка» привела его к дальней комнате и тихонько постучала в закрытую дверь.
– Матвейка, к тебе гости-и-и! Впустишь?
Тягачев ждал, что им откроют, но женщина сразу же потянула дверь на себя. В довольно большой комнате царил полумрак, и «Снегурочка» уверенно шагнула туда, затаскивая Тараса следом. Раздался глуховатый щелчок, и возле двери вспыхнул свет. Лампочка единственного настенного светильника была покрыта желтоватым налетом и горела тускло. Хотя этого света хватало, чтобы понять – комната превращена в помойку. Несколько матрасов, щедро выставивших напоказ вату-внутренности, куски пенопласта, ломаные доски, ветошь, полиэтиленовые пакеты, картонные коробки, мятые газеты и другой, по большей части слежавшийся мусор занимали три четверти комнаты. В самом низком месте доходя Тягачеву до колена, а в самом высоком – до пояса. Странно, но присущий свалкам запах Тарас не ощущал, терпимо пахло затхлостью, в том же коридоре воняло гораздо хуже.
– Зовите его… – зло прошипела женщина, дернув Тягачева за рукав. – Вместе… Матвейка!
Тарас машинально повторил за ней, не узнавая своего голоса. И, прикипев взглядом не то к гнезду, не то – к улью из пакетов и газет – в дальнем, самом затемненном углу, в котором могла поместиться средних размеров собака.
«Гнездо» заерзало, тихонько зашуршали полиэтилен и бумага.
– Матвейка любит, когда шуршит и мягкое, – с неожиданной умильностью прошептала «Снегурочка». – А звон и стук – нет, сразу злится…
Край гнезда вдруг примялся под весом небольшой приземистой и очень странной фигуры. Она замерла, как будто рассматривая стоявших у двери людей, а потом двинулась к ним.
Зародившемуся крику не дала вырваться «Снегурочка». Пихнула Тягачева локтем в бок и с прежней злостью процедила сквозь зубы:
– Подарок… Доставай, живее.
Тарас поспешно наклонился. Руки дрожали, страх поглотил все мысли, и Тягачеву хотелось лишь одного – не отрывать взгляд от горловины мешка.
Когда Тягачев все же разогнулся, держа в руках черный, туго набитый полиэтиленовый пакет, величиной с килограммовую пачку пельменей, Матвейка уже был в шаге от него.
Помесь паука и ребенка лет пяти-шести пристально следила за ним бесцветными глазами-щелочками, наполовину прикрытыми пленкой сероватых век. Безволосая человеческая голова венчала напоминающее колбу тело – худющая грудь резко переходила в шарообразное брюхо. Шестерка поддерживающих его конечностей была чем-то средним между человеческой рукой и паучьей лапой, но заканчивалась ороговевшими культями. Мелкие и частые складки пористой кожи, узкая трещина с воспаленными краями на месте носа, уши, похожие на шляпку безнадежно червивого подосиновика. Губ не было, и щучьи зубы, торчащие из припухлых десен, поневоле притягивали взгляд. Но страшнее всего Тягачеву почему-то стало от обычных веснушек, густо рассыпанных по пухлым щекам твари.
– А смотри-ка, Матвеюшка, какой тебе подарок Дед Мороз принес, – засюсюкала «Снегурочка», торопливо забирая пакет. – Ой, вкусно-вкусно будет…
Она ловко подцепила обломанным ногтем проволочный зажим на горловине, разогнула его. Сунула руку в пакет. Матвейка следил за ней, как оголодавшая псина, перед которой машут куском домашней колбасы.
– А вот кусочек сла-а-аденький… Вкуснее, чем все эти кошки.
Только страх удержал съеденную полтора часа назад шаурму в желудке Тараса. «Снегурочка» вытащила из пакета человеческое ухо, сунула его в торопливо раскрывшуюся пасть твари.
– С Новым годом, Матвейка! Кушай, мой хороший!
Массивные челюсти поспешно измочалили угощение, тварь жадно сглотнула. Нетерпеливо зашипела-заурчала, требуя добавки.
– А вот еще, держи…
Глазное яблоко Матвейка сожрал так же быстро. Потом «Снегурочка» скормила ему палец, за ним последовал второй глаз, язык, еще пальцы… Пакет понемногу пустел, кисть женщины стала красной от крови. Движения челюстей делались медленнее, утолившая первый голод тварь начала смаковать угощение, закрывая глаза от удовольствия.
– Кушай, радость моя. Кушай. На-ка еще ушко…
…Тарас сильно прикусил губу, болью выдирая себя из воспоминания. Застонал – глухо, протяжно, надеясь, что оно не потянет за собой другие, мысленно костеря веснушчатого пацана, заставившего вновь прикоснуться к этому кошмару…
– «От улыбки станет всем светлее-е-ей, – затянул он срывающимся голосом первое, что пришло в голову, не давая мыслям вырулить обратно. – От улыбки в небе радуга начнется-я-я…» Или, это… проснется? Точно, сука, проснется! «Подели-и-ись улыбкою своей…»
Спустя несколько минут он подошел к метро. Деньги на проезд неизменно находились в кармане тулупа в день его появления, и их всегда хватало тютелька в тютельку. Тарасу никогда не приходило в голову потратить хотя бы рубль из них на еду или питье, потому что казалось – ничего хорошего от такой траты не будет. Может, он и ошибался, но проверять не было никакого желания. Ладно, хоть тут с паршивой овцы клок перепал, а то бы катался за свои…
На противоположном эскалаторе поднимался еще один Дед Мороз. Тягачев мрачно уставился на его костюм, пытаясь понять – он такой же, как и у него, или мимо едет хренов счастливчик, не имеющий никакого понятия о жути, незримо и прочно вплетенной в предновогоднюю суету города…
Дед Мороз приветливо вскинул руку вверх и улыбнулся, приветствуя «коллегу». Тягачев кое-как задавил желание снять рукавицу и показать ему средний палец. Ходит, падла, позитивом дышит, деточкам подарки раздает да стишки слушает. Ему бы разок к Матвейке попасть, или к тому безногому и безносому инвалиду, у которого дома богатая коллекция человеческих голов – с носами, но – без ушей, глаз, губ, зубов, скальпа, и жареные пальцы на ужин. Впрочем, ему бы в любом из семи адресов с лихвой впечатлений хватило…
Дом номер четырнадцать по улице академика Бурденко оказался старой краснокирпичной четырехэтажкой на окраине промзоны. Домофон в нужном подъезде был сломан. Девятая квартира располагалась на третьем этаже, Тягачев поправил на плече мешок – непривычно увесистый и габаритный, килограммов шесть-семь, по размерам как микроволновка – и потопал по видавшим виды ступеням. Облупившаяся штукатурка, обитые дерматином и рейками двери и засохшие плевки на оконных стеклах наводили на мысль, что народ здесь обитает в основном незамысловатый и безденежный. Несколько встретившихся на пути «полторашек» из-под «Охоты Крепкое» и зеленые бутылочные осколки придавали догадке веса.
Дверь девятой квартиры начала бесшумно открываться, когда Тягачев потянулся к звонку. Отрывистый, напряженный полушепот велел:
– Заходи, быстрее!
В полутьме прихожей виднелся грузный силуэт, прямо-таки отчаянно машущий Тарасу рукой. Тягачев поспешно шагнул через порог, чувствуя, как противно каменеет лицо и что-то холодное начинает сдавливать и перекручивать внутренности.
Хозяин квартиры проворно шмыгнул мимо, несильно задев Тягачева плечом и обдав запахом свежего пота. Негромко хлопнула дверь, закрылся замок.
Вспыхнул неяркий свет.
– Принес-таки…
Толстяк лет пятидесяти, в серой майке и растянутых трениках был похож на ожиревшего бульдога – обширная лысина, вислые щеки, широкий тонкогубый рот, маленький вздернутый нос, настороженный взгляд темных глазок. По красному, вспотевшему лицу попеременно проскакивали радость и смятение, как будто он до сих пор не верил, что Тягачев пришел именно к нему.
– Доставай! – наконец распорядился он, в голосе отчетливо проступили барственные нотки. – Чего ждешь-то?! Быстрей отдашь, быстрей пойдешь.
Тягачев покорно снял мешок с плеча, вытащил подарок – округлую коричневую коробку без перевязи и склеек и этим напоминающую огромное картонное яйцо, немного проминающееся под ладонями.
Протянул ее толстяку. Тот внезапно замялся, в скупой ухмылке, как показалось Тарасу, мелькнуло что-то виноватое:
– Ты, слушай… Скажи там своим, потом доделаю, что должен. Просто не успел. Ну, ты понимаешь, со всяким может быть…
К концу фразы тон стал прежним – хозяйским, не принимающим возражений. Тягачев растерянно пожал плечами, не зная, как быть – ответить, что не в курсе, кому это передать, или ограничиться кивком.
Верх коробки резко вздулся угловатым пузырем. И тут же лопнул с коротким, сухим треском. Тягачев даже не успел испугаться, глядя, как из подарка на майку толстяка стремительно плеснуло черным, глянцевым, похожим на расплавленную смолу.
Тарас отшвырнул ставшую невесомой коробку в угол прихожей, отскочил к стене. Толстяк вскрикнул – тоненько, без страха, скорее удивленно. Грузно, неуклюже шарахнулся в другую сторону, задев плечом дверной косяк. Скрюченные пальцы потянулись к груди.
«Смола» мгновенно перетекла выше, полностью облепив ему голову, глянец потускнел, уступив место матовости. Толстяк дернулся, как будто сгреб обеими руками оголенный электропровод, отчаянно затряс головой, словно желая избавиться от существа. Рот широко открылся, но сквозь черную маску, идеально повторяющую черты лица, не проникло ни звука. Она вдруг пошла частыми пузыриками, и Тягачев увидел, как нос и уши начали съеживаться, будто «смола» плавила человеческую плоть.
Тягачев ждал, что существо оставит толстяка без головы, но не угадал. Через несколько секунд «смола» поменяла форму одним плавным, быстрым движением. Теперь она напоминала бугристую сколопендру – длиной сантиметров тридцать и толщиной с багет. По бокам нетерпеливо подрагивали короткие, похожие на бахрому то ли ножки, то ли щупальца. Лицо толстяка стало лишенной кожи заготовкой – без носа, с изуродованными губами, обмазанной слоем желтоватого, с кровяными прожилками жира. Слепо, бесцельно ворочались лишенные век глаза.
Существо шустро, кляпом скользнуло в открытый рот, обрывая набирающий силу крик. Еще секунда, и оно оказалась во рту целиком. На шее толстяка жутким узором проступили жилы, отчетливо обрисовался, вылез из-под складок кадык: существо пропихивалось дальше, в желудок.
Толстяк сжал шею ладонями, как будто хотел выдавить «сколопендру» обратно. Жир на лице начал расцветать красным. Рот был открыт так широко, что Тарасу казалось – он вот-вот порвется, трещины пойдут дальше и верхняя часть головы запрокинется назад, как в фильме ужасов с прочно забытым названием…
Потом толстяк выдохнул – негромко, сипло. И начал оседать на пол бесформенной грудой, как будто из него вынули все кости. Шея стала прежней, но он так и не закричал, изо рта вырывался лишь глухой хрип, словно существо повредило ему голосовые связки.
Живот медленно заколыхался. Тягачев подумал, что забравшаяся в пищевод «сколопендра» хочет выбраться назад, но иным путем. Подтверждая эту мысль, на майке толстяка, чуть ниже солнечного сплетения, проступила кровь, пятно размером с пятирублевую монету. Спустя несколько секунд такое же пятно появилось левее и ниже. Еще через несколько – третье, четвертое…
Полное впечатление, что перед тем, как выбраться, «сколопендра» решила превратить живот толстяка в дуршлаг. Самым жутким для Тягачева было то, что хозяин квартиры до сих пор не умер: грудь двигалась в такт неровному, булькающему дыханию. Изо рта потянулась красная, быстро расширяющаяся струйка.
Она сумела разрушить состояние, державшее Тараса на месте. Тягачев метнулся к двери, запутался в полах тулупа и с треском своротил коричневую пластиковую обувницу. Тут же вскочил, краем глаза следя за майкой толстяка, на которой почти не осталось серого. Крутить небольшую рубчатую головку замка в рукавице было неудобно, он лихорадочно стащил ее зубами, прикусив палец.
Открыл дверь. Спохватился, поднял мешок с пола, затолкал рукавицу в карман, выбежал из квартиры. Хлопнул дверью и запрыгал вниз через две ступеньки, даже не думая проверять, закрылась ли дверь или толстяка сможет обнаружить первый же проходящий мимо…
Выскочил из подъезда, чуть не протаранив маленькую худощавую женщину лет пятидесяти в длинном зеленом пуховике, тащившую два туго набитых пакета из «Пятерочки». Она охнула и в последний момент отшагнула к сугробу, громоздившемуся сбоку от узенькой тропинки. Тарас промчался мимо, вскользь зацепив коленом пакет, свернул влево и побежал дальше, не слушая возмущенных выкриков.
Он не знал, сколько одолел – километр, два или больше… Пропитанный страхом мир сузился до тротуаров и дорожек, по которым Тягачев бежал, а слева и справа не было ничего, кроме кишащей «сколопендрами» тьмы.
Тарас сбавил шаг лишь после того, как увидел, что идущая навстречу пожилая, хорошо одетая пара опасливо отпрянула к стене дома, словно повстречала не человека в костюме Деда Мороза, а голого лепрекона, оседлавшего собачий скелет.
– Прос… тите… – хрипло выдохнул Тягачев и попытался улыбнуться. – С насту… пающим…
Судя по тому, что лица у пары стали совсем уж обморочными, улыбка вышла еще та. Тягачев отвернулся и зашагал прочь, тяжело дыша и рыская взглядом в поисках места, где можно перевести дух. Тише, спокойнее… Еще не хватало внимание патрульных ментов привлечь.
Через несколько минут он присел на засыпанную снегом лавочку в крохотном сквере и уставился в одну точку. Память не дала передышки, сразу же вернув его в квартиру толстяка. На воспоминание наслоилась омерзительная мелкая дрожь, ставшая, казалось, второй кожей…
Он лихорадочно искал зацепку, которая помогла бы отделаться от ощущения, что, покинув брюхо толстяка, «сколопендра» бросилась бы на него. Оно не желало исчезать или притупляться, и опорой ему служила единственная мысль: «Меня некому было бы отпускать».
Сказанных толстяком фраз Тягачеву вполне хватило, чтобы догадаться – тот сам виноват в своей смерти. «Работодатели» не простили несерьезного отношения к себе, поквитавшись с должником так, как умеют лучше всего…
Несмотря на пережитое – Тарас понимал их. Крохотный закуток сознания, не потерявший способность рассуждать цинично и здраво, занял сторону силы, на которую Тягачев уже пять лет трудился бесплатным курьером. Толстяк был из сучьей, наглой породы: таким палец даже в рот класть не надо – просто показать. А когда слабину дашь и чуть зазеваешься – с головой проглотят. Давиться будут, отрыгивать, но не успокоятся, пока не сожрут…
«Меня-то за что?! – Тягачев до боли сжал кулаки, словно пытался раздавить вопрос-скорлупу, скрывавшую ответ. – Я ж все как обычно делал! За что, суки, пидоры…»
Он не выдержал и заплакал. Громко, навзрыд, иногда срываясь на утробный кашель, пачкая усы и бороду слюнями, соплями.
Истерика поутихла несколько минут спустя.
– Суки…
Тягачев всхлипнул в очередной раз, взял горсть снега подрагивающими пальцами и затолкал в рот. За первой горстью последовала еще одна, а потянувшись за третьей, он наткнулся на что-то плотное, податливое, знакомое…
Тарас вздрогнул, но почти сразу же пришло узнавание. Он скосил глаза влево, чтобы убедиться в своей правоте.
Напрочь вылетевший из головы, но не потерянный мешок продолговато и округло бугрился очередным «подарком». Оцепеневший Тягачев не выпускал его из вида, с содроганием ожидая, что красная выпуклость вот-вот придет в движение и из горловины выберется вторая «сколопендра» или что-нибудь похуже…
Но секунды таяли, а мешок оставался неподвижным.
«Давно бы напал… – Тягачев медленно сгреб очередную горсть снега, обтер лицо. – Сколько уже здесь сижу… Чего ждать-то?»
Пальцы сами собой нырнули в нагрудный карман тулупа. Развернули новый листок.
«Проспект Дружбы Народов, дом 33, квартира 157».
– Пидоры… – Тарас расплылся в блаженной улыбке. – Шуточки у вас, чтоб вас… Я ж чуть не обосрался, суки вы поганые!
Он хлопнул себя ладонью по колену и захохотал. Но быстро умолк, старательно оттер снегом с бороды слюни и сопли и полез в карман за смартфоном. Что-то подсказывало, что «визит» на проспект Дружбы Народов будет сегодня последним…

Тягачев вышел из очередного подъезда и обогнул четверку стоящих кружком курильщиков студенческого возраста. Судя по громким голосам и репликам, по большей части состоящим из матюгов, – основательно поддатых.
– С наступающим, еп! – оглушительно гаркнули за спиной, и сразу же раздался гогот нескольких глоток. Тарас вздрогнул: «Мудаки, чтоб вас» – и ускорил шаг. Гогот быстро стих, а потом один из весельчаков с выражением выдал:
– Здравствуй, Дедушка Мороз, съешь селедки тухлый хвост! Сверху – пачку витаминок, и напукай нам снежинок!
Новый взрыв веселья. Тарас мысленно пожелал любителю стихов сожрать то же самое, плюс – тазик испорченного оливье сверху. Следом возникло ощущение, что четверка без труда просечет его настрой и рванет вдогонку, чтобы разъяснить за вежливость, как пять лет назад это делали Колкий с Градусом. Только умирать придется ему…
От подъезда донесся еще один, теперь уже совсем неразборчивый выкрик, и наступила тишина.
Тягачев свернул за угол, раздраженно сплюнул и полез в карман за новой запиской. До Нового года оставалось чуть меньше пяти часов. Еще четыре ходки, может, чуть больше, и – все. Пятьдесят одна неделя свободы, частично изгаженной кошмарными сновидениями… но это всяко лучше, чем последние семь дней в году.
«Бульвар Гагарина, дом 7, корпус Б, квартира 12».
Дремавший где-то глубоко внутри страх проснулся и вмиг беспощадно раздавил собой все остальные чувства. Огни ярко освещенной улицы расплылись и потускнели, мир обрел сходство с мазней психопата, первый раз в жизни взявшего в руки кисть.
– Светка? – помертвевшие губы наждачно царапнулись друг о друга. – Да ну на хрен…
Адрес сводной сестры он помнил отлично. С Аркадием Михайловичем – ее отцом – мать Тараса познакомилась семнадцать лет назад. Через полгода они узаконили свои отношения и прожили вместе еще десять с половиной лет. И вместе же погибли за год до того, как Тягачев впервые надел костюм Деда Мороза.
За все это время Тягачев не нашел общего языка со сводной сестрой. Да, откровенно говоря, и не стремился найти. Отчима – мягкого по характеру и похожего на папу дяди Федора из Простоквашино – он тоже недолюбливал, но худо-бедно терпел из-за матери (кстати, легко поладившей с «дочерью»). А вот Светке делал пакости при каждом удобном случае. Сейчас Тягачев не мог ответить себе, зачем это было ему нужно, ведь она всегда старалась помочь и, что бесило больше остального, не обижалась ни на какие подлянки. Хотя чего уж там – ответ был. Бурлило говно по молодости, под ноздрями плескалось, и на кого-то приходилось его выливать, чтобы самому в нем не захлебнуться…
«Ангел сраный» – было любимым выражением Тараса по отношению к Светке. Сводная сестра – его одногодка – и в самом деле походила на ангела. Худенькая, длинноногая, стройная, правильные черты лица, светловолосая, голубоглазая. Добавить крылья, и – полный комплект. Тараса до жути раздражал Светкин взгляд – открытый, добрый и в то же время – пытливый, словно она безумно хотела заглянуть ему в душу.
Одной семьей, на бульваре Гагарина, они жили до ухода Тягачева в армию, сдавая их с матерью двухкомнатку в аренду. Незадолго до дембеля Тягачев дал понять, что возвращаться в трешку отчима не намерен. Судя по быстрому согласию матери и Аркадия Михайловича, они ожидали чего-то подобного и перечить не собирались.
После смерти отца Светка осталась одна. Выскочила замуж, но ячейка общества быстро затрещала по швам: муж оказался страстным любителем сходить «налево». Хорошо, не успел обременить Светку «цветком жизни», а себя – выплатой алиментов.
Приглашение на свадьбу Тягачеву, кстати, приходило. Он без раздумий выбросил его в ближайшую урну, хотя позолоченной открыткой Светка не ограничилась: звонила и писала ВКонтакте, явно надеясь получить его согласие. На звонки и сообщения Тарас не отвечал. Не было никогда сестры, и это тоже не родственница. Ангел сраный.
Сейчас Тягачев так не считал. За последние годы он всерьез пересмотрел некоторые взгляды на жизнь и теперь мог признаться себе – сводная сестра относилась к очень редким людям, которым он был не безразличен. Время от времени у него даже возникало желание извиниться перед Светкой и наладить отношения, но дальше этого дело не пошло. Она больше не давала о себе знать, а потратить час своего времени и сходить на бульвар Гагарина Тягачев так и не смог. То некогда, то стыдно, то с похмелья, то еще какая-нибудь хренотень…
«Она тут каким боком? – листок выпал из руки. – Может, это… адрес перепутали? Ладно я, а Светка-то как? Сука, ну почему именно мне нести, почему – мне-то?!»
Тарасу захотелось сжаться в комок и скулить. Сейчас он был готов разносить подарки весь следующий месяц, видеть гораздо больше жути, испытывать боль самому… лишь бы на листке оказался другой, незнакомый ему адрес.
Тягачев не помнил, чтобы он куда-то шел, из памяти словно вырезали – без остатка, без возможности восстановления – часть вечера, и Тарас очнулся в привычной реальности уже перед хорошо знакомой дверью дома номер семь, корпуса «Б».
И понял, что не может нажать кнопку звонка. Случившееся в квартире толстяка снова встало перед глазами – лишенная кожи голова, забирающаяся в рот «сколопендра», залитая кровью майка… Тягачев отчасти стерпелся с тем, что в подарках далеко не мандарины с конфетами, но до недавнего времени даже не допускал мысли, что они способны убивать.
Тарас не мог представить, что сделало Светку человеком, ждущим своего фрагмента предновогоднего кошмара. Не был уверен, что подарок обязательно убьет ее, но, сука, не мог сказать точно, что этого не произойдет!
Ему внезапно захотелось, чтобы сводная сестра осталась для него прежней. Хотя бы в памяти. Хотя бы из уважения к покойной матери, которая любила приемную дочь всерьез. Нельзя всю жизнь делать лишь дерьмо, предел должен быть у всего. Даже если от цены этого решения веет непредсказуемой жутью.
Тягачев медленно стащил правую рукавицу и показал дверному звонку «фак». Потом шагнул к лестничному пролету, жестко ухмыляясь и бормоча:
– Я у вас пять лет отсасывал, пидоры. Теперь вы разочек…
Поставить ногу на ступеньку он не смог. Костюм вдруг сковал движения, как будто уменьшившись на несколько размеров. Тарас судорожно дернулся, надеясь расстегнуть тулуп, но рука не преодолела и четверти пути.
Рядом беззвучно упал мешок, и до Тягачева вдруг дошло, что тот – пустой… И, кажется, был пустым с самого начала, просто он этого не заметил, целиком погрузившись в мысли о сводной сестре. Выходит, подарком был он сам, и запоздалое желание хоть как-то помочь Светке никакой роли не играло.
Тягачев чувствовал себя попавшим в пресс, продолжающий опускаться. Боль почему-то не пришла, но появилось новое, странное ощущение. Нечто среднее между нытьем и зудом, которое, казалось, проникло всюду, в плоть, кости, ногти, волосы. И стало невыносимо горячо, как будто Тараса засунули в парилку. Позвать на помощь тоже не вышло, борода ожила и метнулась вверх, поспешно трамбуясь в рот тугим шевелящимся кляпом.
Что-то шершаво скользнуло по лбу, бровям, в глазах потемнело. Тягачев понял, что это шапка, она сползала все ниже, на нос. «Задохнусь!» – мелькнуло в воспаленном ужасом мозгу. Тарас безуспешно попытался вытолкнуть бороду языком, но шапка замерла, не тронув ноздри. Тягачев жадно хапал ими воздух, лихорадочно пытаясь сообразить, что происходит.
В отдалении щелкнул замок. Послышались торопливые шаги, Тягачева кто-то поднял, куда-то понес.
Снова щелкнул замок. Еще несколько секунд неизвестности, и Тараса положили на что-то твердое, гладкое.
– Здравствуй, братишка…
Шапку потянули вверх, и она легко сползла с головы. Тягачев увидел лицо Светки – поразительно крупное, как будто он смотрел на нее через увеличительное стекло. Длинные, чуть вьющиеся волосы пропали бесследно, голова сводной сестры напоминала коленку кинозвезды, обработанную в «Фотошопе». Светка широко улыбалась, но небесная голубизна глаз заметно поблекла и теперь напоминала тонкий лед озера с темной водой – озера, в котором нет жизни.
Тягачев быстро мазнул взглядом влево, вправо в поисках ответа на вопрос, что произошло со Светкой. Долго ломать голову не пришлось. Все, что он увидел в квартире, было таким же великанским. А значит, уменьшился он сам…
Следом Тягачев сделал еще одно открытие. Он не мог пошевелиться, хотя чувствовал свое тело, но как-то иначе. И эти ощущения были неправильными, пугающими.
– Помнишь, братишка, как волк в «Ну, погоди!» пел? – улыбка Светки стала еще шире, а взгляд – совсем стылым. – «Наконец сбываются все мечты: лучший мой подарочек – это ты!» Сейчас я тебя раздену, погоди…
Она повертела перед глазами Тараса узкими блестящими ножницами.
– Чик-чик, Тарасик. Фу-у-у… А во рту у тебя что за гадость?
Она потянула за бороду, вытаскивая ее – медленно, напоказ, так, чтобы Тягачев видел. Когда рот освободился, Тараса вытошнило. Недавний кляп теперь выглядел клубком паутины, в котором запуталось множество крупных дохлых мух.
– Ничего-ничего, братишка! – Светка перевернула его на бок, чтобы он не захлебнулся. – Все уберу, не переживай… У меня сегодня много уборки будет. Очень хочется побыть неаккуратной…
Тягачев хотел спросить у нее, что происходит, но вместо внятной речи изо рта вырвался тонкий, мышиный писк.
Сводная сестра восторженно хихикнула:
– Какая прелесть! – и тут же помертвела лицом, понизила голос до злого, срывающегося шепота. – Я так понимаю, братишка, ты спросить хотел, что за херня творится? А херня называется «В гостях у темного ангела». Раньше сраный был, да весь вышел…
Светка замолчала и приблизила ножницы к его шее. Тарас снова пискнул и зажмурился, ожидая боли, но она не пришла. Сталь еле слышно терлась о сталь, Тягачев ощутил прохладу: Светка срезала с него одежду. Ее губы странно дергались, как будто сводная сестра не знала, что хочет – улыбнуться или заплакать, но глаза оставались прежними.
Наконец она отложила ножницы.
– Смотри, Тарасик, в каком ты говне ходил… С другой стороны – по человеку и одежка.
То, что свисало из ее кулачка, больше всего напоминало старую половую тряпку – темную, заскорузлую, в частых прорехах. Сейчас Тягачев понимал, что чутье его не подвело, костюм действительно был с двойным дном, с поганым секретом. Его бывший наряд изменился до неузнаваемости, выполнив свое скрытое до поры предназначение – изменить своего владельца, когда понадобится…
Светка отбросила «тряпку» в сторону, и Тягачев почувствовал ее ладони на своей коже.
– Зато, смотри, какой ты смешной стал. Чудо-юдо, ути-пути…
Сводная сестра подхватила его как младенца – под затылок и ягодицы, повернулась. Зеркальная створка шкафа-купе находилась в двух шагах, и Тарас снова запищал – истошно, как никогда в жизни…
Тягачев был величиной со среднего плюшевого мишку, но напугало его совсем не это. Перемены не затронули лицо, черты остались теми же, разве что стали чуть острее. А остальное выглядело жутко – кривые опухшие ножки, левая пятка наполовину вросла в правую голень чуть выше щиколотки. Вместо члена и мошонки свисало что-то похожее то ли на огромную соплю, то ли – на посеревший яичный желток, украшенный полудюжиной крупных багровых бородавок.
Выпирающий бугристый, как будто на нем было с десяток пупков, живот. Узкая, впалая грудь, к которой целиком приросла согнутая в локте левая рука, напоминающая ветку, худющая, со скрюченными и растопыренными пальцами разной длины. Правая выглядела нормальной, но болталась веревкой, а вместо кисти было что-то вроде уродливого птичьего клюва, словно Тарас сложил пальцы щепотью и не смог разъединить их.
– Как тебе? – Светка подошла вплотную к зеркалу. – От восторга пищишь? Да, Тарасик?
Она снова улыбнулась, повернула Тягачева боком, давая рассмотреть кривые стежки безобразно выпирающего позвоночника, перекошенные лопатки, ягодицы, одна из которых была вдвое крупнее другой…
– Знаешь, братишка, а мне папа всегда вдалбливал, что зла в душе держать не надо. Вообще ни на кого. Говорил – за все добром платить нужно, а чтобы чего-то плохого – ни-ни… Даже в мыслях нельзя держать. Вот вылили на тебя цистерну помоев и еще блеванули сверху, а ты утрись и лучи добра рассылай, мир лучше делай. Альтруизм на грани безумия. Я, Тарасик, папу очень любила, и где-то он был прямо идеалом-идеалом, но вот тут – мудак слабоумный… К людям надо относиться так, как они к тебе. Правда ведь, Тарасик? Жаль, не сразу я это поняла, папу слушала, рот раскрыв: папа же авторитет непререкаемый, он лучше знает, как жизнь устроена… А хочешь, братишка, я милосердие проявлю – головой тебя об угол стола шарахну? Чтобы, оп – и все? Пискни, если одобряешь…
Тарас сжал зубы, затаил дыхание, боясь, что любой случайный звук Светка истолкует как согласие. Он боялся даже предположить, какие у сводной сестры были планы насчет него, но отчаянно надеялся, что Светка передумает. А дальше – будет видно…
– Знаешь, что мне мой бывший сказал, когда разбегались? Что таких, как я, жизнь всегда трахала и трахать будет. Во все дыхательные-пихательные, без перерыва, и с каждым разом елда все толще и длиннее… Злее, говорил, надо быть, зубастее. Лучше мелким, но – хищником, чем большим травоядным. Я ведь ему все загулы прощала, а он как узнал, что у меня рак – сразу вещички собрал и свалил. Вот такая надежда и опора… Интересно, если бы он знал, что я его через пару лет в те же дыхательные-пихательные буду напильником, и не только, до издыхания трахать, вел бы себя по-другому? А ты, братишка, подумал бы, прежде чем мне гадости делать. Веришь, нет, я их все запомнила, как будто вчера были. Вот дала же природа память… Раскаиваешься, небось, Тарасик? Это правильно, но – поздно, увы… А я ведь какое-то время планы мести строила, прямо как в кино. Думала, карате обучусь, в тир пойду, еще что-нибудь придумаю: Чудо-женщина отдыхает… А потом начну всем, кто из меня сраного ангела делал, жизнь портить. Только все проще оказалось, веришь, нет? Иногда достаточно просто очень хотеть, и тебе обязательно помогут… Никаких ритуалов не надо, никаких демонов призывать не пришлось. Даже чуть обидно было, что так все буднично: на улице встретили, поговорили, убедили, что это не розыгрыш… Не за просто так, само собой, но меня цена устроила. Скажем так, получилась полная гармония с новыми жизненными приоритетами. Мы же все разные, Тарасик. С кем-то темная сторона никаким местом не состыкуется, а лично на меня – села как влитая. Вот так, братишка, темные ангелы и рождаются…
Светка отошла от зеркала, положила Тягачева обратно на застеленный полиэтиленовой пленкой стол.
– Надеешься, что передумаю? Нет, Тарасик, такой буквы в этом слове… У меня рецидив пошел, врачи от силы год дают. А я выход нашла, представляешь? Твое место займу, все уже решено-обговорено, и даже кровью ничего подписывать не пришлось. Сколько буду подарки разносить, столько и жить буду. И что-то мне подсказывает, что до-о-олго еще проживу, спрос на такие радости всегда есть. А уж я работать буду на совесть, хватит с меня добра и терпения…
Сводная сестра замолчала, куда-то ушла. Вернулась быстро, принеся с собой небольшой эмалированный таз. Несколько раз встряхнула его, внимательно наблюдая за Тягачевым. Судя по звукам, в тазу лежало множество небольших твердых, скорее всего, металлических предметов.
– Это наши с тобой игрушки на сегодня, братишка, – Светка поставила таз на край стола. – Честно говоря, не хотела я этих рассуждений, объяснений. В прошлые разы душу излила. Больно уж хреновыми романчиками отдает, но, видать, как раз они-то с жизни и писаны…
Она наклонилась над тазом, достала из него маленькие кусачки. Левую руку дважды окунуло в боль, Тягачев отчаянно запищал, а через пару секунд Светка покачала перед его лицом отрезанным, скрюченным пальцем. Певуче протянула:
– Фак юшечки-и-и…
Кусачки с бряканьем упали обратно в таз, а сводная сестра достала канцелярский нож. Медленно выдвинула лезвие на пару делений, и Тягачев почувствовал прикосновение острия к верхней губе – пока еще легкое, безболезненное. Другая ладонь легла на лоб, надавила, фиксируя.
– С наступающим, братишка. Да, порадуй меня напоследок – пищи погромче.
Боль вгрызлась в десну, поползла вправо. Светка медленно отреза́ла Тарасу губу, зрачки сводной сестры были расширены, как у наркомана под кайфом. Тягачев закрыл глаза, сжал зубы и терпел назло Светке, глухо мыча в бешеной надежде, что вот-вот придет беспамятство или сердце не выдержит и остановится прежде, чем он покажет, как ему больно…
Светка замерла, не закончив начатое. В ее глазах бушевали ярость и досада. Она отбросила нож, сжала отрезанную на две трети губу пальцами и потянула на отрыв, пристально глядя Тягачеву в лицо.
– Пищи, тварь!
И он запищал – обреченно, исступленно…
Назад: Игорь Кременцов Большая стирка
Дальше: Елена Щетинина Мать сырой земли

