Илья Новиков,
старший партнер юридического бюро «Гончарова, Новиков и партнеры»
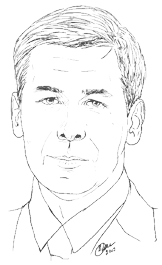
— Лето 2019 г. – это начало чрезвычайного правосудия?
— Странный вопрос. Вообще, оно у нас чрезвычайное довольно давно по общечеловеческим меркам, а если рассуждать о том, новый ли это уровень чрезвычайности, то я пока ответа не знаю. Первая ласточка того, чего не было раньше, – скорострельное дело Котова. До сих пор все было в том же режиме, что и последние несколько лет, но посмотрим. От того, как повернется дело по статье 212 УК РФ, наверное, будет многое зависеть.
— А как оно повернется?
— Мне пока кажется, что мы не прошли точку невозврата. Мы все еще можем отыграть назад, в частности, например, дело Дмитрия Васильева. Дело прекратили, отыграли назад, по крайней мере по тому, что известно сейчас. Да, видно, что у Бастрыкина заиграла боевая труба, видно, что ему хочется вернуть свой 2012 год, все это еще раз пройти. Я не уверен, что сможет. Время прошло, он уже сильно старше, Путин сильно старше, уже поэтому, возможно, некоторые вещи, которые Бастрыкин планирует, у него не получатся. Если они получатся, значит, будет немного другая ситуация.
— Я как бывший следователь в делах, которые расследуются быстро, ничего плохого не вижу. Другое дело, возможно ли вообще за трое суток, за неделю соблюсти право на защиту?
— Нет, про соблюдение права на защиту здесь никто не говорит изначально. И вообще, мне не очень нравится выражение «соблюсти право на защиту». У нас суд соблюдает право на защиту, когда ему привозят избитого человека, а судью интересует только, вручили ли тому обвинительное заключение за семь суток. Вот это – соблюдение права на защиту. Мне кажется, что в приоритете должна быть защита человека. Возвращаясь к теме скороспелого следствия в нынешнем понимании – следствия, долгие годы все больше и больше сползавшего в избыточность следственных действий. По стандартам, сложившимся за последние годы, никакого быстрого следствия быть не может. Первое допущение, которое нужно сделать, оценивая скорость направления дел лета 2019-го в суд – это то, что силовики отказываются от своих стандартов. Второе – то, что не будет удовлетворено никакое ходатайство защиты. Третье – то, что защиту будут насиловать на тему сроков ознакомления с делом по окончании расследования, чтобы само дело скорее запихнуть в суд. Да, это будет действительно чрезвычайщина по сравнению с тем, что происходит сейчас. По отдельности мы наблюдали это в самых разных делах, просто не было настолько плотной концентрации бессмысленности и пренебрежения процессуальными правами, как сейчас. В принципе это не инновация.
— Очевидно, главное, что присуще чрезвычайному правосудию, – абсолютное и нескрываемое подчинение суда какому-то неведомому центру управления. Согласись, судьи встали во фрунт.
— Судьи во фрунте стоят очень давно. Для меня гораздо более показательным в этом году было дело украинских моряков, именно за счет того, что их много. В обычных случаях не так бросается в глаза системность формального судейского подхода, но в деле моряков, где невозможно рассматривать продление срока содержания под стражей одним судьей в одном зале, их вынуждены были делить сначала на четверки, потом на шестерки. И эти четверки и шестерки рассматривались не синхронно, а последовательно. И мы видели на 32 судебных заседаниях, как полтора десятка разных судей в Лефортовском суде и в Мосгорсуде ведут себя совершенно одинаково. Эта история тоже о многом говорит.
— По поводу украинских моряков – скажи, пожалуйста, зачем вообще это нужно было России?
— России это в принципе не нужно. Решение принимал начальник на месте. Когда украинцы только подошли к российской морской границе и связались с портом Кавказ, им совершенно спокойно ответили, что заявку приняли, пристраивайтесь в конец очереди на проход, там были в основном гражданские суда самых разных флагов. Только спустя некоторое время пограничники поняли, что это военные суда. Писавшие рапорты и дававшие показания российские пограничники, естественно, не говорят, что прошляпили эту ситуацию. По их утверждениям, они все эти корабли видели задолго до того, как те появились, но, поскольку в действительности это было не так, у них ничего не сходится. Вышли на связь с украинскими кораблями, стали им что-то сбивчиво говорить насчет того, что там – закрытый район, а по системе автоматической навигации этого сообщения не было, и начали импровизировать. Ситуация развивалась так, что украинцев сначала не пускали от условной границы в сторону пролива, они как-то уклонились и дошли до куска моря, который называется «Якорная стоянка 471» – места, где все ждут лоцмана. Украинцы постоянно передавали, что хотят лоцмана, русские отвечали: «Вы нарушили границу», – вот этот невнятный обмен сообщениями длился до наступления темноты. А с наступлением темноты, когда украинцы получили приказ возвращаться, они пошли назад, и вот тут-то по ним и стали стрелять. Я считаю, что за стрельбу отвечает конкретный человек, вице-адмирал Медведев, начальник береговой охраны. Но с того момента, как стрельбу открыли и корабли захватили, поскольку действует правило «ни шагу назад», это стало политикой России. Если бы моряков отпустили, была бы политика России такая, что Россия миролюбива, но так как их обстреляли, политика стала такая, что Россия не идет на компромисс в том, что касается границы. Любому сценарию всегда находится объяснение постфактум: мол, это единственный возможный вариант, у нас принята такая система действий в любых ситуациях. Оказалось, что принимал решение адмирал, стрелял какой-то лейтенант, а в итоге все это стало личной темой Путина. Притом что никаких плюсов Россия из этого заведомо не могла извлечь, минусы постепенно копятся, с месяца на месяц уже будет решение Гаагского трибунала по существу, придется платить, пока непонятно сколько. Ни единого плюса из этой истории извлечь нельзя. Тем не менее, поскольку действует принцип, что мы никогда не ошибаемся, сейчас мы находимся в той же точке.
— Весь мир говорит о том, что российские военные корабли стреляли по украинским военным кораблям. То есть это – военный конфликт.
— Да, а почему это не должно быть так?
— Согласен, но что мы имеем? Внутри одной страны – России – формируется иная точка зрения: что это пересечение границ, уголовное преступление, но не военный конфликт. Скажи, для кого это мнение создается? Для нас? Оно же не для внешнего потребления.
— Нет, я это расцениваю несколько иначе. Для России это вообще не входит в повестку дня, это проблема для Украины. В российских СМИ если эта тема всплывает, то со словом «Путин». «К Путину обратились по поводу украинских моряков» – это новость. То, что там происходит у самих моряков, не новость. Так устроена эта повестка, что на самом деле никаких отдельных объяснений на этот счет не требуется. Если кто-то сидит, то в принципе всех это устраивает. Тем не менее люди вроде той же Захаровой считают себя наследниками Громыко, им нравится думать, что у них есть какая-то юридически обоснованная точка зрения, что якобы нарушение правил запроса лоцмана аннулирует право мирного прохода. С точки зрения международного морского права это бред.
Путин считает себя юристом и почти всегда имеет позицию в каждом случае, когда его тыкают в какую-нибудь гадость, которую он сделал или собирается сделать. Он так и говорит: «Нет, у нас есть правовая позиция». И он всегда прав при этом, уникальное свойство: человек никогда не ошибается и не признает своих ошибок. В данном случае историю с украинскими моряками решили объяснить так. Я думаю, что в первую очередь Путин таким образом объясняет сам себе, затем – версия МИДа, а что думают россияне, я бы сказал, дело десятое. И россиянам в целом все равно, и власти все равно, это не горячая тема.
— Правовая позиция Путина, правовая позиция нашей правоохранительной системы, наше правоприменение упорно идут вразрез с позициями ЕСПЧ, с международными обязательствами России, Конституцией России. Когда это закончится?
— В свое время я работал в Академии правосудия при Верховном суде на кафедре уголовного процесса, которая была неким подсобным хозяйством Верховного суда для написания разных бумаг. Нам периодически присылали какое-нибудь письмо из Страсбурга, например, о том, что Комитет министров Совета Европы обращает внимание высоких сторон на то-то и то-то. Нам предлагалось помочь Верховному суду ответить на это так: «Да, мы приняли позицию к сведению, вы абсолютно правы, но у нас в России есть своя специфика». И эта переписка, которая шла годами, всех устраивала, никакого понимания, что нам дают ценные рекомендации, нет. Есть понимание, что это – досадная помеха. Раз начальство из ЕСПЧ не выходит, значит, надо соблюдать, но соблюдать ровно настолько, насколько нужно, чтобы от нас отстали. Я не вижу, почему при таком подходе, при этих людях все может кончиться. Другое дело, что человек смертен, и порой внезапно смертен. Вот у нас Лебедев празднует свой 30-летний юбилей в должности, рано или поздно это закончится, скорее рано. В прошлом году было замечательное фото, на нем возлагали венки к Вечному огню и все наше начальство попало под тропический ливень. Там – взъерошенный Путин, взъерошенный Медведев и такой же Лебедев. Он, видимо, человек железного здоровья и железного желания оставаться на своем месте, но рано или поздно уйдет и он. Уйдет Лебедев, уйдет Путин, что-то выровняется. Наверное, это самый прямой путь, потому что, как может выровняться при них, я не представляю.
— Я тоже. Самое неприятное, с чем постоянно сталкиваешься, то, что люди, которые пришли в суд в 2000-х гг., – бывшие прокуроры, адвокаты, имели свое мнение, пока были прокурорами и адвокатами, но, оказавшись в судебной системе, встроились в нее и стали элементами конвейера.
— Я этого не застал. Я учился в той самой Академии правосудия, в которой потом работал, у меня половина курса были дети судей, и их карьерный путь был абсолютно прямой, расписан на годы вперед. Мейнстрим для них – место помощника специалиста в суде. Потом те, у кого родители должностью повыше, идут сразу в районный суд, у кого поменьше – в мировые судьи, спустя шесть–восемь лет ты уже судья и растешь как судья.
— Возвращаясь к украинским морякам, парни сами понимали, на что они идут?
— Нет, для них это был вполне рутинный перегон плавательного средства из точки А в точку Б.
— То есть здесь не срабатывает та версия, что они сознательно шли на провокацию по приказу Порошенко?
— Нет, это была вполне рутинная история, потому что там были постоянные экипажи, а истории с провокацией требуют камикадзе. Но украинцы достойно держатся, к ним особое отношение; притом что места в Лефортово – крайне дефицитный ресурс, под моряков расчистили 24 койко-места, которые нужны были для всяких террористов, шпионов, генералов. Давление на ребят ограничивается такими вещами, как отказ в разрешении на звонки. Такого, что применяются зверства первой категории, нет.
— С Савченко было жестче?
— Нет, с ней было тоже мягко, потому что она женщина. Жесткие варианты были у других украинцев, но про это я не буду говорить, потому что прямо сейчас может готовиться какое-то освобождение.
— Я очень пристально смотрел, как ты и Петр Заикин работали по делу Оюба Титиева, я считаю, что ваша работа и результаты блестящие. Скажи, ты ощущал как-то на себе особое отношение кавказских силовиков? Спрашиваю только потому, что недавно общался со своим знакомым из Чеченского МВД и, когда зашла речь о деле Оюба Титиева, он упомянул тебя и Петра, назвал вас мужчинами. Это серьезно очень, такое услышать.
— Нет, не ощущал никак. Местные адвокаты просто были вынуждены уехать оттуда в целях безопасности. В ОВД Чечни работают разные люди, в том числе полные отморозки. Я не знаю, по какой линии это решалось и кто это решал, но в отношении нас ничего не было. Может, к этому времени уже созрело понимание, что процесс будет публичный, выставочный и там должно быть все чистенько. Может, нам повезло. То же самое касается и прошлого моего дела, когда я работал в Чечне, дела Карпюка. Вплоть до самого последнего дня, когда Грозный выдал злой сюжет о том, что это украинские убийцы, а мы их адвокаты. Вообще Чечня – место очень тонкое. Многие вещи, о которых ты не думаешь в Центральной России, играют там очень важную роль. Я не считаю себя компетентным, хотя работал там год по этому делу и год по прошлому.
— Оюб будет продолжать свою деятельность?
— Он ее продолжает. Сейчас он живет в Москве, я не слышал от него, что он собирается возвращаться. Титиев работает в «Мемориале» и, насколько я понимаю, уходить оттуда не собирается.
— Встречаются ли тебе люди, которые, попав, так скажем, на централ в изолятор, сначала убеждены, что они политические заключенные и будут продолжать свою деятельность, но потом ломаются и говорят, что больше этим заниматься не станут?
— У меня не так много идейных политических активистов среди клиентов, можно насчитать сколько-то, но подобной ситуации вспомнить не могу. Был анархист Бученков, который героической отсидке предпочел политическое убежище в Литве и успешно скрылся из-под домашнего ареста, но его за это трудно осуждать, он до этого отсидел 2,5 года. Были разные случайные ребята, которые никогда не были идейными, но попали под раздачу. Но вот сейчас у меня дело Егора Жукова, которого все считают активистом, хотя он просто блогер. Посмотрим, как у него будет развиваться ситуация.
— Это дело по статье 212 УК РФ интересно мне тем, что оно классический пример интеллектуального подлога, нет ведь ничего похожего на массовые беспорядки, поджоги, погромы, не достигнуты пределы общественной опасности, нет вооруженного насилия, но дело есть. Как они рождаются, такие дела?
— По-разному. Конкретно это дело родилось из прихоти лично Бастрыкина, я убежден. Это маркируется многими вещами: составом следственной группы, скоростью принятия решения и так далее. У Бастрыкина «болотное дело» получилось очень хорошим и положительным опытом. Габдулин, который начинал «болотное дело», был подполковником и дорос до генерал-майора. Все участвовавшие так или иначе получили какие-то фантики, сам Бастрыкин тоже отличился. В чем, с его точки зрения, особенность ситуации? В зоне ответственности ведомства. Вот Росгвардия на августовских событиях отличилась, они молодцы, побили много народу. Полиция тоже отличилась, она в автозаках перевезла много народу. Судьи, может быть, не стремились отличиться, но показали должный уровень лояльности, быстро назначали дела, быстро отписывали и так далее. Следственный комитет при нормальном развитии событий отличиться не мог ничем. У них были похожие поползновения в 2018 г., когда они брали видеозаписи и просматривали их сплошняком, выискивая удары по полицейским, которые сами полицейские не заметили. Было у меня одно такое дело, фигуранта звали Дмитрий Борисов. Ему присудили заочно штраф 10 000 рублей, он не явился в суд, спустя три месяца к нему приехали с обыском и спецназом. Почему? Потому что какой-то глазастый опер увидел, что он там как-то дернул рукой и эта рука пришлась в каску полицейского. Сам полицейский думать забыл, оттащил его в автозак и пошел брать следующего. Полицейский в свой день рождения едет и дает показания, что претерпел страдания. Понятно, что Бастрыкин ищет повод отличиться на должном уровне масштаба. Да, ему хотелось сделать «болотку» из митингов 2017 г., не срослось. Пытался и до, и после. Это тот случай, когда ему не сказали «стоп». Он уцепился за это как за шанс, организовал сначала группу из 80 следователей московского управления, потом это передается в центральный аппарат, людям, занимавшимся «болотным делом». Если не делать статью 212 УК РФ, то не получается подвигов Следственного комитета.
— В 2016 г. я встретил бывшего сотрудника «Беркута», молодого парня, жителя Симферополя. В 2014-м он стоял в Киеве в оцеплении, а после присоединения Крыма попал по статье 228 УК РФ в колонию в Тагиле. Я спросил у него, поменялось ли что-то в его голове, после того как они разгоняли людей на Майдане. Он ответил, что нет. Я спросил: «Ты сейчас бы что сделал?» Он ответил, что стрелял бы. Сказал, что, если бы дали приказ, он бы зачистил. Как ты думаешь, полицейские и нацгвардейцы образца лета 2019-го такие же?
— По-разному. Люди разные. Возможно, если бы дали такой приказ, этот человек бы был уже убит. А так у него есть какое-то будущее.
— Ты думаешь силовые акции в Киеве не сработали бы? Вот если бы дали приказ зачистить?
— Непонятно. Это вещи, которые легко начать и очень трудно закончить. Не так может пойти очень многое. Собственно, как закончился Янукович? Просто в какой-то момент какой-то полковник или майор, командовавший бойцами, которые охраняли администрацию президента, дал команду и они уехали. Есть разные версии. Достаточно одного мелкого подразделения, действующего не так, как ему приказали, и ситуация полностью выходит из-под контроля. Да, больше шансов, наверное, на то, что у них получилось бы разогнать, но это не значит, что так и было бы.
— Все ссылаются на кого-то сверху. И я не могу понять: где центр принятия окончательных решений? На каком этапе эти идеи зарождаются?
— А его нет. Это работает довольно прозрачным способом. Есть вещи, на которые спрос у высокого начальства, есть лимит безобразий, который отдается на усмотрение следующего уровня. И так происходит на каждом уровне. То есть, скажем, в нашем случае есть Бастрыкин, которому интересно играть в «болотное дело», и поэтому 80 следователей играют в «болотное дело», – и есть его начальник, которого поймали на взятке и который сейчас сидит.
— Почему ты не стал судьей? На мой взгляд, ты прирожденный судья.
— Все просто, я никогда этого не хотел. Я хотел стать ровно тем, кем являюсь – адвокатом, я им стал.
Назад: Ирина Бирюкова,
Дальше: Часть III Рекомендации

