Встреча в холле
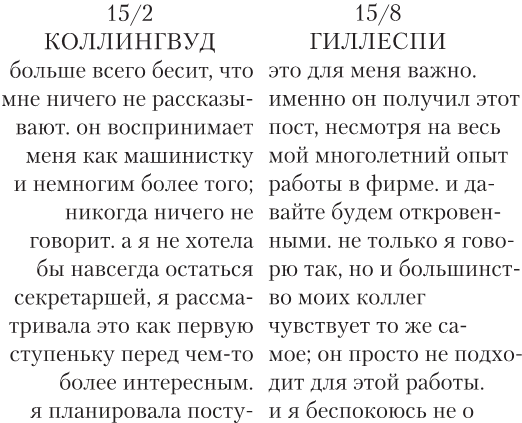
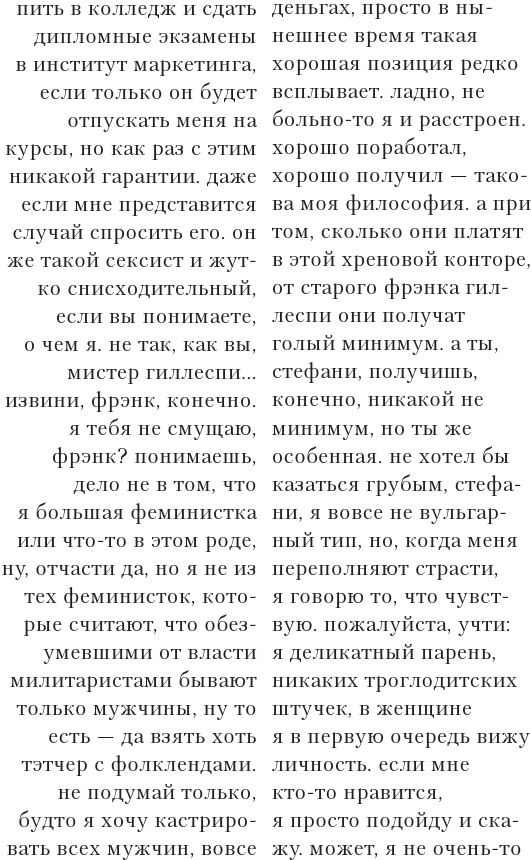
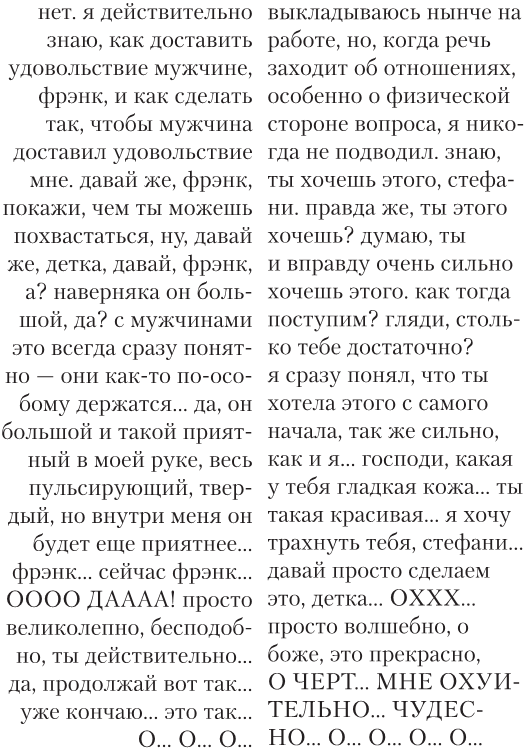
Стефани лежала голая на кровати, наслаждаясь кратким мигом удовлетворения. Это быстро пройдет; она знала, что скоро в ее сердце опять поселится пустота, скоро вернется прежнее напряжение и подавленность. Ее чувство собственного достоинства начало крошиться по краям, как поврежденная дамба. Она извлекла мокрый от ее соков вибратор, заставила себя встать с постели и направилась в ванную.
Фрэнк глядел на сдувающуюся пластиковую куклу, чья латексная вагина была заполнена его спермой. Кукла опадала как будто одновременно с его эрекцией. Его гениталии выглядели как нечто уродливое, неудобоваримое, инопланетное, не имевшее к нему никакого отношения. Кукла теперь выглядела такой, как есть: кусок пластика, присобаченный к гротескной голове манекена.
Позже тем вечером Стефани столкнулась с Фрэнком у лифта. Она в одиночестве шла посмотреть артхаусный фильм. Он возвращался из китайской закусочной с какой-то едой. Они покраснели, узнав друг друга, затем он смущенно улыбнулся ей, и она застенчиво ответила тем же. Он прокашлялся, прежде чем заговорить.
– На улице дождь, – с неловкостью прошепелявил он.
– Неужели? – неуверенно отозвалась Стефани.
– Довольно сильный, – пролепетал Фрэнк.
Они стояли, глядя друг другу в лицо мучительные несколько секунд, оба потерявшие дар речи. Затем с напряженной синхронностью улыбнулись, и Фрэнк скрылся в своей квартире, а Стефани двинулась к лифту. Не видя теперь друг друга, оба напряглись, словно пытаясь подавить спазм этой пульсирующей боли, ненависти к себе и смущения.
Мама Лайзы встречает королеву-мать
Я так волновалась, когда мы встречали королеву-мать; о, это было изумительно! Но потом я готова была от стыда сквозь землю провалиться, а все моя малютка Лайза виновата. Просто катастрофа. Ну да откуда Лайзе понять. Я всегда убеждала ее говорить правду: правду, и только правду, мадам, твердила я ей. Ну, ведь никогда на самом деле не знаешь, что им говорить в наши дни, верно?
Королева-мать должна была прибыть в Илфорд, чтобы открыть Лайзину новую начальную школу. Местный член парламента тоже собирался присутствовать. Мы чуть не умерли, когда Лайзу выбрали, чтобы преподнести королеве-матери букет цветов. Я все время заставляла Лайзу упражняться в реверансах. Кто бы к нам ни приходил, я тут же говорила: покажи мамочке свой реверанс, Лайза, тот самый, который ты собираешься сделать для матушки-королевы…
Потому что она действительно очаровательна, королева-мать, правда? По-настоящему, действительно, в самом деле, несомненно очаровательна. Мы так волновались, как никогда в жизни. Моя мама вспоминала, как встречалась с королевой-матерью на «Фестивале Британии». Она и в самом деле очаровательна, изумительна для своего возраста; в смысле, королева-мать, а не моя мама. Конечно, моя мама – настоящее сокровище, не знаю, что бы я делала без нее, после того как меня бросил Дерек. Да, я не променяла бы мою маму на всех королев-матерей в мире!
В общем, миссис Кент, это Лайзина директриса, сказала мне, что будет очаровательно, если Лайза преподнесет королеве-матери букет. Моя подруга Анджела начала вести себя со мной странно натянуто, потому что ее дочку Шинед не выбрали. Я полагаю, что вела бы себя точно так же, если бы все сложилось наоборот и Шинед выбрали бы вместо Лайзы. Это все-таки королева-мать. А такое не каждый день происходит, верно?
Королева-мать выглядела действительно чудесно, в самом деле чудесно; на ней была такая замечательная шляпка! Я так гордилась Лайзой, я просто хотела сказать всему миру – вот моя дочка Лайза! Лайза Уэст, начальная школа Голф-роуд, Илфорд…
И Лайза протянула букет, но она не сделала красиво реверанс, как мы упражнялись, и получилось некрасиво и неправильно. Королева-мать взяла букет и наклонилась, чтобы поцеловать Лайзу, но та отвернулась, скривив гримасу, и побежала ко мне.
– У этой пожилой леди плохое дыхание, и от нее пахнет пи-пи, – сказала мне Лайза.
Это произошло напротив всех других мам, и миссис Кент, и миссис Фрай, и всех прочих. Миссис Фрай была крайне расстроена.
– Ты скверная маленькая девочка Лайза! Мамочка так сердита, – сказала я ей.
И заметила, как моя подруга Анджела ухмыльнулась уголком рта, гнусная корова.
Но все же она улыбалась другой частью лица, когда миссис Кент подвела меня к королеве-матери и представила как маму Лайзы! Королева-мать была очаровательна.
– Приятно встретиться с вами снова, мистер Чемберлен, – сказала она мне.
Бедная старушка, должно быть, немного попуталась, ведь скольких людей она все время встречает. Настоящая труженица, да-да. Не то что некоторые, например Дерек, отец Лайзы. Впрочем, не собираюсь прямо сейчас вдаваться в подробности, благодарю покорно.
Случилась еще одна неприятность – Лайза умудрилась посадить пятно на платьице, прямо спереди. Надеюсь, что королева-мать не заметила. «Ну подожди, пока я не отведу тебя домой, мадам», – думала я. Ох, я была так сердита. Действительно, в самом деле, несомненно сердита.
Два философа
«Чертовски жарко для Глазго», – подумал обливающийся потом Лу Орнштейн, входя в гостиницу на Байрес-роуд. Гас Макглоун уже сидел там в баре, болтая с какой-то девушкой.
– Гас, как дела? – спросил Орнштейн, хлопнув друга по плечу.
– Ах, Лу. Прекрасно, разумеется. Сам как?
– Отлично, – сказал Орнштейн, заметив, что внимание Макглоуна по-прежнему сосредоточено на его собеседнице.
Девушка прошептала что-то Макглоуну и одарила Орнштейна ослепительной улыбкой, пронзившей его насквозь.
– Профессор Орнштейн, – начала она с шотландским акцентом, который он всегда находил столь привлекательным, – прошу прощения за лесть, но я хотела сказать, что ваша статья о рациональном истолковании чудес просто превосходна.
– Что же, благодарю вас. Готов увидеть в этом комплименте не лесть, но честное научное восхищение, – улыбнулся Орнштейн. И подумал, что похож на застенчивого ученого сухаря, но, черт побери, он же и есть ученый.
– Я нахожу вашу центральную гипотезу интересной, – продолжила девушка, и тут Орнштейн почувствовал, как в его груди выкристаллизовывается небольшой сгусток возмущения; в этот день он собирался пить пиво, а не вести вынужденный семинар с одной из наивных студенток Гаса. А та, не замечая его растущей неловкости, продолжала: – Скажите, если вам не трудно, как вы различаете между этой вашей «неизвестной наукой» и тем, что мы обычно называем чудом?
«А вот и трудно, черт возьми», – подумал Орнштейн. Красивые молодые женщины все одинаковы; абсолютно навязчивы и самоуверенны. Он-то заслужил право быть самоуверенным – долгие годы упорно просиживал по библиотекам и заискивал перед правильными людьми, обычно мерзавцами, на которых ты даже ссать не будешь, если они окажутся в огне. И вот появляется какая-то девятнадцатилетняя студенточка, заслуживающая в лучшем случае диплома с минимальным отличием, и думает, что ее мнение кому-то интересно, поскольку у нее смазливое личико и дивная богоданная задница. «И самое ужасное, – думал Орнштейн, – самое худшее в том, что она абсолютно права».
– Он не может, – самодовольно бросил Макглоун.
Вмешательства его старого соперника было достаточно, чтобы Орнштейн вскочил на любимого конька. Отхлебнув от первой пинты «восьмидесяти шиллингов», он начал:
– Не слушайте этого старого циника-попперианца. Такие, как он, представляют антисоциальную науку, то есть антинауку, и с каждым поколением эти парни дальше и дальше впадают в детство со своим анализом. Я же исхожу из довольно стандартного материалистического посыла: так называемые необъяснимые явления – это просто научные слепые пятна. Надо принять логически непротиворечивую концепцию того, что существуют области знания за пределами того, что мы сознательно или даже подсознательно знаем. Человеческая история служит тому иллюстрацией; наши предки описали бы солнце или двигатель внутреннего сгорания как чудо, но ведь ничего чудесного в них нет. Магия, призраки и тому подобное – это просто фокус-покус, чушь для невежд, тогда как неизвестная наука – это феномены, которые мы способны или не способны наблюдать, но еще не можем объяснить. И это не означает, что они необъяснимы в принципе, просто нашего нынешнего объема знаний для этого не хватает. А объем этот постоянно расширяется, и когда-нибудь мы сумеем объяснить неизвестную науку.
– Не надо было его заводить, Фиона, – улыбнулся Макглоун, – теперь он целый вечер будет разливаться.
– Не буду, если ты первым не начнешь. Вдалбливаешь своим студентам учение попперианских ортодоксов.
– Вдалбливают наши оппоненты, Лу. Мы обучаем, – снова усмехнулся Макглоун.
Два философа рассмеялись над старой шуткой из студенческих дней. Фиона, молодая студентка, извинилась и собралась уходить. Ей надо было успеть на лекцию. Два философа наблюдали, как она выходит из бара.
– Одна из моих красивейших выпускниц, – ухмыльнулся Макглоун.
– Потрясающая задница, – кивнул Орнштейн.
Они перешли в укромный уголок паба. Лу сделал большой глоток пива.
– Рад снова тебя видеть, Гас. Но послушай, дружище, давай договоримся. Меня уже достало, что мы зациклились на одном и том же споре. Можем талдычить каждый свое хоть до посинения, а толку ноль – каждый раз возвращаемся к полемике Поппера с Куном.
Макглоун мрачно кивнул:
– И не говори. Да, мы обязаны ей нашими карьерами, но дружба-то страдает. Вот сейчас только ты зашел – и снова здорово. Всегда одно и то же. Болтаем о твоей Мэри, моей Филиппе, детях, потом о работе, перемоем кости коллегам, но кружка-другая – и опять съезжаем к Попперу-Куну. Проблема в том, Лу, что мы философы. Дискутировать для нас так же естественно, как для остальных дышать.
Тут, конечно, и была собака зарыта. Они спорили друг с другом на протяжении долгих лет, в барах, на конференциях, на страницах философских журналов. Они начали этот спор еще на последнем курсе философского факультета в Кембридже, и дружба их основывалась на совместной выпивке и ухаживании за женщинами, причем первое происходило явно успешнее, чем второе.
Оба они плыли против основного идеологического течения в культуре своих стран. Шотландец Макглоун был приверженцем Консервативной партии. Он считал себя классическим либералом, в традиции Фергюсона с Юмом, хотя находил классических экономистов, даже Адама Смита и его поздних последователей с философским уклоном, таких как Хайек и Фридман, немного пресноватыми. Его настоящим героем был Карл Поппер, у которого он учился еще аспирантом в Лондоне. Как последователь Поппера, он противостоял детерминистским теориям марксизма и фрейдизма и всем сопутствующим догмам их последователей.
Американец Лу Орнштейн, родившийся в еврейской семье в Чикаго, был убежденным рационалистом, верившим в марксистский диалектический материализм. Его интересовали наука и научные идеи. Огромное влияние на него оказала сформулированная Томасом Куном концепция того, что правота чистой науки не обязательно превалирует. Если идеи противоречат текущей парадигме, они будут отвергнуты в силу тех или иных корыстных интересов. Такие идеи, пусть даже являющие собой научные «истины», редко становятся общепризнанными до тех пор, пока давление не превысит некоего критического порога и не произойдет сдвиг парадигмы. Орнштейн полагал, что эта концепция согласуется с его политической верой в необходимость революционных социальных перемен.
У Орнштейна и Макглоуна карьеры развивались параллельно. Они работали вместе в Лондоне, затем один в Эдинбурге, другой в Глазго. Макглоун получил профессорское кресло на восемь месяцев раньше Орнштейна. Это раздражало американца, видевшего в возвышении друга политическую конъюнктуру: его идеи были явно востребованы при тэтчерской парадигме. Орнштейн утешал себя тем, что у него гораздо более внушительный список опубликованных работ.
Фокусом их естественного политического антагонизма стал знаменитый спор между Куном и Поппером. Поппер, упрочивший свою репутацию великого философа нападками на подходы интеллектуальных гигантов девятнадцатого века Зигмунда Фрейда и Карла Маркса и на то, что он рассматривал как слепую приверженность их идеологиям, отреагировал довольно эмоционально, когда был, в свою очередь, атакован Томасом Куном, подвергшим критике его взгляды на научный прогресс в своей основополагающей работе «Структура научных революций».
И по-прежнему единственное, насчет чего соглашались как Орнштейн, так и Макглоун: спор, бывший их хлебом с маслом, всегда переходил с профессионального на личное. Они испробовали всевозможные способы переломить эту привычку, но ничто не могло помешать столь утомительному предмету всплывать вновь и вновь. В паре случаев друзья, выведенные из себя и пьяные, едва не набили друг другу морду.
– Вот бы найти какой-нибудь способ оставить этот спор журналам и конференциям, а чтобы на пьянках-гулянках ни-ни, – задумчиво проговорил Лу.
– Да, но как? Мы все испробовали. Я пытался использовать твои доводы, ты пытался использовать мои; мы уславливались не говорить ничего, и все равно это всплывало, как подводная лодка. Что мы еще можем сделать?
– Кажется, я придумал, как выбраться из этого тупика, Гас, – хитро покосился на него Лу.
– Что ты предлагаешь?
– Независимый арбитраж.
– Брось, Лу. Ни один философ, ни один член нашего круга не может считаться достаточно непредвзятым. У каждого из них уже сформировано то или иное предварительное мнение по этому предмету.
– Я не предлагаю наш круг. Я предлагаю найти кого-то на улице или еще лучше – в пабе. Мы изложим наши позиции, а человек пусть сам решает, чьи доводы убедительнее.
– Нелепо!
– Подожди, Гас, выслушай. Я вовсе не предлагаю, чтобы мы отступились от наших академических мнений, взяв за основу один информированный источник. Это будет смехотворно.
– Что же ты предлагаешь?
– Я предлагаю отделить профессиональное от личного. Давай вынесем спор из нашего социального контекста, и пусть другая сторона судит об относительных достоинствах наших утверждений с чисто общественной, пабовой точки зрения. Это ничего не докажет академически, но, по крайней мере, позволит нам увидеть, чья аргументация звучит доходчивее для среднего человека с улицы.
– Ммммм… То есть мы предполагаем, что наши различные доводы имеют плюсы и минусы для неспециалиста…
– Точно. Пусть эти идеи пройдут проверку реальным миром, где обычно не обсуждаются, миром нашего пьянства. И пусть идеи победителя возьмут верх в контексте паба.
– Это чушь, Лу, но это интересная чушь и хорошее развлечение. Я принимаю твой вызов не потому, что это подтвердит что-либо, но потому, что это заставит неудачника заткнуться о научном, логически обоснованном споре.
Они решительно пожали друг другу руки. Орнштейн повел Макглоуна в подземку на станцию «Хиллхед».
– Здесь слишком много студентов и интеллигенции, Гас. Еще чего не хватало – затевать дискуссию с каким-нибудь писклявым мудачком-выпускником. Для этого эксперимента нам нужна лаборатория получше.
Гас Макглоун почувствовал определенную неловкость, когда они вышли в Говэне. Невзирая на тип рубахи-парня из Глазго, который он культивировал, Гас был на самом деле выходцем из Ньютон-Мирнс и вел довольно кабинетную жизнь. Дурачить впечатлительных буржуа-преподавателей в университетских курилках и щеголять там крутизной было просто. Но в таких местах, как Говэн, это было уже совсем другое дело.
Лу стремительно шагал по улице. Район этот, с мешаниной традиционного и нового и с огромными пустырями, напоминал ему еврейско-ирландские кварталы чикагского Норт-Сайда, где он вырос. Гас Макглоун вразвалочку шел сзади, изображая непринужденность, которой вовсе не чувствовал. Орнштейн остановил на улице пожилую женщину:
– Извините, мэм, не могли бы вы нам сказать, где ближайший паб?
Невысокая женщина опустила свою хозяйственную сумку, повернулась и указала через дорогу:
– Ты почти пришел, сынок.
– «Бречинс-бар»! Отлично, – возликовал Лу.
– Это «Брикинс-бар», а не «Бретчинс», – поправил его Гас.
– Как в Бречин-Сити, правильно? «Бречин-Сити», два, «Форфар», один, да?
– Да.
– Так что парни, которые пьют здесь, должны болеть за «Бречин-Сити».
– Я так не думаю, – сказал Гас, когда двое мужчин в голубых шарфах вышли из бара.
Сегодня была большая игра на «Айброксе»: «Рейнджерс» против «Селтика». Даже Макглоун, мало интересовавшийся футболом, знал это.
Они вошли внутрь. К барной стойке, покрытой огнеупорным пластиком, было не протолкнуться; одни компании мужчин смотрели телевизор, другие играли в домино. Женщин здесь было только две: барменша неопределенного среднего возраста и слюнявая старая алкоголичка. Группа молодежи в голубых шарфах пела песню о чем-то, что носили их отцы, и Лу не мог толком ее разобрать.
– Это что, шотландская футбольная песня? – спросил он Гаса.
– Типа того, – неловко отозвался Гас, беря две пинты; они присели рядом с двумя стариками, игравшими в домино.
– Все в порядке, мальчики? – улыбнулся один из стариков.
– Да, конечно, приятель, – кивнул Орнштейн.
– Вы не местные, – хохотнул старик, и они завязали разговор.
Один из старых доминошников оказался особенно разговорчивым и как будто имел свое мнение абсолютно по всем вопросам. Два философа с заговорщицким видом кивнули друг другу: это был их человек. Они предъявили аргументацию, каждый свою.
Два старика внимательно их выслушали.
– Похоже, мальчик хочет сказать, – начал один, – что в мире есть куча всего, чего мы не знаем.
– Это только названия, – сказал другой. – Магия, наука – да какая, на хрен, разница? Это просто слова!
Завязался спор, становившийся по мере употребления выпивки все более яростным. Философы почувствовали легкое опьянение и в выражениях уже не стеснялись. Они едва ли осознавали, что их дискуссия привлекла зрителей: молодые парни, разодетые в синее, красное и белое, окружили стол.
Атмосфера постепенно накалялась: в ожидании матча молодежь накачивалась пивом и становилась все агрессивнее. Один жирный юнец в голубой футболке вмешался в перепалку. От него так и веяло угрозой, и философы занервничали.
– Чё, мудаки? Завалили сюда с этим вашим дерьмом и держите отцовского кореша, старого Томми, за ебаную обезьяну.
– Мальчики в порядке, мальчики в порядке, – завел тихую пьяную мантру старый Томми, но его никто не слышал.
– Нет-нет, – проговорил с дрожью в голосе Макглоун.
– Ты! Заткнись! – прорычал толстый юнец. – Вы заваливаете сюда с вашим идиотским базаром и так и не можете ни о чем договориться. Есть только один способ разрешить этот спор: вы двое выходите наружу махаться.
– Нелепость какая-то, – сказал Макглоун, крайне обеспокоенный меняющимися вибрациями.
Орнштейн пожал плечами. Он осознал, что какая-то часть его долгие годы хотела вмазать по самодовольной роже Макглоуна. Была эта девушка, в колледже Магдалины… Макглоун знал, что́ Лу испытывал по отношению к ней, и все равно… чертова жопа…
Толстый юнец принял движение Орнштейна за сигнал молчаливого согласия.
– Махач покажет, что к чему!
– Но…
Макглоуна силой подняли. Его и Орнштейна вывели на пустую парковку за торговым центром. Подростки в голубом взяли двух философов в кольцо.
Макглоун собирался заговорить, призвать к разумному и цивилизованному поведению, но в ужасе увидел, что профессор метафизики из Эдинбургского университета набросился на него. Орнштейн нанес первый удар, крепкий короткий прямой в подбородок Макглоуна.
– Давай, говнюк! – заорал он, принимая боксерскую стойку.
Макглоун, разъярившись, накинулся на старого приятеля, и вскоре два философа мутузили друг друга, понукаемые растущими рядами айброксовского футбольного хулиганья.
Орнштейн быстро взял верх. От мощного удара в живот классический либерал согнулся пополам. Затем Орнштейн врезал ему боковым в челюсть. Профессор из Глазго пошатнулся и рухнул. Его голова ударилась о булыжники с настолько резким стуком, что мгновенная смерть показалась бы предпочтительнее ряда альтернативных последствий, одно другого неприятнее. Чикагский материалист, подстрекаемый толпой, пнул распростертого классического либерала ботинком под ребра.
Лу Орнштейн отступил на шаг и осмотрел задыхающуюся, окровавленную фигуру Макглоуна. Орнштейн ни капли не стыдился, напротив, чувствовал себя как никогда превосходно. Во власти своего триумфа, он не сразу осознал, что толпа рассеялась и подъехал полицейский фургон. Когда Гас Макглоун нетвердо поднялся на ноги и стал подслеповато оглядываться, его бесцеремонно скрутили и зашвырнули в скотовозку.
Двух философов заперли по разным камерам.
Дежурный сержант, по своему обыкновению, опрашивал каждую компанию задержанных драчунов, кто из них «билли», а кто «тимы». Если рукопожатие было правильным, то он отпускал «билли» и гасил «тима». Таким образом, все были счастливы. «Билли» ощущали свое превосходство и впадали в заблуждение, что быть не посещающим церковь «протестантом» каким-то образом важно; «тимы» ощущали дискриминацию и лелеяли свою паранойю о масонском заговоре; сержант мудохал «тимов».
– За кого вписывался, приятель? – спросил дежурный сержант Фотерингем Макглоуна.
– Я ни за кого не вписывался. Я Ангус Макглоун, профессор этики в Университете Глазго.
Фотерингема передернуло. Еще один психопат, вышвырнутый из желтого дома на, прости господи, общинный уход.
– Ну да, сынок, разумеется, ты профессор, – сказал он с ободряющей улыбкой. – А знаешь, кто я такой?
– Нет… – неуверенно ответил Макглоун.
– Я – Дэвид Аттенборо. И мне приходится разбираться здесь с гнусными животными. Животными вроде тебя, терроризирующими людей…
– Глупый чертов дурак! Ты не знаешь, кто я такой! Я могу доставить тебе серьезные неприятности. Я заседаю в нескольких правительственных комитетах и назначен…
Макглоуну не суждено было закончить предложение. Его прервал еще один сильнейший удар в живот, потом его бросили в камеру, где и держали, пока не предъявили обвинение в нарушении общественного порядка.
Лу Орнштейну, который вел себя безукоризненно вежливо, полиция из-за его акцента поверила и отпустила из участка без предъявления каких-либо обвинений. Он направился к подземке. Он не знал раньше, что может так драться, и выяснил о себе что-то новое.
К нему подошел невысокий подросток:
– Я видел, как ты сегодня дрался, здоровяк. Натуральное чудо.
– Не чудо, – ответил Орнштейн, – а неизвестная наука.

