Николай Александров
О рыбе
Ты тварей в мире всех загадочней, краше…
Гр. Хвостов (?)
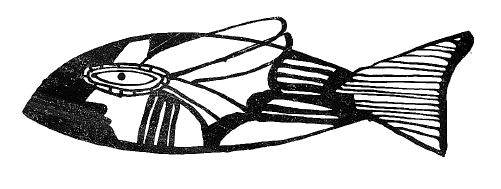
Сон, замедленный и плавный, с контурами чего-то неясного. Словно пятна на смутном фоне.
Или память о сне, или явь первых впечатлений, не удержавшихся на отчетливой поверхности сознания и ушедших дальше, в глубину, в область как будто бы бывшего, оставившего по себе лишь едва уловимый след, размытый акварельный набросок.
Наверное, это и была первая встреча с тобой.
Даже если это не так.
Потому что я хорошо, с фотографической яркостью помню, как рассматривал тебя, заключенную в целлофановый пакет, лежа на траве. И не мог оторваться, как бы впитывая в себя всё то, что излучало твое тело, – не тело, а перламутровая волна, гибкая и полная грации сила.
И серебристый блеск чешуи, и красные хвост и плавники, и красновато-рыжие глаза.
И называлась ты – плотва, что и плоть, и аква, и лов, и сплав…
Ты была единственной, пойманной в тот вечер. И не мной, а отцом. Потому что свою удочку я давно оставил, устав от тщетных ожиданий. И вот ты пришла.
А сон был позднее, кажется. И навеян был другим.
Летний детский сад, о котором остались какие-то блеклые воспоминания, выцветшие картинки. Самая отчетливая – как мы ловили шмелей. Шмеля накрывали ладонями, и он мягко жужжал внутри. И почему-то не кусался.
И еще на территории сада-лагеря был небольшой бассейн. Или фонтан. И в нем плавали рыбы. Кажется, тоже плотва.
Так вот, вполне возможно, ни фонтана, ни рыб в нем не было. Так ведь всегда бывает, когда обращаешься к образам детства, ко времени, памятью жизни еще не отягощенному.
Было или не было. Или привиделось. Или приснилось, или потом придумалось.
Я подхожу к каменному округлому низкому бортику и гляжу на рыбу, на ее неторопливые движения, темную спину и колыхания красных плавников. Слежу вожделенно, глазами рыболова, чувствуя восхищение и нарастающий зов, неукротимое желание – поймать. Может быть, это и стало началом.
Родители навестили меня в этом летнем лагере. Мы ходили на Москву-реку. Кажется, у отца были удочки. Но рыбалка была бесплодной. И в сознании осталось лишь – какой-то пустынный берег, серый день. Как будто и сама река пустая, и никого в ней нет. И еще родители уедут сегодня.
Но встреча состоялась, и связалось в душе – река, рыба и щемяще-острое предчувствие обладания этой неуловимой, ускользающей живой плотью, слитой с толщей воды.
Именно ускользающей. Ведь грезилась идеальная рыба. Понятно, что большая. Не белый кит, но все-таки. Однако дело не в этом. Рыба была многоликой.
Она распадалась на множество воплощений, и почти каждое было большей или меньшей частичкой чаемого идеала.
Ниже всех на этой воображаемой лестнице восхождения к абсолюту находился бычок (ротан). Черный с фиолетовыми пятнами или коричневато-серый, маленький, жадный и хищный – он был почти не рыбой. Его ловили на даче в прудах, и рыбалка превращалась в ребяческую забаву. И не было никакого таинства. С таким же успехом можно было охотиться на тритонов (чем-то очень похожих на бычков, между прочим), которых, во-первых, действительно ловили, которые, во-вторых, сами попадались на удочку, которые, в-третьих, уж точно не были рыбой.
Добытых тритонов держали некоторое время в банках, а потом отпускали.
Бычков отдавали кошке или жарили.
Бычок в этой странной иерархии был даже ниже гольца (или огольца), которого не стоит путать с благородным – поскольку из лососевых – красавцем гольцом, обитателем сибирских рек. Вот уж кто действительно – воплощенная мечта.
Нет, оголец, или усатый голец, или авдюшка, – из карповых, живет в озерах, тихих речках и прудах, на зиму зарывается в ил и размером не больше чем с ладошку. За огольцом, когда отец приезжал на дачу, мы ездили на станцию Радищево, на озеро в сосновом бору. У меня были одноколенная бамбуковая удочка и пластмассовый поплавок. Голец клевал хуже чем бычок и, как ни странно, именно поэтому казался в большей степени рыбой. Он был гладкий и скользкий, совсем не хищный, с маленькими усиками на грустной физиономии.
Его тоже жарили или отдавали кошке.
Голец водился и в Москве, на юго-западе, куда постепенно наступали хрущевские пятиэтажки и брежневские панельные дома, в Коньковских прудах, тогда окруженных яблоневыми садами.
А дальше по Калужскому шоссе, на Десне и ее притоках, жил пескарь.
На Десну от станции метро “Калужская” (тогда конечной) отправлялся автобус. В выходные рыболовы с зачехленными удочками и рюкзаками, мешаясь с дачниками и жителями Подмосковья, выстраивалась в очередь. Кондуктор с кожаной, звенящей мелочью сумкой через плечо и с гирляндой напечатанных черной, синей или красной краской – в зависимости от стоимости – билетиков на груди медленно продвигалась, проталкиваясь сквозь пассажиров, ловко отрывая билеты от маленьких рулончиков, и занимала свое место рядом с задней дверью. Как только мы выбирались из Москвы и проезжали Окружную дорогу, публика в салоне начинала редеть. К Десне становилось уже более или менее свободно. А вот вечером, когда та же толпа ехала обратно в Москву, в автобус было не сесть.
На Десне охотились за плотвой. Охотился в основном отец, а я, пережив радость свидания с речкой, выбора места, подготовки снастей, насадок, первого заброса и сладкого предчувствия чуда, то есть поклевки, спустя какое-то время уставал. Уставал от чарующего обещания, всё наполняющего, таящегося во всем: и в течении черной в солнечных бликах воды, и в тихих всплесках, и в качающихся ветвях склоненных ив. Сладость ожидания превращалась в муку нетерпения. В результате я обрывал крючок или запутывал удочку. И долго возился с бородой тонкой лески, с неизвестно как появившимися узлами и узелками. Сначала один, затем с помощью отца, когда отчаяние и обида преодолевали страх помешать его рыбалке. И потом уже просто смотрел, как он ловит, с надеждой на его удачу.
Улов, как правило, составлял несколько плотвичек, хотя, конечно, в Десне была не только плотва.
Как-то раз под вечер уже в самом конце рыбалки мы повстречали старичка с удочкой. Рядом с ним в алюминиевом бидоне плавали рыбки, мне показавшиеся большими. Впрочем, и отец заинтересовался. Оказалось, что дед ловит щуку на живца, а в бидоне у него пескарь.
– И где же такой пескарь водится? – спросил отец.
– А рядом, на Незнайке.
И мы стали ходить на Незнайку.
Чудесная, маленькая, веселая речка была. В петлях и извивах. С развитым меандрированием, по-научному говоря. С неожиданными мелями и омутами. Пескарь здесь брал исправно, и был он привлекательнее гольца, но целью все-таки был не он. А все та же плотва. Или голавль. Пескарь – компенсация.
Потом на Незнайке поставили плотину. В нижнем течении она обмелела. Ни плотвы, ни голавлей, ни пескарей…
О, эти речки Подмосковья и вообще средней российской полосы, хочется воскликнуть с грустной интонацией позапрошлого века. Измученные ненужными запрудами, отравленные стоками и удобрениями, обескровленные, с вырубленными в пойме деревьями. Пахра, Медведица, Протва.
Клязьма.
Клязьма в районе Чашникова по Ленинградскому шоссе, рядом с биостанцией. От дачи несколько километров – целый поход. Узенькая, в несколько метров речка, заросшая в пойме осиной, ивой, ольхой, крапивой. С прозрачной водой, с глубокими омутами. Когда мы в первый раз приехали туда на велосипедах и ловили все тех же пескарей, ближе к вечеру деревенские мальчишки пригнали лошадей и купали их в омуте. И было странно и удивительно смотреть, как огромные (какими только и кажутся в детстве) лошади по шею погружаются в воду, как в ванну.
Отец потом рассказывал, что местные рыбаки говорили, будто меньше чем на леску 0,3 они в Клязьме и не ловят – настолько велика и сильна здесь плотва.
За клязьменской плотвой мы потом часто наведывались, и она действительно казалось крупной, может быть, еще и потому, что как бы рано мы ни выходили из дому, на Клязьме оказывались уже к концу клева. А днем речка замирала и соблазняла лишь тенями в глубине и стаями ельцов на поверхности. Изредка, нацепив на крючок кузнечика, удавалась вытащить острожного ельца. Случайное везение. Потому что вообще-то в это время елец не брал, презрительно обходя крючок с насадкой. Или вовсе уходил, испуганный взмахом удочки. И нужно было искать новое место, продираясь в пойменных джунглях сквозь кусты, цепляясь удилищем, леской, поплавком за ветки, стебли крапивы, тростник, чтобы, найдя выход к берегу, снова аккуратно, стараясь не шуметь, закинуть снасть.
Мертвый час. И приходилось ждать вечера и вечернего клева. И это уже другая рыбалка, окрашенная грустью неизбежного возвращения.
А пескарь в Клязьме был мелкий, невыразительный, как будто и существовал он здесь (вместе с таким же мелким ершом) только лишь в качестве живца, сладкой щучьей пищи.
Зато на Москве-реке в районе Тучкова, где я как-то проводил лето, какой был пескарь! Выйдешь на песчаную отмель – и видишь пескариные стаи. Но что пескарь, когда другая рыба влекла к себе. По страшному и шаткому висячему мостику – на стальных тросах перекинутому с берега на берег, провисающему посередине, с ненадежными деревянными досками, где треснувшими и высохшими, где и вовсе выпавшими, так что приходилось перешагивать образовавшуюся дыру, стараясь не глядеть вниз на текущую воду, – перебирались на другую сторону. Другой берег всегда манит к себе, но, впрочем, действительно, здесь всё иначе. Здесь глубже, течение более плавное и можно, если повезет, вытащить подуста. На черную крапивную гусеницу. Или на червя. То есть я, кажется, держал подуста в руках. Или только кажется?
Голец, елец, пескарь, подуст – рыбы моего детства, прежнее богатство подмосковных водоемов. Сегодня нужно постараться, чтобы их найти. А подуст так, кажется, вообще исчез.
Словно вся эта разнообразная озерная и речная живность пригрезилась, ушла в сон. Откуда, видимо, и взялась изначально.
Рыба – призрак. Как ее поймать? Она реальна только в момент лова.
Настоящая рыба – сорвавшаяся, сошедшая. Когда ты чувствуешь ее в поединке, но победа остается за ней. И ее, конечно же, помнишь и видишь яснее и ярче, чем рыболовные удачи. Ведь все хрестоматийные, все классические, все самые известные произведения о Рыбе: “Моби Дик”, “Старик и море”, “Царь-рыба” – они ведь о том, как ее поймать не удалось. Они о поражении.
И это понятно.
Рыба – тайна, ей нельзя овладеть. Раскрытая тайна теряет свою сущность, перестает тайной быть – и что толку тогда в обладании ею?
Рыба – божество. Она лишь душой угадываемая, угаданная. Или предъявленная. Та – из сновидений.
Как мальчик с заставки известной кинокомпании, что сидит на месяце с удочкой в руках и ловит то ли в воде, то ли в звездном небе, ты смотришь в воду, как в сон. Уже приснившийся или обещающий присниться. И ждешь Рыбу. Прекрасную и многоликую.
Теряющую единство, как и небесное, зодиакальное отражение ее – Рыбы.

