МЫ — С ПЕРЕДНЕГО КРАЯ
Одно я не понимаю, папа:как люди сделали всю эту Землю?Из вопросов сына
— Алые облака на черном фоне! — воскликнул режиссер. — Муза, это чересчур. Всегда вас тянет на условность!
Он выражал сомнение, возмущался и негодовал на миниатюрном радиобраслете. Гнев на крошечном личике казался немного смешным. И молодая художница снисходительно, как ребенку, ответила изображению:
— В искусстве всегда есть условносгь, вы сами мне объясняли. Когда плоские фигурки на экране телевизора в нашем присутствии объясняются в любви, это условность. Но мы привыкли к ней с детства и не замечаем. Волнуемся, переживаем, глядя на условные тени. Алые облака условны. Но красное будоражит, тревожит, настораживает, черное — навевает уныние. Макбет — черно-красный, так я его вижу.
Режиссер в немом негодовании воздел руки к небу. Художница рассердилась и выключила браслет. Собеседник ее исчез, словно под сцену провалился. Потухший экран был похож на бессмысленный глаз слепого.
— Условность! — проговорила художница. — Видел бы ты Поэзию…
Она вернулась к работе, тронула рукоятки цвета, изменила тон, прибавила яркость… но картина становилась все неприятнее.
— А ты, бездарная, уже записать хотела! — воскликнула художница и рывком выдернула выключатель.
Свет погас, краски исчезли все сразу. Белое полотно бессмысленно глядело на нее со стены.
Целый месяц возилась она, создавая эту световую картину. Крутила ручки, смешивая цветные лучи, подбирала оттенки, переходы. Казалось, работа уже завершена, остается дать команду машине, записать расположение пятен, частоту и яркость света. И вот все погашено. Не зря ли? Не лучше ли было подождать до утра, оценить свежим взглядом?
И ей стало так жалко себя, своего долгого труда, даже у переносицы защемило и слезы навернулись на глаза.
Но тут дверь распахнулась. Мягко шлепая эластичными гусеницами, в комнату вошла прислуга, киба-прислуга, конечно, симпатичный домашний гном, следивший за порядком в квартирке художницы.
— Письмо, — сказала киба гнусавым баском. На ее плоских ладонях лежал небольшой диск, завернутый в черную бумагу.
— Откуда? — спросила художница.
— Гость принес, — прогнусавила киба и, осветив квадрат на лбу, показала моментальный снимок: молодой человек с еле пробивающимися усиками, в шлеме и глухом серебристом комбинезоне. Так одевались люди переднего края — необжитых планет.
— Конечно, с переднего края, — усмехнулась художница. — Только там забыли, что на свете есть фотопочта. Носят конверты пешком, как в прошлом тысячелетии.
Она с неудовольствием смотрела на диск в черной бумаге. Передний край был прошлым, отвергнутым прошлым, не хотелось его ворошить. Если бы сегодня работалось, она бы отложила письмо, постаралась бы забыть о нем. Но все равно, день пошел насмарку.
— Ладно, прочти! — сказала она и всунула диск в широкую, как бы усмехающуюся пасть гнома.
Щелкнул рычажок, зашелестела лента, и голос, который когда-то был дорогим голосом, начал:
Я смотрю на тебя, Муза, диктую и смотрю. Ты наводишь порядок в комнате, передвигаешь кресла, присасываешь к стене картины и полочки. Удивительная походка у тебя, — как будто в туфельках скрытые пружинки.
Вот ты отдернула занавеску, недовольно наморщила носик, оглянулась на меня ласково и кокетливо. Вот поправила скатерть, переставила книги на полочке, мурлыча песенку про былинников-целинников. И опять подвинула кресло, присосала картину, отдернула занавеску, сморщила носик… неутомимая и хлопотливая, как домашняя киба, веселая и неунывающая, как живая Муза.
К сожалению, это не ты, это твой кинопортрет. Я снял его, когда мы были еще вместе. В то время мне нравилось работать, поглядывая, как ты наводишь уют, как летаешь по комнате на туфельках-пружинках. Сейчас тебя нет, и я смотрю, как порхает твой кинопортрет. Порхает как ты, напевает как ты, но очень уж однообразно. Знает одну-единственную песенку о былинниках, умеет только отдергивать занавеску.
Муза, не выключай, слушай до конца, я хочу высказаться. Ты же знаешь, что я не могу вызвать тебя по радио, греметь о чувствах на всю солнечную систему, ждать три часа от вопроса до ответа. Я мог бы приехать на Землю для разговора. Но странное дело: ведь мы никогда не могли договориться и лицом к лицу. Ты умела прекратить спор шуткой, насмешкой или поцелуем, и каждый из нас понимал поцелуй по-своему: я думал, что ты уступила, а ты думала, что я уступил, и все оставалось неясным. Вот почему я прошу тебя, Муза: не выключай, раз в жизни выслушай до конца.
Ты помнишь день нашего знакомства? Наверно, нет.
А я могу пересказать все подробности, даже погоду помню. Была ранняя весна, за городом снег таял, на проезжих дорогах хлюпала желтая каша, сугробы в садах стали ноздреватыми и черными, демонстрировали всю пыль, осевшую за зиму. В бюро было три вызова, все три на Амурскую улицу. Я записал адреса и сказал начальнику с гордостью:
— Сегодня последний день. Меня взяли на Поэзию.
Начальник взглянул на меня с грустной завистью пожилого человека, который уже никуда не уедет, так и останется до старости в Магаданском бюро по наладке гномов.
— Счастливого пути, — сказал он. — Надо бы отпустить тебя, но все сплошь вызовы от женщин. Ты уж сходи сегодня.
Вызовы от женщин у нас считались более трудными. Женщины иной раз обременяли гномов такими прихотливыми заданиями! На всю жизнь я запомнил одну милую девушку, которая просила, чтобы гном предупреждал ее, когда по улице проходит блондин с голубыми глазами. Ничего плохого тут не было: просто она была влюблена в соседа. Ну вот, я и ломал голову, как бы переналадить гнома, чтобы он отличал голубоглазых, даже гордился, когда мне удалось это.
Тогда это мне еще нравилось — решать головоломку ради головоломки. Потом наскучило. Как хочешь: ненастоящая это работа.
Мы в наше сложно-благоустроенное время слишком долго готовимся к настоящему делу. Все готовимся и готовимся, половину жизни готовимся. Школа практика, техникум-практика, институт-практика. У тебя еще ученик — опекаемый, оберегаемый, окруженный наставниками, профилактиками, автоматами безопасности. Миллион нянек следит за тобой, оберегает от ошибок: не оступился бы, не простудился бы, не заблудился бы в рощах планеты-колыбели. Идешь к морю и знаешь: на Службе безопасности уже загорелась красная лампочка. Вошел в воду уже спасательный вертолет в воздухе. А у тебя в плечах косая сажень, так хочется выбраться из кокона, развернуть плечи, приложить силу…
Но вот наступает день, когда ты приводишь на экзамен свою дипломную кибу. Три учителя, развинтив и разобрав ее, спрашивают: «Как вы считаете, Серов Ярослав, надо вам учиться еще год или вы сможете самостоятельно работать инженером?» — «Смогу», — отвечаешь ты с нетерпеливым неудовольствием. «Где вы хотите работать?» — «Ну, конечно же. на переднем крае, в космосе, подальше. В худшем случае — на Луне или на дне океана». И тут оказывается, что есть место на Поэзии, новорожденной искусственной планете, на одном из осколков Урана, разбитого вдребезги, приспосабливаемого для будущих поколений. Выползай из кокона, бородатая личинка, марш из гнезда, птенец. Посмотрим, кто ты: орел или мокрая курица?
И вот ты идешь по Магадану, уютному донельзя. Постукивают решетки движущихся тротуаров, подогретый воздух обдувает тебя снизу, сладко и нежно пахнут уличные розы. А ты смотришь на них с пренебрежением. Ты уже покидаешь дом и не хочешь оглядываться.
Вот с таким настроением я пришел к тебе на Амурскую, 122. Вот почему посмотрел на тебя сверху вниз. Ну что еще нужно тебе, пташечка? Какое перышко переложить в твоем гнездышке? Какая горошинка попала под твою периночку? Говори скорее, мне некогда, я уже развернул крылья.
А ты стояла передо мной, тоненькая камышинка, хрупкая, трогательная и бесстрашная, как укротительница диких зверей, смотрела в упор своими черными глазищами, а на пальце у тебя была эта плоская штука, которую вы называете палитрой.
Смущенно смеясь, но ничуть не смущенная, ты объяснила, что ты художница-декоратор, пишешь для совершенствования не только светом, но и маслом — по-старинному, и что тебе хочется научить кибу счищать масло с палитры, натягивать холст на рамки и мазать его белилами (теперь-то я знаю, что это называется «грунтовать»).
Я попросил показать, как все это делается. Чтобы программировать кибу, нужно четко представлять каждое рабочее движение. А я совсем не знал, как пишут маслом, по наивности подумал, что речь идет о сливочном масле. И ты повела меня в мастерскую, показала пейзажи с очень серыми волнами, очень желтыми скалами, очень закрученными облаками.
— Нравится? — спросила ты.
Мне очень понравились твои глаза и походка на пружинках, а пейзажи гораздо меньше. Я сказал, что скалы и море ненатуральны, я никогда не видал таких.
Помню, как сверкнули твои глаза. Ты выпрямилась, словно хлыстик.
— Вы не умеете смотреть! — крикнула ты. — Вы читаете картину словно отчет, думаете о ней, а надо чувствовать, как музыку. Я не перечисляю скалы, я создаю настроение. Серое небо, серое освещение и серый цвет сами по себе навевают спокойствие и грусть.
Ты заговорила о кобальте и кармине, о темноте синей, темно-синей, коричневой и черной, о заре вечерней и заре утренней, о музыке Шопена, подобной светлому ручью, о музыке Бетховена, подобной бушующему океану, и о том, как ты понимаешь Шекспира и как бы ты написала к «Макбету» декорации: алые облака на черном, как тушь, небе.
Я слушал с возрастающим удивлением. И подумать, что есть целый мир настроений и впечатлений, так худо известный мне, трезвому технику по исполнительным кибам! И в этом мире так хорошо разбирается тонюсенькая, несерьезная на вид девчонка с черными глазами!
— Вам бы на Поэзию, — сказал я. — Там нужны будут такие люди, тонко понимающие Шекспира. Хотите, я познакомлю вас с Лохой, главным архитектором Поэзии?
Почему ты сразу согласилась идти к Лохе? Мне кажется — из любви к необычному. Знакомые юноши приглашали тебя в театр, на выставки, на морские и лесные прогулки. На обсуждение проекта не приглашал никто. «Быть может, это будет скучно, но оригинально», — подумала ты.
Недавно мне говорили, что Лоха омолодился, что он сейчас тощий, рыжий, порывистый. Все мы понимаем, что так нужно, не оставаться же человеку стариком, не дряхлеть же безропотно, как в прошлом тысячелетии. Но в глубине души жалко. Жаль мне, что никогда уже на Земле я не увижу уютного старика, толстого, неподвижного, как бы вросшего в кресло, неторопливо-вдумчивого, спокойно-ласкового. Ему уже тогда подошла пора омолаживаться, но он все медлил, ленился вылезать из своего старого тела, в котором чувствовал себя так удобно, словно в домашнем халате.
С тех пор я повидал немало авторов всяких космических проектов и знаю, что у большинства из них своеобразный недостаток-достоинство: фанатическая вера в самого себя. Быть может, без этого фанатизма трудно отстаивать свое предложение. Уж если ты печатаешь свой стих миллионным тиражом, значит, веришь, что миллионам людей интересны твои переживания. Уж если защищаешь свой проект переделки планеты, значит, веришь, что все другие проекты хуже, только ты обеспечишь миллиардам людей наилучшую жизнь.
А у Лохи не было этого «необходимого» фанатизма.
Он с уважением прислушивался к каждому, слушал даже нас, молодежь. Помнишь, как он говорил: «Ребятки, соображайте, советуйтесь. Ум хорошо, а тысяча лучше. Изобретайте, переделывайте. Только главного не упускайте. Планета, по имени Поэзия, должна быть поэтической. Как ваше мнение, почему мой проект сочли самым поэтическим?»
Казалось, он сам не понимал, за что ему дали первую премию. И мы не совсем понимали тогда, сейчас-то нам стало яснее. Соперники Лохи проектировали планету-рай, планету-сад, приглаженную, отутюженную, очень благоустроенную и везде одинаковую. Только Лоха решил: поэзия — не только соловьи и розы, это еще борьба и победа. На планете поэтов должны быть бушующие океаны, горы, чащи, льды и пустыни. Первоначальный осколок — болванка планеты — был коническим, все инженеры ломали голову, как срезать конус поровнее, как отполировать шар. А Лоха сказал: «Оставим коничность». Пусть будет здесь горный узел, величайшие хребты Поэзии: Гомер, Шекспир, Пушкин, Данте. Пусть на скрещении хребтов останется самая большая вершина поэзийский Олимп. И пусть он даже врезается в стратосферу. Там в лиловом небе, над облаками, свысока взирая на планету, члены жюри в олимпийском спокойствии будут оценивать стихи, увенчивать лаврами лучших поэтов. И не страшно, что восседать придется в скафандрах. Ведь поэты будут космического масштаба, лучшие в солнечной системе.
В тот день, когда мы пришли, речь шла не об Олимпе, обсуждался проект хребта Шекспир. Ты помнишь, конечно, как Лоха сидел с улыбкой, добродушной и лукавой, слушая распаленных спорщиков. И этот худущий, чернявый — забыл его фамилию, формалист такой предлагал сделать в хребте тридцать шесть вершин, по числу пьес, и сто пятьдесят четыре холма — для каждого сонета. И на пике Отелло он хотел сделать две вершины: одну-из черного базальта, другую-из белого мрамора, из одной вырезать голову мавра, из другой-голову красавицы. И юные техники, увлеченные техническими сложностями, уже заспорили, чем заменить мрамор. Ведь мрамор происходит от известняков, а на Поэзии еще не могло быть осадочных пород… Помнишь, как ты напустилась на них, стала кричать, что они ничего не смыслят в искусстве, что дом должен быть похож на дом, гора — на гору, что хребет Шекспир должен быть шекспировский по духу, а не по форме и, если мы будем сверлить тоннель в ухе Дездемоны и добывать нефть из шеи Отелло, это будет не утверждение поэтических образов, а издевательство. Юный формалист смолк пристыженный, и ты начала объяснять, как ты представляешь себе пик Отелло: могучий, темный, суровый. И как бы это выразить страстность? Пусть это будет вулкан. И молодые техники, увлеченные техническими сложностями, уже заспорили, можно ли создать незатухающий вулкан, как сочетать незатухаемость с безопасностью. А Лоха, премудрый и лукавый, кинул, как бы про себя:
— Вот такие головки нужны на Поэзии. К сожалению, нельзя пригласить вас. Девушкам не место на переднем крае.
И судьба твоя была решена. Конечно, ты вспыхнула как бензин. «Как так девушкам не место? Вечное мужское высокомерие! На словах равенство, а как доходит до дела — девушке не место. Хорошо, я покажу, где мое место».
И десять дней спустя, когда я уселся в кресло рейсовой ракеты Магадан Луна, против меня пристегивалась ремуямн тоненькая девушка с черными глазищами.
Я был счастлив и горд. Мне казалось, что это я увлек тебя в полный опасностей космос. Я все оглядывался настороженно: «Где тут угроза? От чего я должен защищать тебя?» А ты следила за мной с насмешливой улыбкой: «Думаете испугать? Не вижу ничего страшного».
Я летел на Луну в первый раз. Вместе мы увидели приближение латунного шара с ликом, изъеденным оспинами кратеров. Вместе учились прыгать в лунных садах среди тонкостеблистых трав и худосочных кустов-гигантов. Вдвоем отправились в дальнюю экскурсию, заблудились, застряли до вечера, три часа просидели в кромешной лунной тьме, нас разыскали с прожекторами.
Но ты не испугалась ничуть, даже подбадривала меня:
«Конечно, найдут».
Вместе мы увидели космос в его однообразном великолепии. Сверкали немерцающие звезды, плыла среди них красная черешенка Марса.
Помню, как мы летели сквозь пояс астероидов единственное опасное место на нашем пути. «Впереди мусорно», — сказал капитан и велел включить заслон из сжатого вакуума. Мы с тобой стояли на палубе в туристской прозрачной рубке и смотрели, как взрываются частицы на заслоне — искорками, вспышками и целыми каскадами слепящего огня. Скорость стала ощутимой, фотонолет безмолвно врезался в радужный фейерверк. Временами струи света охватывали рубку, казалось, что корпус уже в огне, загорелся. Только на секунду твое лицо стало напряженным, но ты победила страх, сказала, улыбнувшись: «И подумать, что я могла всю жизнь просидеть в магаданской теплице, никогда не увидела бы этакой красоты!»
Потом мы миновали Сатурн — круглоголовый, в странной шляпе с полями, но без тульи. А еще через несколько дней полнеба заслонил вновь созданный мир, еще угловатый, словно подросток, темный, с багровыми прожилками лавы, с бурым дымом над огненными озерами. Из окна жилого спутника мы с тобой глядели на наше будущее местожительство, и комендант Поэзии Лю, седой и морщинистый (омоложение так и не действует на него, видимо, ему придется умереть окончательно), указывая пальцем на пятна, говорил:
— Здесь будет Эпический океан. Это острова Лириков, для них уже подготовлен фундамент. Тут Лукоморье — лучший район, там уже посеяны бактерии. Берег Аргонавтов. Плато Баллада — по проекту, тут будут ледники. А вот и Олимп показался — темный, над облаками. Рядом Шекспир — эти зубцы на горизонте. Ваша станция у подножия, близ лавопада. Видите оранжевую ниточку?
Сознаюсь, с некоторым страхом я глядел на оранжевую ниточку в бурых завитках циклонов. Но ты улыбалась. Так мог ли дрогнуть я, заманивший тебя в космос?
А через несколько часов за нами прилетел Гена, наш милый Гена, курносый и веснушчатый, хрипловатым басом прикрывающий крайнюю молодость. Он оглядел нас критически, предъявил претензию коменданту:
— Опять забрали инженера, взамен даете зелененьких! Превратили нашу станцию в школу для космических первоклассников! Только и знаем — учим и отдаем, учим и отдаем!
Потом придрался к нашему багажу:
— Почему маленькие чемоданы? Ехали на передний край, знали, что тут нет магазинов!
И мы разводили руками, с робостью оправдывались перед этим бывалым юнцом. Мы еще не знали тогда, что на уединенных станциях любят приезжих с большим багажом. В чемоданах могут оказаться новинки: киноаппараты, книги, игры, гномы с неожиданной программой, даже новомодные платья, предмет для обсуждения в долгие вечера. А новичок без чемоданов вносит в общество только свою память. Кто знает, успел ли он наполнить ее интересными впечатлениями.
Итак, ворча и поучая, Гена вывел нас на плоскую платформу спутника. Здесь, в отличие от дальних фотонолетов, движение было очень заметно. Из-за перил выплывали звезды, казалось, что пол запрокидывается, даже немного кружилась голова. Опять мы уселись в кресла, пристегнулись ремнями… и вскоре спутник со всеми своими пристройками — с куполами, антеннами, трубами, баками и платформами — превратился в сияющую точку. Мы еще не понимали тогда, что этот затерянный в космосе островок с его сорока обитателями станет для нас средоточием науки и культуры, что мы будем стремиться туда по делу и в праздники, летать, как в центр, как с Колымы в Магадан, как из Магадана в Москву.
Мы снижались. Поэзия росла на глазах, росла и приходила в движение. Застывшие завитки начали клубиться, превращаться в вихри и циклоны, пылевые и водяные, серые, бурые и красноватые, озаренные лавой и молниями. Величественное безмолвие космоса осталось позади, мы окунулись в грохочущую атмосферу юной планеты.
Тучи рвались с треском, как натянутое полотно, голубые мостики молний соединяли небо и горы, светящаяся каша выпирала из лопнувших долин. Целая равнина тонула в огне, как накренившийся плот. Дым, словно от костра, тугими клубами вздымался в стратосферу. Вблизи оказалось, что это не дым, а пепел над вулканом.
— Плато Лира! — кричал нам Гена. — Его перегрузили сверх нормы, оно тонет в лаве. Здесь было три станции раньше, лава сбросила все три. Так они и плавали, словно пробки. Одна плавала вверх полом. Неделю люди жили на потолке, пока не прилетели вертолеты и продолбили пол. Хорошо, что теплоизоляция выдержала… Станция Троя (несколько минут спустя). Самое трясучее место на Поэзии, землетрясения через день. Домики тут цельнолитые, переворачиваются, не ломаясь. Но спать приходится в каучуковых шлемах, а то голову разобьешь о стены… Огненная нива. Последнее место, где воздух еще светится. А когда мы прилетели, он светился повсюду. Метан догорал… Пик Маяковский. Тут вышла ошибка. Хотели сделать благообразную гору, образовался вулкан. Три эксперта погибли в прошлом году. Приехали критиковать форму и провалились в жерло…
Позже-то мы догадались, что Гена нарочно выбрал маршрут пострашнее. Нет, он не хотел припугнуть новичков, только побахвалился немножко: вот, мол, в каких условиях мы живем тут, на переднем кр. ае. Это вам не Магадан, подогретые тротуары. Но потом, уже без его желания, мы попали в грозу, в сизое месиво, озаренное изнутри. У самого Гены лицо стало озабоченным.
— Где радиомаяк? — кричал он. — Грозовые помехи! Визуально не ориентируюсь, не могу же снижаться вслепую. Плохо слышу, плохо! Прибавьте громкость, забивайте помехи!.. Нет, не могу пережидать в воздухе, горючее на исходе. Не идти же на вынужденную посадку с пассажирами…
Мы переглянулись. Не знаю, что ты думала тогда, а я думал, что помочь не могу ничем, остается сидеть смирно и надеяться на летчика.
И когда машина стала снижаться, я так и понял: вынужденная посадка. Но вдруг наступила ватная тишина. Оказывается, Гена, втянув крылья, с ходу ввел машину в ангар. И, как он нашел вход, я даже не заметил…
А еще через три минуты мы оказались в пустоватой комнате с обыкновенными не каучуковыми — стенами, и Гена, поглядывая на нас с торжеством, поинтересовался снисходительно:
— Ну, как вам понравилась наша Поэзия?
Ты выглядела совсем измученной, по-моему тебя укачало, но ты нашла силы, чтобы ответить:
— Шумноватая Поэзия. Ни ритма, ни рифмы, барабанный стиль. Но о ритмах дискутировать будем после. Я хотела бы помыться с дороги. Есть у вас душ или вы купаетесь в кипящем озере? В таком случае, не глушите мотор, я хочу слетать туда перед ужином.
Гена заулыбался, оценив твое мужество.
— Купание в лучшем виде, — заверил он. — Вот дверь в бассейн, по утрам прыгайте из кровати. И насчет ужина в грязь лицом не ударим.
И он исчез, кинув в дверях:
— Жена у тебя молодец! В самый раз для переднего края…
Он был восхищен тобой, а я восхищался всю дорогу.
И, когда он ушел, я набрал воздуху в грудь, словно нырять собрался, и выпалил, зажмурившись:
— Кажется, нас тут принимают за молодоженов, Муза. Может, не стоит разуверять, разочаровывать товарищей…
Лицо твое стало серьезным и внимательным.
— Яр, это недозволенный прием, — сказала ты. — Я устала сейчас и не способна спорить. Но все же, мне кажется, не стоит жениться только для удовольствия товарищей. Главное ты упускаешь.
— Главное — это «люблю», — сказал я.
Все время я ловлю себя на том. Муза, что рассказываю события, тебе известные. Видимо, в пустой комнате человек становится многословным. И твой двойник на экране не одергивает меня — смотрит за занавеску и улыбается одобрительно. И потом, я пишу не только для тебя. Я сам хочу осмыслить, что произошло у нас: почему ты полюбила меня и почему разлюбила потом?
За что полюбила, мне кажется, я понимаю. Ты полюбила меня за космос, за то, что я привел тебя в страну молчаливых звезд и гремящих извержений, на сцену космического размаха, где строятся подмостки размером с планету, в страну сильных переживаний, где можно испугаться и победить свой страх. Меня полюбила ты за звездную бесконечность, за страх и победу над страхом; за мудрую голову Лохи и наивную браваду Гены ты полюбила меня. Но ведь это все осталось: и Гена, и Лоха, и космос.
Нас было шестеро на станции Олимп, шесть человек на пространстве, где могли бы разместиться четыре Магадана. Конечно, через неделю мы знали, кто чем дышит, кто чем интересуется и что думает, когда молчит. стиснув зубы, и что скажет, когда раскроет рот.
Мы узнали, что Гена, юный летчик, «ищет себя», что он уже сменил десяток специальностей и побывал на десятке планет. Узнали, что он хочет быть и летчиком и поэтом, если не лучшим поэтом Поэзии, то хотя бы первым по времени. И в первый же вечер выслушали стихи:
Богатыри былинные,
Машинного размаха мы.
Мы в космосе целинные
Планеты перепахиваем.
И, конечно же, мы знали, что Гена влюбился в тебя в тот же вечер и начал писать поэму в двенадцати песнях о Музе, вдохновительнице Поэзии. Сколько каламбуров насчет своего имени ты слышала в жизни?
Мы знали, что старшего оператора Хозе, черноволосого красавца с сатанинским профилем, разлюбила невеста в Аргентине, поэтому он склонен на все человечество взирать с недоверием; что он высмеивает увлечение Гены, а сам увлекается историей, всех уверяет, что наши предки были честнее, героичнее, во всех отношениях лучше нас: сильнее любили, откровенно ненавидели.
И мы знали также, что, забыв невесту-изменницу, Хозе тоже влюбился в тебя, отчего пострадал Гена — его стихи и мечты высмеивались еще беспощаднее.
Быть может, и Дитмар влюбился бы в тебя — старший геолог, требовательный начальник, такой суровый, немногословный и точный. Но рядом с Дитмаром была жена — моложавая болтушка Кира. И от Киры уже через час после приезда мы узнали, что у них с Дитмаром пятеро детей: два мальчика на Марсе, две девочки на Венере, старшая дочь замужем на дне Тихого океана; что затаенная мечта Киры — собрать свое семейство воедино, но дети уже большие, не хотят покидать своих товарищей в интернатах, а Дитмар любит дикую природу, в городах ему тесновато и душно. Странный парадокс жизни: любит дикую природу — и все силы кладет, чтобы в дебрях возникли города.
Вот и весь наш Магадан, весь наш мир: товарищи, соперники, друзья, противники, советчики, учителя, рассказчики, слушатели, соседи и гости. И, когда мы сыграли свадьбу с тобой, кто был в гостях у нас? Дитмар с Кирой, Хозе и Гена.
Всего четверо гостей. Зато как они старались, чтобы свадьба вышла на славу! Целый месяц шла суматоха. Кира шила себе и тебе платья, летала на спутник за какими-то редкими консервами, за сухими тортами и семенами цветов. У нее-то самой свадьбы не было. Мрачноватый Дитмар сказал тогда: «Мы с тобой будем жить вдвоем, и никого это не касается». И Кира теперь жалела, что не отметила праздником самый важный шаг своей жизни, тебя остерегала от ошибки.
А Гена срочно переписывал четвертую песнь поэмы о Музе. И Хозе, посмеиваясь, все же втайне выращивал для тебя в гараже редиску — деликатес, невиданный на Поэзии.
Ты помнишь праздничный стол? Сто двадцать тарелок. Не только съесть перепробовать нельзя было всего. Напитки: яблочный, вишневый, молочный, шоколадный… даже перебродивший виноградный сок, которым в старину дурманили голову наши предки. Дитмар произнес речь официальную, Гена «- восторженную, Хозе — ироническую, Кира просто всплакнула. Потом все пили горьковатый сок, звеня бокалами, в голове стало дымчато, в груди тепло. И Гена вытащил свою поэму с виньетками, а Хозе театрально стал на колени, умоляя не читать, но сам звучным басом затянул песню, тем же Геной сочиненную, гимн переднего края:
Люди творят на переднем краю,
Там, где поют и планеты куют.
Эй, шоферы, везите горы,
Вы, маляры, красьте бугры!
Ты, машинист, выравнивай страны,
Рой котлованы под океаны!
Ты, садовод, сажай леса!
Ты, истопник, грей полюса!
Молотобоец, бей сплеча,
Куй планету, пока горяча!
Пели хором, кричали, кто петь не умел. Сама невеста, забыв, что ей полагается сидеть грустно-задумчивой, кричала, дирижировала, размахивала воображаемым молотом. Очень изящный был молотобоец в белых кружевах.
Даже Дитмар заулыбался, желая внести вклад в радость, вытащил радиограмму, помахал над столом:
— Приятное сообщение, товарищи. Утвержден окончательный проект Олимпа. Высота тридцать три километра. Мы будем выкладывать самую высокую гору в солнечной системе.
И все заахали, заговорили разом.
— Тридцать три километра?
— Самая высокая? На астероидах не выше?
— Там вообще не поймешь, что считать горой.
— Но он высунется в стратосферу, наш Олимп. Там дышать нельзя будет.
— Нет, это великолепно! — восхищался Гена. Космический Олимп в венце облаков под звездным небом. Гигантская статуя Пегаса на самой вершине. На нее садятся увенчанные лаврами…
— … плешивые старики и толстые бабы, — подсказал Хозе.
— Плешивых и толстых не будет на Поэзии. Все будут молодые или идеально омоложенные.
— Кроме Пегаса, нужна пропасть, — не унимался Хозе. — Как в древней Спарте. Чтобы неудавшихся поэтов сбрасывать тут же в пропасть. И на дне ее памятник неизвестному поэту. Гена, друг, у тебя есть шансы первым занять там место.
— Смейся, смейся! Я уверен, что ты и сам начнешь писать стихи, прожив на Поэзии лет пять.
— Я не проживу тут пять лет. Моя муза — Клио. Как только сложат горы здесь, переберусь на Историю. Вот где будет настоящая жизнь, заповедник геройства! Долина Рыцарей, океан Моряков, страна Подпольщиков, материк Красной Армии! Прошлое не возродишь, но хотя бы подражать будут двадцатому героическому веку. Дитмар, поедем на Историю?
— Нет уж, мы с Кирой наездились. Построим Олимп и двинем на старые планеты. Куда-нибудь на Венеру. Поживем там на покое до омоложения.
— Врет, врет! — закричала Кира. — Всю жизнь обещает, а сам тянется все дальше и дальше… — И, обняв тебя, зашептала: — Милая, не верьте мужчинам, у них космический запой, они влюблены в даль, в неизвестность и бесконечность. Для них чем страшнее, тем лучше. Вы девушка с волей, с характером. Придерживайте Яра, пока он вас слушает… Пускайте корни на Поэзии и оставайтесь тут. А то будете, как я, метаться по Вселенной — от мужа к детям, от детей к мужу.
И позже, когда раскрасневшиеся гости оставили нас, ты обвила мою шею и сказала, улыбаясь:
— Крепко я держу тебя, Яр? Будешь слушаться?
— Приятный человек Кира. И все они чудесные здесь, правда? — сказал я.
Я сказал так потому, что чувствовал себя ответственным. Я привез тебя сюда, на край света, и отвечал за все на переднем крае: за смерчи и вулканы, за стихи Гены и за мрачность Хозе.
— Они милейшие. Однолучевые только, — сказала ты.
Муза, дорогая, а как же мы на переднем крае можем не быть однолучевыми? У вас там, на Земле, четырехчасовой рабочий день. В полдень вы бежите к морю, ныряете с аквалангом, потом в драматический кружок, потом в телеуниверситет. А наши моря еще витают в атмосфере, крутятся горячими смерчами. Кто будет играть на сцене, кто будет зрителем в городе Олимпвторой, где проживает шесть человек? Мы варимся в собственном соку. Если из шести один пишет посредственные стихи, все шестеро будут их обсуждать. Самое интересное, самое увлекательное, самое необыкновенное тут — работа. И как же необыкновенно работали обыкновенные люди переднего края!
Я помню свой первый вылет… через день после приезда. Я сказал, что мне, как наладчику, нужно посмотреть кибы в работе. Мы вылетели втроем: Гена, Хозе и я. В двухместном самолете было тесновато троим. Я сидел сзади, скрючившись, упираясь коленками в кресло Хозе. Так и не мог вздохнуть полной грудью до возвращения.
Как только распахнулись ворота ангара, самолет ворвался в воющую мглу. Вокруг грохотало, свистело, ревело, кружились серые, бурые и светящиеся от электрических разрядов смерчи. Самолет швыряло, как лодочку на волнах. Стало жутковато. И впоследствии всегда мне было жутковато в первую минуту. Уж очень велика была разница между нашей станцией-скорлупкой и этим беспокойным, неуютным миром.
Но юное лицо Гены было только внимательным, не беспокойным. В сарабанде вихрей он не терял равновесия, уверенно пробивал тучи, дождевые и пылевые. И я, глядя на него, взял себя в руки, стал рассматривать нагромождения скал за фонарем и на экране. На экране даже удобнее было рассматривать, потому что скалы подцвечивались там условными тонами — ярко-красными, голубыми, желтыми…
— Каменоломня, — заметил Хозе через некоторое время.
Я увидел вздыбленную гряду. Здесь плита налезла на плиту, образовала ступень в полтора километра высотой, некоторое подобие Крымских гор, нависших над Черным морем. Правда, моря еще не было у их подножия.
— Здесь океан будет, островная гряда ни к чему. Помеха теплым течениям. Вот мы и срезаем ее под корень, — пояснил Хозе.
Самолет между тем вился над грядой, описывая круги. То взмывал к синему небу, то опускался к пестрым, разбитым трещинами утесам.
— Что ты мудришь? — крикнул Гена. — Давай с края, по порядку.
Хозе серьезно кивнул. В воздухе он не насмешничал. Тут они были равны: командир самолета и командир киб.
Хозе надел на руки медные браслеты с колечками для каждого пальца и вытянул кисти рук, словно собирался играть на рояле. Его движение тотчас передалось кибампилам, они оторвались от брюха самолета и спикировали. На экране я увидел два треугольника — синий и красный. Напряженно глядя перед собой, Хозе чуть пошевеливал пальцами. Он мысленно управлял кибами, каждой в отдельности. Мчались, обгоняя самолет, усиленные биотоки, и кибы послушно поворачивали вверх или вниз, вправо или влево.
— Резать! — сказал Хозе отрывисто.
Это он голосом подал команду пилам. Кибы вонзились в грунт — одна у подножия, другая на плоскогорье. Я затаил дыхание. И на Земле я видел, как пилят скалы, как взрывом поднимают горы. Но тут резали не горы, а поле тяготения, уничтожали притяжение.
И вот на моих глазах край гряды начал отслаиваться, зазмеилась трещина, разделяя плоскогорье, крайняя гора приподнялась, как будто под ней вздулся пузырь… и вдруг, потеряв вес окончательно, с грохотом оторвалась от подножия.
— Хороший кус, кубика на четыре потянет, — заметил Гена с удовлетворением. Кубиком он называл кубический километр, три тысячи миллиардов тонн.
— Домой! — скомандовал Хозе, резко сжимая кулаки.
Кибы, отпилившие гору, отвернули обе сразу и исчезли с экрана, улетели в ангар по записанному пути.
Гора между тем поднималась вверх на раздувающемся пузыре, стряхивая торчащие утесы. И мы поднимались рядом с горой, на уровне огненно-красной подошвы, чуть в стороне, чтобы утесы не задели нас. Все быстрее и быстрее. Гора продавила облака, высунулась над белыми клубами, выдвинулась в синее небо. Сколько раз впоследствии видел я взлетающие горы — и по сей день удивляюсь этому противоестественному зрелищу.
— Не упустишь? — спросил Гена.
— Осы пошли, — откликнулся Хозе.
Десятью пальцами он коснулся клавиш, и на экране зажглись десять точек, все разного цвета — голубая, белая, синяя, желтая, алая, вишневая, и так далее. Это стартовали кибы-осы, маленькие ракеты с атомными зажигалками. Уже через минуту все они сидели на горе, каждая на своем месте: красная — на левом краю, фиолетовая — на правом, голубая — наверху, желтая — у подошвы. Конечно, только на экране можно было видеть цветные точки, облепившие черный массив горы.
Муза, ты бы посмотрела на Хозе в эту минуту! Он был сосредоточен, серьезен и исполнен вдохновения, он напоминал пианиста-виртуоза. Все десять пальцев лежали у него на клавишах, но, не глядя на руки, вперив глаза в экран, он наигрывал беззвучную мелодию, то нажимал с силой, то постукивал, пробегал гаммой, брал аккорды… и послушные кибы отвечали ослепительными вспышками долгими и короткими, одиночными и групповыми. И гора подавалась вверх и вбок, подпрыгивала, словно на невидимой ракетке. Хозе забавлялся с ней, как спортсмен с теннисным мячиком. Ниже, ниже, ниже… Падает? Нет, подхватил. Толчок! Прыжок вверх. И опять скольжение.
— Олимп, — предупредил Гена.
Заглядевшись на экран, я не заметил, как над облаками вырос мрачный конус, груда утесов, накиданных титанами. Теперь-то я знал, что титаны — это Гена и Хозе.
— Переверни-ка! — сказал Гена.
Хозе нажал две крайние клавиши мизинцем и безымянным. Гора закружилась, словно колесо. Так, кувыркаясь, она катилась по небу к Олимпу. Хозе, наклонившись к экрану, напряженно скрючил пальцы. Цветные огоньки кружились всё быстрее, свиваясь в нитки, в обручи, как при танце с лентами. Теперь осы, впившиеся в гору, крутились вместе с ней, клавиши меняли смысл, назначение, а виртуоз Хозе продолжал свою игру на переменной клавиатуре. Голубая — толчок вниз, голубая спустя секунду толчок вперед, красная — вправо, красная — влево. Медленнее, медленнее… еще чуть…
И вот, подняв тучу пыли, летящая гора тяжко села на склон Олимпа.
— Там родилась, — сказал Гена, довольно улыбаясь.
Хозе в изнеможении откинулся на кресло, полузакрыв глаза.
А я с завистью глядел на его гибкие пальцы. Вот это мастерство! Сколько лет нужно, чтобы так научиться играть в кошки-мышки с долями секунд и миллиардами тонн… Сумею ли я когда-нибудь перенять такое мастерство? Не нужен ли особый талант?
Будь я девушкой, Муза, я бы не выходил замуж, не посмотрев любимого на работе. Пусть он будет посредственный танцор и собеседник, средний поэт, как Гена, или доморощенный философ, вроде Хозе… но ты бы посмотрела, как он жонглирует горами! Человек, Муза. ценится не по среднему своему уровню, а по высшему достижению. Если спортсмен раз в жизни, единственный раз, прыгнет на десять метров, то только за этот прыжок его имя внесут в золотую книгу рекордов. И если ученый сделает тысячу ошибок, но одно важное открытие, люди, забыв ошибки, за это единственное открытие поставят ему памятник.
Впрочем, у вас, у девушек, бывает особый, косой, я бы сказал, подход к человеку. Сестра мне сказала как-то: «Не надо гениального. Пусть будет любящий и заботливый, пусть будет хороший муж». А ты. Муза, такого же мнения? Ты могла бы любить ласкового и бездарного, любящего и слабодушного? Могла бы?
Где-то тут, думается, началось у нас непонимание.
Людей Поэзии мы видели разными глазами. Я имел дело с титанами, жонглирующими горами, а к тебе приходили усталые, отдыха желающие заурядные любители стихов и пения. Я с предельным напряжением сил старался догнать виртуозов, а ты выполняла обязанности чертежницы и обучала любителей азам искусства. Работать вполсилы скучно, скучно делать то, что ты давно умеешь. Я понял это много позже, когда научился класть горы почти как Хозе. А тебе стало скучно почти сразу. И однажды я услышал:
— Хочу домой, на Колыму… Хочу в город. Хочу говор толпы, много-много людей, совсем незнакомых. Хочу хоровод ранцев в вечернем воздухе, похожий на танец поденок. Хочу фойе в концертом зале, хождение по кругу, гул голосов. Хочу обнять маму и сестру, покачать на руках малыша племянника.
Хочу море, золотой пляж в бухте Нагаева. Пальцы в горячем песке, солнечные лучи на спине. Хочу синеву, украшенную белыми барашками, рокот камешков, уносимых волной. Хочу нырнуть в зеленую прохладу, надев пучеглазую маску, проплыть, лавируя, между скал, поймать за ногу кусачего краба.
Хочу поле… и чтобы пахло медом и полынью… и пусть будут золотые брызги лютиков, и ласточки, купающиеся в небе, и кудрявый лес на горизонте, и сухой скрежет кузнечиков, и русые волны от ветра на ниве.
Ничего этого не было у нас на Поэзии: только горячие скалы и клубы пара. Не планета — парная баня.
А в пару — герметический кокон и в нем шесть человек.
Какие есть, какие собрались. И еще в коконе телеширма, трехсторонний экран и к нему фильмы: цветы, но без запаха, поле, но без истомы.
Хочу домой, на Колыму.
Впрочем, нет. «Хочу» я услышал позже, когда мы прожили почти год на Поэзии, после дня большой беды.
Ты хорошо помнишь этот день. Обычное утро, купание в тесном бассейне, вкус кисловатой местной воды на губах. Завтрак. Хлопотливая Кира в белом переднике. Гена у радио — ловит земные известия. Хозе развивает свою любимую тему:
— Нет, как хотите, человечество мельчает. Героизм остался во втором тысячелетии. Мы сильнее как инженеры, а как люди слабее. Научились перебрасывать горы, а жертвовать жизнью разучились. Вечером вчера я читал про последнюю войну с фашистами. Вот люди были: грудью ложились на пулемет, на таран шли. Знаете, что такое таран? У летчика снаряды кончились, тогда он бросает свой самолет на врага… взрывается вместе с ним.
— Войны давно забыты, к счастью, — говорит Дитмар. — У нас нет нужды жертвовать.
— А была бы нужда, все равно не решились бы.
— Решились бы, — уверяет Гена.
— Нет. Духу не хватило бы.
И тут стол вздрогнул, как будто грузокиба прошла за окном. Я так и подумал о грузокибе, не сообразив, что на Поэзии нет ни одной.
А Дитмар догадался сразу.
— Олимп садится! — крикнул он. — Перегрузили!
Мы все вскочили как на пружинах. Сколько разговоров было в последние дни не перегружен ли Олимп? И запрос присылали, и комиссия приезжала. Но что комиссия? Еще не строили гор такой высоты, еще никто в истории не формовал планет, не совсем ясно было, как пройдет процесс затвердевания.
Уже держа шлем в руках, Дитмар распоряжался отрывисто:
— Хозе — с Геной. Яр — со мной. Поднимемся, примем решение. Возможно, срежем лишнее, по варианту номер один. Кира, остаешься старшей. Радируй на спутник и станциям.
Кира сдержанно кивнула головой. А ты обняла меня, посмотрела расширенными глазами.
— Осторожнее, Яр, — прошептала ты. — Береги себя.
Хозе не удержался от замечания:
— Интересно, в двадцатом героическом, когда мужья шли в бой, их тоже просили воевать осторожнее?
— Да, просили, — сказала ты с вызовом. И поцеловала меня, приподнявшись на цыпочки.
А Кира только вздохнула. Дитмар не любил нежностей.
Мы выбежали в ангар. Домик наш все подрагивал, под полом глухо гудело и громыхало, как будто там шла напряженная работа или ворочался громадный змей, спавший веками, а теперь проснувшийся и стряхивающий скалы, приросшие к чешуе.
Взвившись в стратосферу, мы увидели, что Дитмар прав. Черный лик Олимпа утопал сегодня в дымном воротнике. Видимо, по обводу горы возникли трещины, начались извержения, и дымные линии пепла поднимались до половины горы. До темени гиганта они не могли достать. Сверкая на солнце, базальтовый шлем плыл в лиловом небе выше бурь, выше пепла, как бы презирая мелкую суету извержений.
Но мы понимали: эта незыблемость кажущаяся. На самом деле Олимп продавил свое основание, проломил кору, выдавливает из-под себя магму, начинает погружаться, и чем дальше, тем быстрее будет погружаться, может быть, станет ниже окружающих хребтов.
— Разгрузим, как решено, — сказал Дитмар. — Резать будем на отметке плюс двадцать два.
— Сбросим десять километров сразу? — переспросил Хозе по радио.
В голосе его слышалось восхищение. Он восхищался, как художник, получивший сложное задание. Десятикилометровой горой ему еще не приходилось играть.
— Девять получим сдачи, — заметил Дитмар.
Он имел в виду общеизвестный закон гор и льдин. Льдина легче воды на десять процентов, поэтому только на одну десятую высовывается из воды. Горы плавают на магме, которая тяжелее процентов на десять, поэтому у каждой горы девять десятых находится под землей. Если гору уменьшить, подземное давление выпрет ее.
Так в наши дни на Земле всплывает Гренландия, освобожденная от ледника. Срезав десять километров с Олимпа, мы могли надеяться, что подземное давление вернет нам девять или по меньшей мере семь-восемь километров.
Хозе распоряжался кибами-пилами, так что в первую минуту я бездействовал, оставался только зрителем. Пил я не видел, они сверкнули где-то сбоку, уходя к горе. Вскоре Олимп опоясала радуга — как обычно, на линии разреза преломлялись световые лучи. Затем над радугой появилась темная щель; казалось, Олимп усмехнулся, усмешка растянула пасть от уха до уха. Поднялась пыль, а тучи, резко изогнувшись, устремились вертикально вверх, к солнцу. Щель росла, пасть раскрывалась все шире, обнажая раскаленный докрасна зев. И вот, снявшись с головы, чёрная шапка повисла над алым, словно оскальпированным теменем.
Я никогда не забуду, Муза, этого зрелища. Я срезал сотни гор на Поэзии, но с Олимпом было по-особенному. Ведь все срезанные горы взлетают со скоростью падающего камня. Но камень ты замечаешь только вблизи, когда он со свистом проносится мимо, а на гору можно смотреть и издали. На Олимп мы взирали с расстояния в сорок километров. Перспектива уменьшила масштаб скорости… взлет происходил с удивительной плавностью. Казалось, гора нехотя снялась с пьедестала, повисла, парит, колеблется. Такой большой горы, как Олимп, и такой медлительной мы еще не срезали ни разу.
— Яр, готов?
Я застегнул браслеты биотоковой команды, вытянул руки. Вспыхнули отражения за стеклом. Повинуясь моему жесту, кибы-осы, все десять, покинули гнезда под крыльями самолета.
Теорию антитяготения ты знаешь. Мы сделали разрез шириной в сорок километров, — значит, Олимп должен был взлететь километров на сорок за счет ликвидации тяготения и еще на сорок по инерции. Падая с высоты в сорок километров, камень набирает скорость больше километра в секунду. Мы должны были добавить еще семь, чтобы окончательно вышвырнуть Олимп с планеты, превратить его в спутник для начала. На высоту в сорок километров гора взлетает за две минуты, столько же летит по инерции. Значит, в нашем распоряжении были две минуты, чтобы развить космическую скорость.
— Приступай, — сказал Дитмар.
До этой секунды я волновался. Жалел Олимп, восхищался размахом предстоящей задачи, завидовал спокойствию Дитмара, опасался за исход дела. Но тут переживания исчезли. Осталось только одно: желание сделать дело как следует. Я могу рассказать, что я заметил и что предпринял. Но эмоций не было, эмоции пришли позже.
Смотрел я только на экран. На следящем экране черный силуэт горы казался неподвижным. Я вытянул руки вперед, ускоряя кибы. Вскоре цветные огоньки уселись на черном конусе. Кибы-осы легко догнали гору и автоматически причалили. Помню, голубая киба опоздала на несколько секунд, я уже хотел начать без нее. Но тут вспыхнул и голубой огонек. Я перенес пальцы на клавиши.
— Готов, — доложил я Дитмару.
— Действуй. Хозе, действуй тоже.
Я нажал все клавиши сразу. Аккорд, недопустимый в музыке.
Еще раз!
Еще!
За окно я не смотрел, но уголком глаза ощущал световые вспышки. Агомные взрывы подстегивали летящую вверх гору. Стрелка допплерметра уже показывала два километра в секунду.
Но тут и начались неприятности.
Ведь мы до сих пор имели дело с естественными монолитными горами. Они подскакивали, как мячи, почти не крошились и не трескались. Осадочных пород на Поэзии еще не было, выветривание только еще началось, поэтому не было слоистых и рыхлых гор. Но Олимп был сборной горой, мы его складывали сами. И, хотя мы проклеивали кладку лавой, все-таки монолитность не получилась. Под атомными ударами гора начала крошиться на лету. Откололись два порядочных массива, на одном сидела зеленая оса, на другом — оливковая.
— Я уведу их в пространство, — сказал Дитмар, надевая на свои пальцы зеленое и оливковое колечки.
Отколовшиеся массивы легко набрали скорость и исчезли из виду. Секунд за двадцать Дитмар разогнал их до космической скорости, еще через полминуты спустил ос, вернул их на главный массив.
Но за эту минуту от Олимпа откололись еще три куска. На одном из них сидела красная оса, на двух не было киб.
Я переместил туда фиолетовую и лимонно-желтую кибы, передал еще три колечка Дитмару. Но на главном массиве у меня осталась половина ос.
Мы теряли время со сменой колечек, мешали друг другу на клавишах. Мы теряли время, боясь ускорить взрывы, боясь, что гора рассыплется вся. И теряли время, разгоняя ее половиной ос.
И теряли энергию, отсылая и возвращая кибы из пространства. После второго рейда за пределы атмосферы зеленая оса погасла, затем оливковая, затем лимонно-желтая.
Антитяготение осталось в стороне, уже не помогало нам. С трудом, с трудом мы удерживали скорость на уровне четырех километров в секунду. Описывая баллистическую кривую, гора скользила вниз, в атмосферу. Она уже светилась от трения, оплавленные пылинки кометным хвостом тянулись за ней.
— Роняем, — сказал я Дитмару.
— Уроним, — согласился он. — Видимо, на Лукоморье.
— Неужели на Лукоморье?
Я мысленно представил себе эту благодатную равнину, будущую курортную зону Поэзии. Там уже начались посевы бактерий для очистки атмосферы, для создания почвы. Сотни биологов уже работают там. И вот им на голову со скоростью почти космической валится гора, целый астероид. Взрыв, подобный тунгусскому, только в миллион раз сильнее. Лукоморье выжжено, превращено в кратер…
— До океана не дотянем хотя бы? — спросил я. Позже, в следующие месяцы, не одно совещание обсуждало ошибку Дитмара. Но я не уверен, что тут была ошибка. Да, безопаснее было разбирать Олимп по кирпичу, каждую скалу провожать на место. Но ведь мы строили гору год, значит, и разбирать пришлось бы около года. За это время Олимп утонул бы в магме, похоронив все труды. Спасти его можно было только решительной операцией. Никто не знал, что гора начнет рассыпаться на лету. Непредвиденное неизбежно во всяком новом деле. Когда-нибудь, когда люди соорудят сотни планет и тысячи Олимпов, все опасности будут известны наперечет, и кибам поручат это дело, как им поручают сейчас сборку самолетов на конвейере. Но мы на Поэзии — пионеры, мы идем ощупью, попадаем в ловушки иногда.
— До океана не дотянем хотя бы? — спросил я.
Дитмар наклонил голову набок, словно прислушивался к чему-то.
— Двигатель отказал, — бросил он скороговоркой. Прыгай, я за тобой.
— А Олимп?
— Ос отдаю Хозе. Он справится. Прыгай!
И сам выдвинул герметическую дверцу между нами, что-то крича вдогонку. Мне послышались слова: «Кире помоги!» Странные слова, но тогда я не подумал об их значении. Катапульта выбросила меня из самолета. Некоторое время я летел камнем, потом наконец увидел купол парашюта над головой. Прильнул к окошку. Мне хотелось увидеть, куда садится Дитмар, чтобы самому спуститься поближе. Но второго парашюта не было в синем небе. И самолет не собирался падать. Чертя огненную прямую, он стремительно догонял висящую в синеве гору.
И тогда я понял, что Дитмар обманул меня. Вынужденная посадка не грозила нам. Просто Дитмар решил поступить, как летчики героического двадцатого. Когда снаряды кончались, они шли на таран. И Дитмар пошел на атомный таран, чтобы помочь ослабевшим кибам. Спасая Лукоморье, пошел на верную смерть. Потому и заставил меня прыгать, потому и крикнул: «Кире помоги!»
Позже я увидел… мысленно вижу и сейчас укоризненные глаза Киры. «Почему ты не заменил его?» — спрашивали они. И даже ты спросила меня как-то:
«Неужели ты не догадался?» Представь себе: не догадался. Мне было сказано: «Прыгай!» Раздумывать было некогда, я подчинился. Все время у меня было такое чувство: «Я тут новичок, самый неопытный. Дитмар лучше знает, что надо сделать, Хозе сделает лучше».
А Дитмару не на кого было надеяться. Он знал, что никто не примет за него решения и нет других решений… кроме последнего — смертельного.
Я еще в воздухе был, когда самолет догнал гору, свечкой пошел вверх. Огненный след изогнулся тангенсоидой, воткнулся в подошву горы. Вспыхнуло второе солнце. Синее небо стало белым, облака — пестрыми, как цветы, из желтой дымки вдруг выглянули дальние хребты, каждая расщелина стала явственной, словно ее подрисовали тушью. Оставляя огненный хвост, Олимп вознесся в небо, в космос, где для каждой горы хватит места.
Что я чувствовал тогда? Ужас и стыд. Мне было так стыдно за свою недогадливость, за бездумное послушание, за то, что я с такой готовностью ринулся с самолета, за то, что думал о своем спасении, когда Дитмар думал о моем и о спасении Лукоморья.
Впрочем, о своем спасении мне пришлось подумать всерьез. Второе солнце подернулось дымкой, дымка сгустилась, стала черной тучей. Под ней зазмеились смерчи… меня рвануло, перевернуло, понесло. Мелкие камешки застучали по кабине, заскрежетали пылинки. Кувыркаясь, я несся назад к Олимпу. В голове мелькнуло: не попасть бы в разрез. Вспомнились жуткие рассказы: как атомы гасятся, как электроны тают на краю разреза. Ноги у меня онемели, и я с ужасом глянул на них: не тают ли? Кое-как управляя парашютом, я выбился из урагана, попал в завихрение, в затишье за горой…
И — бум-м! — ударился о камни.
Где я? Вокруг высились острые скалы, набросанные в беспорядке. Так выглядели вблизи горы, сброшенные нами с неба. С воздуха я наизусть знал этот район, внизу он казался незнакомым. Только по дальним горам я определился. Я был где-то у подножия Олимпа, вероятнее — на плато Илиада. Примерно двести километров по прямой до Музы. Полчаса летных. Когда-то придется совершить этот получасовой полет? Конечно, идти пешком мне и в голову не пришло. Кто же ходит пешком в наше время?
И я уселся на кабине верхом, ожидая, когда прилетит помощь.
А мысли вернулись в тот же круг.
Почему, почему я не заслонил Дитмара, позволил ему пожертвовать собой, жизнью искупить ошибку?
И была ли ошибка у нас, можно ли было иначе решать — разгружать Олимп постепенно?
Или ошиблись проектировщики? Сам Лоха? Заранее можно было подсчитать предельную, критическую высоту; возможно, горы тридцатикилометровой высоты вообще неустойчивы на планетах такого размера, как Земля или Поэзия?
И сколько часов придется ожидать мне, пока Гена и Хозе заметят наше отсутствие, догадаются, что меня надо искать, начнут искать, заглянут на плато Илиада, увидят меня сидящим верхом на кабине?
Неужто всю ночь придется сидеть? А мне так хотелось обнять тебя, Муза, уткнуть лицо в нежные ладони, поведать свои сомнения. Когда еще отведешь душу, услышишь слова ласкового утешения!
О тебе я мечтал, Муза, в этой мрачной пустыне на каменном плато, среди нами же набросанных скал.
И, вздыхая, водил взглядом по небу. И не сразу заметил, что за спиной у меня разгорается зарево. Оглянулся. Дальний склон обвела розовая каемка, как будто солнце выходило из-за горы.
«Атомное зарево?» — подумалось в первое мгновение.
Но каемка ширилась, заливая не небосклон, а склон горы, потом врезалась в ложбинку, выпустила красную ниточку. Ниточка потянулась вниз, светлое как бы разрезало темную тушу горы.
«Лава! — догадался я. — Куда она движется? Да сюда же, ко мне на плато! Бежать, бежать!»
Я соскочил со своего круглого сиденья. Метнулся вперед, вправо, влево, как заяц перед автомашиной. Помчался, как на беге с препятствиями, перепрыгивая через камни поменьше, обходя скалы. Падал, проваливался в трещины, выскакивал, не замечая ушибов, не чувствуя боли.
А зарево позади все разгоралось. До ушей доносился характерный шум, словно лязг стальных гусениц транспортной кибы. Все ближе, явственнее. И вдруг зарево впереди тоже. Справа, из ущелья, которого я не видел, выкатилась темно-красная, цвета догорающих углей, река. Я перевернулся в воздухе, кинулся налево. Но и слева утесы уже светились, озаренные сзади приближающейся лавой. Мне надо было обогнать или левый язык, или правый.
Пот заливал глаза, сердце колотилось, разинутый рот не успевал наполнить легкие. Хрипя и задыхаясь, я мчался вперегонки со смертью. Лава справа, лава сзади… Сумею ли обогнать левый поток? Падаю, ушибся… Вскакиваю. Секунда потеряна… Режет грудь, а лава бежит, бежит втрое быстрее меня. Как в страшном сне — дракон надвигается, протягивает когти, а ноги ватные. Упал. Не успею. На зубах кровь, в глазах красно. Да, красно, потоки сомкнулись впереди, я окружен, я погиб.
— Мама!
«Мама», крикнул я. Не «Муза».
Толчок. Лечу вперед с растопыренными руками.
Вспышка. Удар. Звон в голове и черная штора… сначала плотная, потом кисейная. И выплывает из кисеи синевато-пепельная равнина с огненными прожилками, догорающий самолет с задранным кверху хвостом и две фигуры лежащая и стоящая на коленях.
Считанные секунды: толчок, вспышка, удар. Я был ошеломлен, ничего не понял. А оказывается, в эти секунды вместилось множество событий.
Гена с Хозе уже искали меня, заметили с неба мою беспомощную фигуру, удирающую от лавы. Гена ловко спикировал, подобрался ко мне сзади на бреющем полете, Хозе подхватил на лету, втащил в самолет. Но, как бывает часто (старожилы Поэзии утверждают, что это правило), спасающие пострадали больше спасаемого.
Ведь им некогда подумать о своей безопасности, они торопятся и рискуют. Когда Гена с Хозе заметили меня, я был уже окружен лавой. Оставались секунды, даже скафандры некогда было застегнуть. Гена успел спикировать, но вывернуться среди скал не успел. Самолет задел крылом скалу, загорелся, только по инерции перемахнул через поток. Опаленный Гена как-то ухитрился приземлиться благополучно. Хозе охватило пламя, у него было обожжено лицо и руки. Мне досталось меньше всего: ведь я-то успел застегнуть скафандр.
Обожжены, но всё же живы. Точнее сказать: временно живы. Три человека на голой земле, как в первобытные времена. Запасы только в скафандрах. Еды и питья на два дня, воздуха — на четыре.
Гена сказал:
— Ногами надо идти, пешком, прадедовским способом, во вкусе Хозе. Найдут ли нас за четыре дня — неизвестно, а дойти мы дойдем… доползем как-нибудь.
А искать идущего не труднее, чем сидящего.
Расчет был простой: двести километров — это пятьдесят часов непрерывной ходьбы, примерно двое суток. Сутки прибавляем на отдых. Еды у нас на двое суток, воздуха — на четверо. Дойдем?
И мы пошли.
Сначала по кромке долины мимо пика Макбет, потом через ущелье Короля Лира на южный склон хребта, по плато Зимняя Сказка, которое, по проекту, будет ледниковым, а дальше — уже по равнине в обход отрогов.
Мы шагали по рыхлому пеплу, увязая по щиколотку.
Шагали по литому камню, гладкому и скользкому, словно танцевальный каток.
Шагали по потрескавшейся лаве, похожей на хлебную корку, шагали и перепрыгивали через трещины.
Шагали по камням морщинистым, которые больно наминали подошвы.
Шагали по осыпям, проклиная камни неустойчивые, переворачивающиеся под ногами.
Вскоре мы узнали, что наша бодрая арифметика не имеет никакого отношения к ходьбе. Двести самолетных километров не равны двумстам километрам на суше: на суше это триста или больше. Мы узнали также, что если человек неторопливой походкой пройдет четыре километра в час, то это не значит, что он пройдет сорок километров за десять часов.
И еще мы узнали, что четырехсуточный запас кислорода не обязательно обеспечивает дыхание на четверо суток. Может случиться, что какой-нибудь скафандр, у Хозе например, попавший в огонь, будет прожжен и воздух начнет просачиваться понемножку наружу, а восстановить герметизацию в пути будет нельзя, нечем.
Мы шли по Поэзии и по планете совсем незнакомой. Оказывается, у нашей планеты было два лица — для самолета одно, для пешехода иное. Километры в самолете — это цифры, мелькающие в спидометре, они журчат и свистят, поспешая навстречу. Горизонт торопится провернуться, подставить ландшафты один другого лучше. Пространство покорно самолету. А над пешеходом оно властвует. Горизонт застывает в величавой неподвижности, час, а то и два бредешь до ближайшего холма, километры растягиваются на полную тысячу метров, на полторы тысячи шагов, а шаги требуют дани — волдырей на подошвах, боли в пояснице. Мы, люди XXIII века, утратившие пешеходный глазомер, с удивлением отмечаем, как неподвижны для пешеходов дали. Я чувствовал себя выброшенным в далекое прошлое, во второе или даже в первое тысячелетие, когда техника еще не родилась, только мускулами боролись люди с природой.
Я даже сказал Хозе:
— А ты доволен? Ведь мы спрыгнули с парашютом в прошлое. Нравится тебе в прошлом?
— Наконец ты понял! — отозвался Хозе. — Мы прыгаем очень часто. Каждое приключение — визит в прошлое, И каждый человек мечтает о приключениях.
— А мне твое хваленое прошлое не нравится, — заметил Гена. — Медлительное оно. Мне в прошлом скучно. Я уважаю скорость.
Кажется, это был последний разговор на отвлеченные темы. Потом мы говорили только о пути, думали только о ногах.
Мы шли по гладкому базальту, скользкому, словно каток для танцев.
Шли по растрескавшейся лаве.
Балансировали на осыпях, где камни перекатывались под ногами.
Обходили скалы.
Переползали.
Сползали.
Шли. Шли. Шли.
Камни гладкие. Камни морщинистые. Камни плоские и ребристые. Камни мелкие и крупные. Камни твердые и перекатывающиеся.
Шаги. Шаги Шаги.
Даже борьба за спасение Олимпа, даже гибель Дитмара растворились в этой однообразной ходьбе.
Хозе — ценитель прошлого — сдал первым Не от слабости тела или духа. Он пострадал больше других при аварии. Обожженное лицо воспалилось, начался жар.
А главное — в скафандр к нему просачивались из атмосферы метан в углекислота, а кислород уходил.
Хозе стеснялся напоминать нам почаще подновлять воздух.
Мы вели его под руки по камням.
Гладким. Морщинистым, Плоским Ребристым. Мелким. Крупным. Треснувшим. Перекатывающимся.
По рыхлому пеплу.
По лаве.
По осыпям.
Потом мы тащили его на спине.
По пеплу. Лаве. Осыпям. Камням. Гладким. Морщинистым Ребристым.
Болела спина. Подгибались колени Горели подошвы.
И ком стоял а горле, рот не успевал наполнить легкие. Я считал шаги: один, два, три. Через пятьсот шагов Гена сменил меня, взваливал на спину обессилевшего товарища. Но все-таки мы шли. Мы надеялись дойти. Страшнее было сидеть на месте и ждать помощи: успеют — не успеют? Пепел.
Камни.
Шаги.
На каком-то привале, когда подошла Генина очередь тащить, а я лежал ничком, набирая силы, до меня донесся разговор, не для моих ушей предназначенный. Мои товарищи забыли, что разговаривают по радио и я тоже слышу каждое слово.
— Очень тяжело? — спросил Хозе.
Гена ответил:
— Всю жизнь я мечтал оседлать Пегаса, не думал, что Пегас оседлает меня.
Ты бы слышала, каким безрадостным тоном была сказана эта шутка!
Хозе сказал еще грустнее:
— Не будь меня, вы с Яром дошли бы. Я хочу открыть клапан. Пусть один погибнет, но не трое.
— Попробуй только!
— Надо подумать о Музе тоже, — настаивал Хозе. — Мы должны спасти для нее мужа. Она его ждет, не нас с тобой.
— Ты любишь ее? — спросил Гена.
— Люблю, ты же знаешь. И ты тоже. Так вот, давай проявим любовь, спасем для нее Яра.
Я никогда тебе не рассказывал, Муза, про эти слова, я считал, что это не моя тайна. А теперь жалею. Жалею, что ты не знала, каких друзей встретила на Поэзии.
А тогда, услышав, я закричал:
— Не смейте, друзья, не смей, Хозе, я не приму этой жертвы. Я сам отдам вам воздух. Потому что я виновник! Ведь вы же меня спасали и теперь из-за меня гибнете.
Но Гена сказал грубо:
— А ты куда лезешь, Яр? Я еще понимаю Хозе, у него голова набита старыми романами. Начитался, как люди бросали жребий, кому жить, кому помирать. У нас на переднем крае гак не поступают, у нас товарища не бросают. Все вместе вытаскивают, пока не вытащат. А не могут вытащить, никуда не уходят. Ну-ка, берись, Яр, понесем вдвоем. И чтоб глупостей я не слыхал больше!
И мы тащили Хозе.
По пеплу. По камням. Шаг. Шаг. Шаг.
Ныло. Горело. Резало. Перед мутными глазами плыла зеленоватая мгла.
Не помню, когда и как из мглы проявился спасательный самолет и лица… Лицо Киры, перекошенное болью, и твое, жалостливое и чуть брезгливое.
Не на меня ты смотрела — на воспаленные раны Хозе, на заплывшие глаза и обогрелый гноящийся нос.
А потом мы остались вдвоем на станции; ты и я, я и ты.
Хозе улетел на Луну — выращивать новое лицо.
Помнишь, как он прятался от тебя, не хотел, чтобы ты видела его без век и без чудесного орлиного носа?
И Гена покинул нас, отправился сопровождать Хозе.
И Кира улетела — к сыновьям на Марс. Я удивлялся тогда, как она переносит горе — без единой слезинки, со сжатыми губами. Такая она была открытая всегда, говорливая, а тут замкнулась, отталкивала сочувствие.
Я было пытался сказать в утешение: дескать. Марс это почти не космос, там безопасно и тепло, как на Колыме, спокойно и культурно. А она так взглянула, прищурясь, словно хлестнула взглядом, и отрезала:
— Мы, Дитмары, не боимся космоса. Когда сыновья подрастут, мы вернемся на Поэзию… или на другую планету посуровее. И дочерей привезу… с мужьями. Мы сдаваться не намерены.
Уехала. А мы остались вдвоем; ты и я.
И делать нечего. Олимп законсервирован, стройка прекращена. У меня хоть занятие: сопровождаю комиссии, пишу объяснительные записки, предлагаю измерительно-предупредительные системы на будущее. А тебе, художнику по горам, что делать? Что ты могла разрабатывать? Рисовать детали Олимпа просто так, для времяпрепровождения? Конечно, скучно.
Вот когда я услышал: «Хочу ва Колыму!»
Ты говорила: «Хочу поле… и чтобы пахло медом и полынью… и пусть будут золотые брызги лютиков, и ласточки, купающиеся в небе, и кудрявый лес на горизонте, и запах прелой хвои в том лесу, а под листочками в траве земляника, перезрелая, уже не красная, а бордовая, душистая, тающая во рту».
А что я мог тебе предложить? Банку земляничного варенья? Кинокартину с аромат-записью? Суррогат остается суррогатом. Цветы на экране благоухают, но их нельзя сорвать, зарыться лицом в букет. Перед глазами вьется лесная тропинка, но нет прохлады, нельзя сойти в сторону, лечь на мох, остудить разгоряченное лицо.
Ты говорила еще: «Хочу домой в Магадан. Хочу говор толпы, толкучку аэроранцев, подобную пляске поденок, пар над подогретыми тротуарами, шелест платьев в фойе. Хочу обнять маму и сестру, потетешкать ее младенца».
А что я мог предложить? Закажем радиоразговор?
До Земли девяносто световых минут, три часа от вопроса до ответа. Говори на весь космос «агусеньки», через три часа услышишь: «те-тя».
— Домой хочу.
— Ну, улетай, — говорил я. — Поскучаю один полгода.
— Нет, я с тобой хочу.
— Не могу же я оставить станцию.
— Найдут замену.
— Но я так стремился на Поэзию…
Эти разговоры возобновлялись ежедневно. Иногда со вчерашнего возражения, иногда даже с невысказанного, еще мною не сформулированного.
Мы стремились на Поэзию? Да, стремились. Но теперь познакомились с ней вплотную и убедились, что передний край не так хорош, приукрашен молвой. Голые скалы и рыжие смерчи приедаются. В любой земной долинке больше разнообразия, чем на всей планете Поэзии. Монотонные горы, монотонные дни и месяцы. Нельзя человеку вариться в собственном соку, он создан для общества. Только в гуще жизни люди растут, только на Земле подлинная культура и искусство. Живя на краю Ойкумены, скисаешь, увядаешь, выдыхаешься.
Геройство? Геройства на Земле меньше. Разве не герои медики, охраняющие нас от новых болезней, тюремщики невидимой заразы, запертой в пробирках? Разве не героична бессонная служба охраны от ураганов, наводнений, извержений, землетрясений? Разве не героичен труд ученых, которые в тиши лабораторий продвигаются в неведомое, открывают внутри миллимикрона вещи более удивительные, чем мы — за миллиард километров от дома, на планете, в общем очень похожей на Венеру?
Наука? Но для науки мы чернорабочие, мы добыватели сведений, в лучшем случае. Из космоса мы доставляем научное сырье, а перерабатывается оно на Земле лучшими умами, вооруженными совершеннейшими машинами. Открытия совершают на Земле, изобретения делают на Земле, потому что там центр мысли, мозг человечества. Ведь и Олимп не строится, законсервирован, пока на Земле не решат, как не повторить нашу ошибку, как предупредить провал горы. Даже для Дитмара, чтобы завершить его дело, надо ехать на Землю.
И, наконец, последний аргумент; люблю я жену или нет? Если люблю, я должен уступить, последовать за тобой на Землю. Ты же следовала за мной в космос, теперь моя очередь. Ради настоящей любви люди в воду бросались, сражались насмерть с дикими зверями и дикими фашистами. От меня требуется совсем немного: поступиться самолюбием и уехать. Не пострадает никто. Тысячи юнцов с охотой займут освободившееся место.
Люблю я по-настоящему?
И тут подошел годичный срок. Я должен был явиться на спутник, сказать коменданту, хочу я остаться еще на год или вызывать замену. Никто меня не попрекнул бы, скажи я: «Мы с Музой возвращаемся на Землю». И мы условились с тобой, что я так и скажу коменданту.
Помню, как ты веселилась, укладывая и отбирая какие-то сувениры: камни, рисунки, киноленты. Планета скал и смерчей казалась тебе уже не такой неприятной накануне отъезда, ты облетала окрестности, снимая на память кадры: сняла ту долину, где вы с Кирой подобрали нашу тройку, и плато Илиада, где торчала полузатопленная лавой моя кабина. Если бы ты знала тогда, если бы знала только!
Конечно, ты права: скалы Поэзии надоедают живому человеку. Даже самый прилет на спутник был для меня удовольствием. Кончились тучи и вихри, в звездном небе я увидел светящуюся баранку, причалил, вошел в кривой коридор. Увидел множество людей, сорок человек сразу. Лица — подумать только! — совсем незнакомые! И можно поговорить с каждым, расспросить, кто, откуда, чем занимается, какие новинки в его деле, какие новости на Земле, есть ли свежие киножурналы, пусть покажет немедленно.
Сорок человек, сорок непрочитанных романов!
И вдруг в толпе незнакомых милая веснушчатая физиономия. Гена! А рядом с ним кто-то страшный на вид, с розовопятнистым лицом, срезанным носом, совиными глазами без век.
Хозе! Ты ли? А почему…
Я замялся, проглотив вопрос. Он договорил за меня:
— Хочешь спросить, где мое новое лицо? Решил: обойдется. Девушки меня все равно не жалуют: и Кармен в Аргентине, и твоя Муза. А год терять жалко. Врачи говорят: год лежать в больнице. Не хочется, чтобы Олимп делали без меня. Потом соберусь, может быть.
— Но Олимп в консервации не знаю на сколько лет.
— Не знаешь? Да, верно, главного ты не знаешь.
И тут они рассказали мне. На Земле выяснили причину провала Олимпа. Действительно, нельзя было предусмотреть ее — временное особое состояние вещества на планетах типа Поэзии. И уже есть теория, разработаны меры система подземных киб с датчиками…
И есть проект. И я, как специалист по кибам, должен стать начальником станции.
— Лучше Хозе начальником, у него опыт больше.
— Как пострадавшего? — горько усмехнулся Хозе. — Нет, тут не страдания решают, а кибы. Ты не совестись, Яр, все понимают, что ты подходишь больше.
А Гена улыбался до ушей:
— Ребята, товарищи, вместе опять! Почти все: Яр c Музой и мы! Опять на переднем крае! Ну до чего же я Соскучился на этой причесанной Луне!
Муза, скажи теперь, мог я отступиться? Мог сбежать в Магадан, бросить передний край, товарищей, дело Дитмара? Мог? Конечно, я немедленно связался с тобой по радио и услышал ледяное: «Трус!»
— Трус! — сказала ты. — Даже поспорить побоялся, даже слова не сказал ради любви!
«Приеду — поговорим, — решил я. — Не кричать же о семейных делах на весь космос». Но поговорить не пришлось. Вернувшись на станцию, я увидел записку, приколотую к скатерти:
«Ты оказался трусливым и безвольным. Больше не люблю. Прощай! Не преследуй меня на Земле».
Диктуя это письмо, я смотрю на тебя, Муза, на твой кинопортрет. Ты наводишь уют в комнате, передвигаешь кресла, присасываешь полочки. Вот ты отдернула занавеску, недовольно наморщила носик, оглянулась на меня ласково и кокетливо.
Всегда одинаково: ласково и кокетливо, всегда одобрительно.
Все письма, отправленные тебе на Землю, я читал этой безмолвной Музе, твоему двойнику. Она улыбалась ласково, а ты отвечала жестко: «Больше не люблю, о чем разговаривать?» И я горестно вопрошал портрет;
«Почему разлюбила? Или не любила вообще?»
Подумаем еще раз, будем рассуждать здраво. Ты хотела, чтобы я во имя любви уехал с тобой. Но сама во имя любви остаться со мной не хотела. Быть любимой хотела, любить не хотела. Нет, здесь мы равны. И не надо привязывать к нашему спору любовь.
Что-то мы напутали оба. Вот я и хотел разобраться с самого начала, потому и рассказывал всю нашу историю тебе и себе. И, рассказывая, кое-что понял сам.
Ты обратила внимание на слова Хозе? Он сказал: " «Приключение — что визит в прошлое». Видимо, так оно и есть. Причина приключения — какое-то несовершенство» неумение, незнание, ошибка. И это несовершенство возвращает нас в мир борьбы и опасностей. В начале третьего тысячелетия человечество ушло из этого мира борьбы в мир надежный и обеспеченный… Мы простились с прошлым, но сохранили к нему нежность и уважение… как к отцовскому брошенному, негодному для жилья дому. Мы даже любим играть в прошлое: бороться… но по правилам, под наблюдением судьи, пойти в поход — туристский однодневный, переночевать в палатке, сварить кашу на костре, испытать свою выносливость и мужество. На самом деле это только игра в мужество. Ведь на руках у нас радиобраслет, и, если в палатке холодно спать, можно вызвать аэротакси и остаток ночи провести у себя в постели.
Ты любила эту игру в мужество, гордилась умением не пугаться. Ты не испугалась космоса, звездной бесконечности, метеорного обстрела, вулканов и смерчей Поэзии, страшных рассказов для новичков. Не испугалась.
Но на переднем крае прошлое было не воображаемым, а подлинным. Мы оба не сразу поняли это. По традиции, космос считается страной будущего. Да, техника здесь передовая… а условия жизни древние.
Еще нет морей, еще нет дождей, еще нет лесов, растений и животных.
Почти нет людей, еще нет городов, нет театров, аэротакси, нет Всеколымской службы радиобезопасности, следящей за каждым гуляющим.
И приключения тут подлинные, не учебно-туристские.
И опасности подлинные. И люди идут на таран, как в двадцатом героическом веке. И погибают в каменной пустыне, как в те времена, когда на Земле еще были пустыни.
И ты испугалась, Муза. Будем называть вещи своими именами: ты испугалась. Тебе захотелось в Магадан, к маме, зарыть лицо в подушки. Полная опасностей живописная Поэзия опостылела тебе, и опостылел Яр, привязывающий тебя к Поэзии.
Я не осуждаю тебя. Муза. Понявший не осуждает.
Я люблю тебя… но иначе, без прежнего восхищения.
Мне хочется приголубить тебя, укачать на руках перепуганную девчоночку, защитить, заслонить. Возможно, прав старик Лоха: передний край не место для девушек. Для женщин и детей создана благоустроенная Колыма.
Дети должны расти на Земле, для них Земля превращена в рай.
Но вот представь — вернулся бы я с тобой на Землю. Вырос бы у нас сын и спросил бы однажды: «А кто все это сделал, папа, — и Колыму и Магадан?»
И я начал бы рассказывать о подвигах наших предков: о землепроходцах, открывших Колыму, о партизанах, отстоявших этот край, о революционерах, о геологах, о шахтерах, о строителях XXII века, повернувших течения и ветры, подогревших вечную мерзлоту, приблизивших тропики к суровому некогда краю.
"А ты что сделал, папа?» — спросил бы меня сын.
И что я пробормочу, краснея? «Ничего. Пользовался. Жил, как полегче. Смотрел в кино, как другие отделывают новые планеты для моих внуков, твоих детей».
Что скажет, что подумает обо мне мой сын?
Кто же спорит с тобой. Муза? Конечно, Земля — центр человечества, конечно, жизнь в центре богаче, культурнее, заманчивее, легче, многообразнее, даже героичнее иногда. У нас на переднем крае хуже, труднее и опаснее. Но место мужчины там, где труднее и опаснее.
А триста лет назад, в героическом двадцатом, когда в Сибири была тайга и морозы как в Лейденской лаборатории холода и люди работали без скафандров, обжигая лица морозом, разве они уклонялись, разве бежали в города с отоплением?
А перед тем, когда на переднем крае рвались снаряды и рвали тела в клочья, разве солдаты бежали в тыл прятаться в лесах, пережидать, пока их товарищи отобьют врага?
А еще раньше, когда богатые душили бедных и самая мысль о равенстве считалась преступной, разве борцы за коммунизм пугались тюрем, сдавались на милость жандармам, разве давали обещание переждать, пока их товарищи отберут власть у царя?
Так было, так будет. Когда-то на переднем крае сажали в тюрьмы и вешали, когда-то стреляли и убивали, потом фронты военные исчезли, остались строительные. Передний край проходил по целине, по тайге, в пустынях, во льдах, на дне океана. Сейчас он на планетах новостройках типа Поэзии, потом продвинется за пределы солнечной системы, к другим звездам, R другие, галактики, может быть. Я не знаю, не могу представить себе даже. какова будет жизнь в том галактическом тысячелетии, но я знаю твердо: передний край будет всегда, пока человечество не перестанет расти, и всегда на переднем крае будет труднее, и всегда передний край потребует самых стойких.
Я не хочу выписываться из почетной когорты стойких.
А ты решай для себя.
Голос Яра оборвался. Еще шелестела некоторое время лента, потом хриплый басок кибы объявил: «Лента кончена, вставляйте другую». Молодая женщина вздрогнула и выключила гнома.
Лицо ее пылало от обиды. Нет, каков? Столько самомнения и высокомерия! Мужчина, царь природы!
А сам купается в пережитках. Залез на край света, в прошлое и бахвалится отсталостью. Она ему скажет… она найдет слова… высмеет претензии. Объяснит, что высшие достижения тут, на Земле, тут наука, тут героический труд. Не будь Земли, они дня не выжили бы на переднем крае. Идеи отсюда, пища отсюда, отсюда машины…
Впрочем, Яр и не порочил Землю. Он только сказал:
на переднем крае жить хуже. Тяжелее и опаснее.
Настойчивое покалывание заставило ее взглянуть на радиобраслет. Выразительное лицо режиссера виднелось на экранчике.
— Дорогая, для вас сюрприз, чудеснейший подарок. Мне принесли новую пьесу из современной жизни. Блеск! Называется «Мы на переднем крае». Автор побывал на планете Поэзия, привез зарисовки, подлинный конфликт, фольклорные стихи. «Молотобоец, бей с плеча, куй планету, пока горяча!» Муза, вы рождены для этой темы. Тут вы развернетесь. Алое, черное, молот, наковальня.
Не спорьте, я знаю, что вы в восторге. Думайте об эскизах. А «Макбета», милая, я у вас возьму. Это старина, и ее надо оформлять по старинке. Не выключайте. Не выключа…
Так на чем она остановилась? Земля питает передний край. Идеи отсюда, пища отсюда, отсюда машины…
И вдруг художница поняла, что в любых ее возражениях только один смысл. Можно подобрать самые хлесткие и убедительные, но все они означают одно! «нет».
«Нет» — переднему краю, и «нет» — любви.
Она скажет «нет» и навеки останется в уютном Магадане рисовать декорации к пьесе, посвященной мужу. Быть рядом или вспоминать, рисуя?
Заслужить уважение или воспевать уважаемых?
В сумрачной комнате терпеливо ждет домашний гном, подставив для ответа плоские лапы.
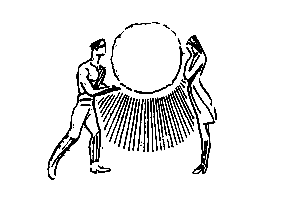
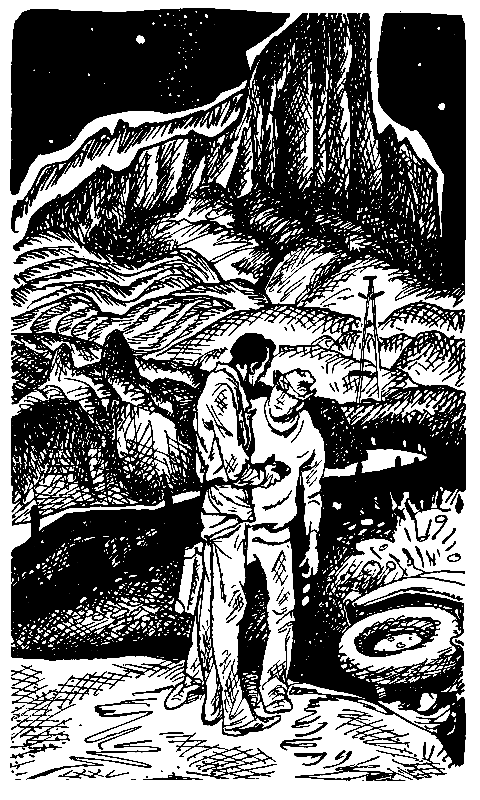
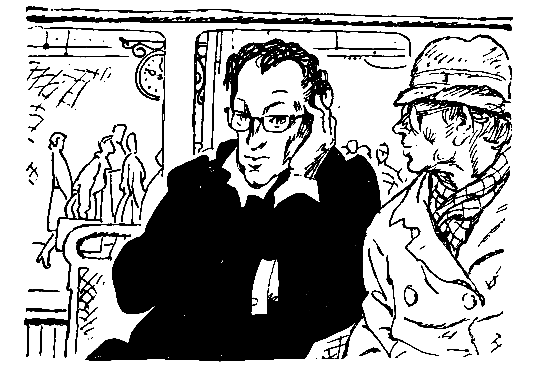
Назад: ЭПИЛОГ
Дальше: МЕСТОРОЖДЕНИЕ ВРЕМЕНИ

