Книга: Летать или бояться
Назад: Э. Ч. Табб Люцифер!
Дальше: Дэн Симмонс Две минуты сорок пять секунд
Том Бисселл
Пятая категория
Том Бисселл – один из лучших и самых интересных (это не всегда одно и то же) американских писателей. Наряду с научно-популярными произведениями, такими как «Дополнительные жизни: почему видеоигры имеют значение», он написал сценарии видеоигр, например «Жернова войны», и стал соавтором получившей признание критиков книги «Горе-творец: Моя жизнь внутри “Комнаты”», которая была экранизирована; фильм завоевал несколько премий, исполнителем главной роли и режиссером выступил Джеймс Франко. Бисселл, освещавший войну в Персидском заливе в качестве журналиста, успел также написать несколько выдающихся рассказов. Тот, что приводится ниже, об авторе ряда спорных юридических документов, который просыпается в пустом самолете, летящем из Эстонии, – один из лучших.

Джон очнулся от какого-то тут же забывшегося сна, словно наэлектризованный. Все еще мало что соображая, он тем не менее со скоростью пулемета Гатлинга произвел «самоперезагрузку». Заснуть в самолете – все равно что заплатить кому-то, чтобы тебя грубо разбудили среди ночи. Как ни странно, Джон не помнил, как заснул. Более того, он не помнил даже, чтобы ему хотелось спать.
Последнее, что он помнил: он пьет диетическую колу и болтает с соседкой, Яникой, высокой эстонкой с лицом озорной лесной нимфы, которая сказала, что впервые летит в Штаты. Джон решительно не помнил, ни как натягивал одеяло до самого подбородка, ни как засовывал под голову восхитительно мягкую подушку, на которой покоилась сейчас его голова. А должен был бы помнить. Еще с детства у него вошло в привычку, прежде чем окончательно отключиться, твердо зафиксировать в памяти положение, в котором он засыпает, – «ложечкой», «ножничками», в позе мертвеца, эмбриона или морской звезды. Лишь два раза в жизни он проснулся в той же позе, в какой заснул. Джон представлял себе сон как путешествие во времени. Что-то происходило, шла умственная работа, двигались части тела, а ты ничего об этом не знал.
Яника исчезла, в салоне было темно, самолет, по его соображениям, летел теперь над Атлантикой. Вероятно, она пошла размяться. Ох уж эти европейцы с их разминками во время полета и обычаем аплодировать при приземлении. Шторки на всех таблетках-иллюминаторах салона были опущены. Свет исходил только от оранжевых ламп внутри салона. Джон поднял свою шторку. Того, что он увидел, не могло быть. Его рейс приземлялся в Нью-Йорке в четыре часа дня. Это не был ночной перелет. Тем не менее снаружи – ночь. Лишь теперь до Джона дошло, что пустует не только кресло Яники. Пусты и остальные сорок с чем-то мест бизнес-класса. Он расстегнул ремень безопасности.
Уютно расположенные парами кресла бизнес-класса были просторно рассредоточены, и никакие верхние багажные отделения не мешали Джону обойти весь салон. На многих сиденьях лежали скомканные одеяла. На других наушники были воткнуты в соответствующие гнезда на подлокотниках. С полдюжины подушек валялось на полу. Под многими сиденьями осталась ручная кладь. В одном ряду кто-то выставил в проход поднос, на котором стояли бутылочка из-под красного вина величиной с флакон духов и пластмассовый стаканчик. Все кресла производили такое впечатление, будто их покинули внезапно.
Случилось что-то, подумал Джон, что увлекло всех в салон эконом-класса. Пьяный финн пырнул ножом бортпроводника. Сердечный приступ. Он мысленно поставил многоточие и раздвинул синие занавески, заставлявшие пассажиров второго, или эконом-класса лишь догадываться, чего они лишены. Он нащупал серую с белыми крапинками перегородку, с которой свисала занавеска, и это отчасти вернуло ему ощущение реальности.
Перед ним простирались тридцать затемненных рядов пустых кресел. Потрясенный, Джон сделал всего один шаг и потянулся за своим айфоном, поняв, что его нет, еще до того, как рука коснулась кармана. Несмотря на темноту, он увидел несколько неотчетливых контуров в первом ряду кресел: книги в бумажных обложках, газеты, дипломат. Чем дальше он углублялся в салон, тем становилось темнее, словно он входил в синтетические дебри.
Двигаясь по узкому проходу пассажирского лайнера, он явственно ощущал: что-то не так. Добравшись до кромешной тьмы, царившей в хвостовой части, он почувствовал себя запертым в совершенно незнакомом чулане. Его руки шарили в темноте, пытаясь считывать Брайлевы знаки видимого мира. Откидные сиденья стюардесс были подняты. Рядом с одним из них оказался вмонтирован держатель для фонаря, Джон выхватил из него фонарь и повел лучом. Кухня: длинные серебристые ящики, как на подводной лодке, в самом дальнем углу – пустая тележка для раздачи еды. Он развернулся, луч высветил контейнер с надписью «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ», потом он перевел сноп света на одну из запасных дверей самолета – огромную, похожую не столько на дверь, сколько на фасад эскимосской хижины иглу. Через крохотный иллюминатор Джон видел, как крыло самолета нарезает слоями облака, клубящиеся в беззвездной ночи. Он повернулся к коммутационному пульту для бортпроводников, покрытому многочисленными рычагами и кнопками. Хотя это был рейс финской авиакомпании, все надписи были на английском. В самом низу панели имелась красная кнопка «ЭВАК.». Он скользнул взглядом вверх: несколько кнопок «ВЫЗОВ» (все темные), маленький зеленый экран, на котором высвечивалась какая-то совершенно непостижимая информация, кнопка объявлений для пассажиров и, наконец, осветительный щиток, на котором кнопок не было – только рычажки. Джон тут же принялся их переключать.
В загоревшемся резком свете он открыл дверь в туалет, почти ожидая увидеть необъятную комнату, в которой несколько сотен человек, летевших на этом борту, поджидали его в остроконечных шутовских колпаках, чтобы начать осыпать конфетти. Но кабинка была пустой, удивительно белой, и в ней пахло дерьмом и мятой. Прозрачные пузыри на застоявшейся воде украшали металлическую раковину.
Джон метнулся обратно, через салоны второго класса, бизнес-класса, первого класса и вскоре очутился перед дверью кабины пилотов, которая выглядела надежно укрепленной. На техническом языке это, кажется, называется «усиленная». Как войти, было неясно. Любая демонстрация силы вблизи пилотской двери казалась Джону и неблагоразумной, и потенциально незаконной. Поэтому он постучал. Не получив ответа, попробовал открыть дверь. Заперто. Он постучал снова. Потом заметил маленький, высотой по колено, шкафчик. Внутри находились четыре желтых спасательных жилета и тяжелый стальной воздушный компрессор. Джон посмотрел на переднюю аварийную дверь, еще одну эпически-бесстрастную громадину, которую он едва ли сумел бы открыть в случае необходимости. Но зачем бы ему это понадобилось? Однако то, что он уже начал размышлять, как выбраться, было не слишком хорошим предзнаменованием.
Он вспотел. Его тело, словно наконец приняв, проанализировав и отвергнув информацию, посланную мозгом, начало бессмысленную контратаку. Из желудка – своего плацдарма – оно выплюнуло самую последнюю съеденную пищу в кишечные кольца. Джон стоял, сжавшись, прислушиваясь к работе своего сердечного насоса, его легкие ритмично заполнялись и опустошались. Шторка, разделяющая произвольные и непроизвольные функции организма, была сорвана с карниза. Нервная система, казалось, изо всех сил сконцентрировалась на том, чтобы не отключиться.
Он молотил в дверь кабины пилотов и кричал, что что-то случилось и ему нужна помощь. А когда силы иссякли, прислонился лбом к наружной обшивке укрепленной двери. Его дыхание сделалось кислым и насыщенным микробами, как содержимое чашки Петри. Он чувствовал себя слабым и беззащитным. Вдруг он услышал какой-то шум из-за двери и отскочил назад. Потом снова медленно подошел ближе и приложил к холодному металлу ухо, накрыв его сложенной ковшиком ладонью. По ту сторону двери пилотской кабины самолета без пассажиров кто-то плакал.
Ему советовали не покидать пределы Соединенных Штатов и его адвокат, и его благожелательные коллеги по университету (которых было больше, чем кто-либо думал: Джон, в сущности, являлся душой преподавательского состава), и те немногие представители юридических кругов, с которыми он еще поддерживал отношения. Но когда полгода назад впервые пришло приглашение выступить на конференции («Международное право и будущее американо-европейских отношений») в столице Эстонии Таллине, Джон сделал то, что делал всегда: посоветовался с женой.
Одним из преимуществ ухода с государственной службы, которое он ценил больше всего, было то, что теперь он снова мог разговаривать о работе с женой, а она была способна на то, в чем он нуждался больше всего, – проникать в его мысли, когда ему это требовалось, и вовремя отступать безо всякой просьбы с его стороны. В последние два года она была его доверенным лицом, его стражем, нянькой и стабилизирующим фактором. Тем не менее это были самые трудные ночи за весь период их брака: отрывки его так называемого «Меморандума о пытках» просочились в печать, после чего были рассекречены и дезавуированы, о чем его даже не предупредили. Его жена не была единственным человеком, с которым он считал возможным обсуждать свои намерения написать такой меморандум. Все журналисты, которые находили время, чтобы встретиться с ним, признавали, что предполагаемый вурдалак оказался вполне приличным человеком.
Сообщив жене о приглашении на конференцию, он признался:
– Первой моей мыслью было отказаться. Но потом я решил, что хочу лететь.
Двумя годами ранее один из судов Германии возбудил дело по обвинению его в военных преступлениях, но с тех пор жернова машины правосудия едва сдвинулись с места. Другой иск был подан полгода назад в суд Калифорнии осужденным американским террористом и его матерью, утверждавшими, что юридические записки Джона привели к жестокому обращению с истцом во время его пребывания в заключении. Джон не спорил – хотя, разумеется, не мог признать, – что с негодяем плохо обращались в тюрьме, однако то, что линию причинно-следственной связи прочерчивали в обратном направлении непосредственно к нему, свидетельствовало о своего рода наивном юридическом креационизме. Хотя формально Джон не имел никаких ограничений в передвижениях, мысль о том, чтобы покинуть воздушное пространство Америки, наполнила его незнакомыми прежде опасениями. Это его шокировало. Но и придало смелости.
– Только чтобы твой рейс не проходил через Германию, – ответила жена. – А также через Францию или Испанию. Я бы избегала и Италии на всякий случай.
Он догадался, что она приняла его желание лететь за шутку, и выждал минуту, прежде чем сообщить ей, что́ ему нравится в Эстонии: это молодая страна, еще не утратившая памяти об угнетении. Он всегда интересовался странами бывшего советского блока и посткоммунистическими государствами в целом (в конце концов, тем, что он стал американцем, Джон был обязан только побегу своих родителей от корейского коммунизма). Он не думал, что ему есть чего опасаться в Эстонии, которая официально была союзницей Америки в войне. Знала ли его жена, что в мире живет всего миллион эстонцев? Вероятно, сказывалось его корейское происхождение, но он чувствовал странное родство с малочисленными, часто подвергавшимися захвату и помыкаемыми другими нациями народами. Его восхищают, не без пафоса сказал он, их провинциальные амбиции. Он без зазрения совести взывал к собственным чувствам жены – непростым, учитывая ее вьетнамское наследие.
Она спросила, как он может быть уверен, что это не ловушка, устроенная, чтобы подвергнуть его публичному унижению. На это у него уже был заготовлен ответ. Организаторы мероприятия, безо всякого побуждения с его стороны, заверили, что никакие темы, которые он не пожелает обсуждать, подниматься не будут. Они знают о судебных исках и пообещали оградить его от неприятностей в ходе любой дискуссии, создав спасательную капсулу. («Спасательная капсула». Их слова, не его. Как всякий «ботаник», выросший в 1970-х, Джон хорошо ориентировался в реалиях «Звездных войн».) Более того, посольство Соединенных Штатов осведомлено о приглашении Джона. («Осведомлено». Их слово, не его. Средней руки посольство, вроде посольства США в Эстонии, без сомнения, густо нашпиговано прислужниками администрации и профессиональными «отпускниками». Учитывая, что Джон был единственным бывшим членом администрации, настаивавшим на обсуждении решений, которые он предлагал, будучи ее членом, он пользовался среди них такой же популярностью, как прокаженный с колокольчиком на шее.)
– Но тебе все же придется говорить обо всем этом, не так ли? – спросила жена.
Джон сам часто подобным образом осаживал своего адвоката. Он не боялся защищать себя при условии, что его собеседник не окажется оголтелым пропагандистом. После того как Джон дал интервью «Эсквайру», его адвокат неделю с ним не разговаривал. А потом прочел не такое уж нелестное резюме журнала и сказал:
– А вы хитрец, советник.
Джон улыбнулся жене. Разумеется, он будет говорить обо всем этом. Но он знал, что можно говорить, а чего нельзя. Он ведь юрист.
Когда он сообщил организаторам конференции, что приедет, те были удивлены не меньше, чем обрадованы. Он – единственный участник-американец, сказали они, и поэтому его вклад в дискуссию неоценим. Было решено, что он выступит с часовым докладом перед окончанием вечернего заседания, а потом ответит на вопросы, часть из которых, предупредили они, могут оказаться враждебными. Джон ответил по электронной почте, что это будет чудесно. Ему доводилось выступать перед аудиториями, более кровожадными, чем, по его представлениям, может собрать Эстония. Прежде чем дать согласие, он связался с посольством в Таллине. Там были в курсе готовящейся конференции и пожелали ему успешной поездки. Он подозревал, что это последнее, что он от них услышит.
Через полгода он провел два часа в аэропорту Хельсинки, ожидая пересадки. Когда два представителя финской службы охраны остановились поболтать возле выхода на посадку, которой ожидал Джон, он почувствовал необъяснимую нервозность. Не то чтобы Интерпол выписал ордер на его арест. Но какой человек может быть совершенно спокоен, зная, что суды на двух континентах рассматривают вопрос о его виновности в совершении преступления против человечности? Он считал, что находиться здесь – смелость с его стороны. На самом деле нет. Эта мысль была ему отвратительна. Он был преподавателем и юристом – именно в таком порядке – и не помнил, когда в последний раз повышал голос. Он не помнил, чтобы за сорок лет своей жизни намеренно причинил кому-нибудь зло. Финские стражи порядка ушли.
Джон поднялся на борт самолета до Таллина, заново подпитавшись энергией анонимности. К тому времени, когда в иллюминатор по правому борту стали видны шпили и красные крыши пункта его назначения, он был уверен, что сделал правильный выбор. До своего отеля в Старом городе он добрался уже в полдень. Процесс регистрации оказался неожиданно приятным. Организаторы конференции прислали цветы. Он позвонил им, чтобы выяснить, как доехать до места, где будет проходить вечернее заседание. Оказалось, что зал располагался менее чем в трех кварталах, в другом отеле – «Виру». Нет-нет, спасибо, он сам дойдет туда пешком. Его выступление было назначено на восемь часов вечера. Это означало, что у него целый свободный день в Таллине, и он потратил его на то, чтобы выспаться и смахнуть с себя кошмар суточного перелета через десять часовых поясов.
В пять часов Джон был бодр, выбрит, одет в костюм цементного цвета с голубой рубашкой (без галстука) и шел по Старому городу в поисках места, где поужинать. Организаторы предлагали прислать сопровождающего, но он отказался. Он хотел обозначить свое присутствие на конференции с той же неожиданностью, с какой, бывало, входил в класс. Если кто-то из участников конференции действительно хотел вступить с ним в конфронтацию, то чем меньше у них будет времени нажать на болевые точки, тем лучше. Прелести Старого города были многочисленны и совершенно нелепы. Никакое человеческое существо не могло бы здесь жить. Все это выглядело как съемочный павильон для какого-нибудь эльфийского эпоса. Улицы – таких грубо мощенных мостовых он в жизни не видел, – казалось, меняли названия на каждом перекрестке. Вдоль большинства из них тянулись пивные бары, рестораны, магазины, торгующие янтарем, – и больше ничего. Туристов было легко отличить от местных жителей: все, кто не работал, были туристами. У средневекового ресторана на Ратушной площади молодые эстонцы, одетые как девицы и кавалеры из Ганзейского союза, наблюдали, как их коллеги изображали поединок на мечах. На одной из улочек длиной в один квартал ветерок донес до него запах метана: трехсотлетней давности трубы канализации были лишь малой частью таллинского прошлого, нуждавшегося в модернизации. Сходство многочисленных декоративных черных шпилей на церквях Старого города вводило его в заблуждение. Каждый раз, когда он избирал один из них своим компасом, указывавшим, как он считал, на отель «Виру», выяснялось, что это какая-то другая башня. В течение двух часов он бродил, чувствуя себя немного заблудившимся.
По высоте и архитектурной брутальности «Виру» Джон догадался, что в советскую эпоху тот был отелем «Интуриста». В вестибюле он увидел «стену славы», на которой были запечатлены имена самых знаменитых гостей: спортсменов-олимпийцев, музыкантов, актеров, арабских принцев и даже самого президента. Его заключенная в рамку записка управляющему отеля на листе бумаги с официальной шапкой Белого дома гласила: «Благодарю также за красивый свитер и шляпу». После консультации с дежурным администратором за стойкой, поездки в лифте на этаж, где проходила конференция, и химической атаки одуряющими духами ехавшей вместе с ним дамы Джон прошел по толстому ковру коридора к столу регистрации. Сидевший за ним молодой человек указал ему на группу людей, которые вежливо ожидали перед входом в конференц-зал, когда оратор закончит свою речь. До выступления Джона оставалось полчаса. Он присоединился к ожидавшим удобного момента войти в зал, щедро украшенный позолотой и люстрами.
Оратором была немка. По переводу ее речи, воспроизводившемуся на экране на французском, эстонском и английском языках (его тоже попросили заранее прислать текст своего выступления, что он и сделал, заручившись обещанием организаторов поручить перевод носителю языка), Джон понял, что его ждет более жесткий прием, чем он предполагал. Все употреблявшиеся ею клише он уже слышал раньше. Она закончила свою речь под аплодисменты, ответила на вопросы, после чего был объявлен десятиминутный перерыв. Когда люди стали подниматься со своих мест, другая женщина в глубине зала заметила Джона и, узнав его, с улыбкой направилась к нему. Джон двинулся ей навстречу, маневрируя среди встречного потока участников.
Это была Илви, одна из организаторов, с которой он все это время держал связь, профессор юриспруденции Тартуского университета. Очень молодой профессор, что сразу расположило к ней все еще моложавого на вид Джона. Они обменялись рукопожатием, после чего Илви начала стискивать ладони, словно лепила маленький глиняный шар. После обмена любезностями – как прошел полет, удалось ли поспать, понравился ли Таллин – она спросила:
– Вы готовы?
Джон рассмеялся и ответил:
– Полагаю, да.
Она тоже рассмеялась, ее ногти блеснули желтоватым лаком. У Илви были обветренные губы и курчавые каштановые волосы, напоминавшие шляпку гриба. Удлиненное лицо с угловатыми чертами вызывало в памяти кубистскую живопись, и его своеобразная миловидность становилась очевидна только после долгого вглядывания.
По какой-то необъяснимой причине Илви подвела Джона к немке, только что закончившей осыпать его страну проклятиями. Та вела беседу с четырьмя окружившими ее людьми. Судя по всему, ей было не в новинку оказываться в центре внимания, а им – это внимание проявлять. Все эти конференции одинаковы. Словно участникам раздавали сценарии и указывали их роли. Когда Илви назвала его имя, все повернулись к нему. Он улыбнулся и протянул руку. Только один из них, пожилой мужчина в толстой шерстяной спортивной куртке, снизошел до рукопожатия, хотя и он сделал это с покорностью узника по отношению к своему тюремщику. Теперь улыбка Джона напоминала попытку умирающего изобразить безмятежность. Никто не произнес ни слова.
Гораздо дольше, чем ему хотелось бы, Илви – то ли расстроенная, то ли не обращавшая внимания на неловкость его положения – стояла рядом, потом подвела Джона еще к нескольким группам участников конференции, встретившим его ненамного теплее. Наконец она проводила его на сцену. Он плюхнулся на единственный стул и достал текст своего доклада из внутреннего кармана пиджака. Илви стояла на помосте кленового дерева, по-учительски поглядывая на часы.
Джон уже привык, что с ним обращаются как с парией, хотя нельзя было сказать, что его это не ранило. Иногда студенты (не его студенты, конечно, а его группы были всегда переполнены) надевали на рукав черные повязки и молча стояли на ступеньках крыльца юридической школы, ожидая, когда Джон пройдет мимо, направляясь к себе в кабинет. Раза два они облачались в оранжевые комбинезоны заключенных тюрьмы в Гуантанамо. Он всегда желал им доброго утра и один только раз остановился поговорить с ними. Их претензии были столь многочисленны и разнообразны, что оспаривать их было все равно что спорить с поэзией битников как таковой. Подобный опыт не столько сбил его с толку, сколько разочаровал. Джон не хотел, чтобы эти студенты или кто-то еще соглашались с ним. Он уважал аргументированное несогласие. Единственное, чего он хотел, это чтобы кто-то еще помимо него признал, что проблема не так проста, как кажется.
В начале войны были захвачены двое военнопленных. Один был гражданином США, другой – Австралии. По каким законам их судить? Джон считал, что следует углубиться в очень давнюю историю американской юриспруденции – индейские войны, законы о пиратстве, – чтобы найти юридически уместные аналогии. Некоторые сотрудники министерства юстиции настаивали, чтобы пленному американцу зачитали его права, но не нашлось бы такого суда на земле, который бы не признал, что военнослужащих, совершивших преступления во время боевых действий, следует судить по особым законам. Обращаться с этими людьми как с обыкновенными преступниками означало бы отвергнуть все, что известно из прошлого. Американский и австралийский задержанные, утверждал Джон, не могут пользоваться защитой, предоставляемой военнопленным в соответствии со статьей 3 Женевской конвенции. Не имея звания, не принадлежа ни к какой определенной армии, не подчиняясь определенной субординации – а это необходимое условие, при котором, в соответствии со статьей 3, военнопленные получают защиту, – эти люди не могут рассматриваться как военнопленные ни в каком юридическом смысле.
Когда в Пакистане был схвачен третий по иерархии руководитель «Аль-Каиды», ЦРУ обратилось к Джону с просьбой предоставить им необходимую нормативную базу. Это заняло у него бо́льшую часть лета 2002 года. Джон не мог припомнить, чтобы когда-либо работал усерднее и тщательнее. Ему пришлось дать определение, нарушает ли практика допросов, применявшаяся ЦРУ за пределами США, обязательства, взятые ими на себя в соответствии с Конвенцией против пыток 1984 года. Поэтому он прежде всего изучил вопрос о том, что именно называется пыткой, и выяснил, что пыткой в Конвенции называется «любое действие, причиняющее сильную боль или страдание, как физического, так и нравственного свойства, намеренно примененное по отношению к человеку». Стало быть, термин «боль» входил в юридическое определение. Американцы в качестве приложения к своей ратификационной грамоте добавили более подробное определение пытки как «действия, намеренно направленного на причинение сильной боли или нравственных страданий». Что такое «сильная боль»? Что значит «намеренно направленного»? Джон сверился с соответствующей медицинской литературой. Может ли врач точно определить термин «сильная боль»? Врач не мог. А сам закон? И закон не мог. Факт состоит в том, что можно сколько угодно исследовать вширь и вглубь юридические документы в поисках рабочего определения «сильной боли», и вы никогда там его не найдете. Поэтому Джон – безо всякого удовольствия – выработал собственное определение: пытка – это действие, при котором «сильная боль» достигает «такого уровня, когда она наносит достаточно серьезный физический ущерб, такой как смерть, отказ какого-либо органа или серьезное нарушение жизненных функций организма». Что же касается «продолжительного нравственного страдания» – еще один термин из невразумительного языка Конвенции против пыток, – то он нигде не упоминается ни в американской юридической и медицинской литературе, ни в международных документах о правах человека. И снова Джону пришлось придумывать свое определение. Основанием, по которому моральный вред можно назвать пыткой и тем удовлетворить требование соответствия термину «длительное нравственное страдание», является конечный результат, который, по мнению Джона, должен быть равен посттравматическому стрессовому расстройству или хронической депрессии, продолжающейся в течение значительного времени, то есть несколько месяцев или лет. Джон разработал эти нормы только для ЦРУ и только в отношении тех, кто подпадал под определение «объекты особой важности», но ни в коем случае не в отношении обычных заключенных, и тем более не в Ираке, где статья 3 Женевской конвенции была безоговорочно применима. В рамках допустимых методов допроса, как настаивали агенты ЦРУ в Гуантанамо (они хотели, чтобы все, что сообщали узники, передавалось в суд, забывая, или предпочитая забыть, о том, что ни один из этих людей не мог быть судим каким бы то ни было иным судом, кроме военного трибунала), заключенным нельзя было и твинки предложить без того, чтобы это не сочли насильственным действием. Так было, пока не появились юридические записки Джона. Однако вскоре после того как разработанные им нормативы были преданы огласке, произошло нечто, совершенно для него неожиданное: главный юрист ФБР написал собственную «записку», в которой утверждалось, что методы допросов, свидетелем которых он был в Гуантанамо, являются незаконными. В тот же день, когда юридические записки Джона были рассекречены, Гонсалес дезавуировал их на пресс-конференции, заявив, что они «не отражают политику администрации». Этого Джон так никогда ему и не простил.
После того как Илви, представляя его, просто повторила резюме, которое Джон прислал ей в свое время, в аудитории раздались аплодисменты. Он прошел на трибуну, наклонился к микрофону, посмотрел на экран у себя за спиной, снова наклонился к микрофону и снова взглянул на экран у себя за спиной. В последний раз наклонившись к микрофону и сделав свой и без того приятный голос мягким, как детский аспирин, он сказал, что не уверен, чью речь ему следует произносить. Несколько разрозненных смешков – потом всеобщий хохот в зале. Джон обернулся к экрану еще раз и увидел, что на нем появился наконец первый абзац перевода его доклада. Ну что ж, подумал он, приступим.
Он разгладил первую страницу речи, которую произносил уже много раз, и взглянул на лица слушателей, сливавшиеся в пуантилистскую картину. Триста человек, подумал он. Выражение лиц скорее любопытствующее, чем враждебное. Что-то щелкнуло у него в голове одновременно с появившимися на экране словами. Не слишком ли далеко он зашел? Он был пожизненным профессором права одного из главных американских университетов, и в голову ему не единожды приходила мысль: почему он так решительно настроен защищать себя? Неужели сознание, что он может это сделать, было настолько утешительным?
В начале сентября 2001 года Джону было тридцать четыре, и он проводил экспертизу договора, наиболее существенный с юридической точки зрения пункт которого касался белых медведей.
Прежде чем вернуться на свое место, Джон испробовал еще несколько возможностей. Он раз пятьдесят шарахнул по двери пилотской кабины тяжелым стальным компрессором. Потом отправился в хвостовой отсек, нажал кнопку «Связь с командиром» на коммутационном пульте для бортпроводников и стал истошно кричать. Но его истерика оказалась бесполезной. Успокоившись и сев на место, он попытался найти разумное объяснение происходящему. Едва ли его накачали снотворным. Он в тот день ничего не ел и выпил только диетической колы вскоре после посадки. Стюардесса принесла банку, и Джон сам вскрыл ее.
Он мысленно воспроизвел фрагменты, которые сохранила его краткосрочная память. Утренний рейс из Таллина. Сорок пять минут в аэропорту Хельсинки. Тупая, тягостная процедура посадки. Насколько мог, вспомнил пассажиров. Болтливая Яника, эстонка, направлявшаяся в Соединенные Штаты. Похожий на лягушку-быка мужчина без шеи, сидевший рядом с ним перед выходом на посадку. Молодая женщина с густыми сросшимися бровями, в толстовке Оксфорда, улыбнувшаяся Джону на пути в салон второго класса. (Ни один азиатский мужчина не забудет улыбнувшуюся ему белую женщину, независимо от того, сросшиеся у нее брови или нет.) Молодой человек, которого Джон запомнил только потому, что тот был чернокожим. Похожая на отличницу девушка с тонкими прядями волос, в свободной белой блузе. Парень лет двадцати с небольшим в футболке с надписью: «ТЫ – ОТСТОЙ». Стюардессы в зеленовато-голубых брючных костюмах. На этом финском рейсе, в этих северных краях Джон остро ощущал свою азиатскость и предвкушал облегчение, которое испытает, вернувшись в Калифорнию, в свой университетский городок с его разнорасовой толпой на дорожках, музыкальными магазинчиками и закусочными, с многообразием запахов конопляных экстрактов.
Куда же подевался его айфон? Ясно, что его кто-то взял. Джон пошарил под своим и всеми другими креслами бизнес-класса. Что же делать? Что он мог сделать? Воздушный компрессор серьезно повредил дверь, оставив на его укрепленной поверхности множество вмятин и сбив ручку. Она лежала теперь в кармане у Джона, чтобы потом в случае необходимости можно было приладить ее на место, хотя он понятия не имел, как это сделать. В шкафу в хвостовой части самолета он нашел кое-какие инструменты. Сейчас они лежали на соседнем сиденье. Но сама дверь даже не дрогнула.
Внезапно испытав потребность ощутить реальность окружающих предметов, Джон выдернул из проволочной корзины сбоку от своего кресла журнал, – его плотно заламинированная обложка была холодной и скользкой, как стекло. Журнал рекламировал товары, продающиеся на финских рейсах. Даже невзирая на нынешние обстоятельства, покупательский зуд, охватывавший пассажиров в самолете, казался ему загадочным. Тем не менее он пролистал хрустящие плотные страницы. Жемчужное ожерелье за пятьдесят евро. Сухие дезодоранты фирмы «Дольче & Габбана» за двадцать евро. Тональная основа фирмы «Л’Ореаль» – за тридцать. Целые страницы европейских конфет и шоколада. Дойдя до последней страницы с рекламой электроники, он задержал взгляд на смартфоне «Блэкберри-керв 8310», работающем на солнечной энергии, ценой в двести сорок пять евро. Почти наверняка у десятков пассажиров этого рейса были телефоны, и какое-то их количество могло все еще оставаться в их ручной клади. Хотя связаться с кем-либо представлялось маловероятным, можно было найти приложение, позволяющее послать отложенное письмо по электронной почте или эсэмэску, которая пройдет, как только самолет снизится.
В тот момент, когда Джон встал, самолет тряхнуло, как бывает при входе в плотные слои атмосферы. Он снова сел и пристегнулся ремнем. Страх, который ему удалось было обуздать надеждой, вновь охватил его с бешеной силой. Он заставил себя глубоко дышать. Ему было неизвестно, который теперь час и сколько времени он провел в этом самолете, но шторка на его иллюминаторе, как и на всех остальных в бизнес-классе, теперь была поднята, и Джон снова уставился в ледяную тьму тропосферы. Он вспомнил жену, своих студентов, то, как они тревожились за него, и снова встал.
Собрав всю ручную кладь пассажиров бизнес-класса и разложив ее вокруг своего кресла, Джон странным образом испытал облегчение. Ему казалось важным держаться неподалеку от своего законного места, хотя объяснить почему он бы не смог. Он начал осмотр сумок, большинство из которых были небольшими. Люди, готовые платить по тарифам бизнес-класса, без колебаний сдают крупные вещи в багаж. Им не приходится толкаться в очереди на такси после приземления, их встречают иорданцы с маленькими белыми табличками, на которых написаны их фамилии. Расстегивая молнии, Джон шарил во всех отделениях и ощупывал находившиеся в них предметы. Он не хотел без надобности устраивать беспорядок в чужих вещах. То, что на ощупь казалось подходящим, он вынимал. К концу своих поисков он сидел, окруженный бритвенными принадлежностями, цифровыми фотоаппаратами, айподами, беспошлинными бутылками водки с надписями на кириллице, несколькими монблановскими ручками и гладкой розовой пластмассовой торпедой, в которой он не сразу распознал секс-игрушку. Было здесь и с полдюжины корпусов от компьютеров – все пустые.
Джон направился в салон второго класса, но прежде чем ему удалось опустошить первую багажную полку, его желудок послал очередную дозу горячих испражнений к точке выхода. Джон проковылял в туалет, на ходу расстегивая брюки, и содержимое кишечника исторглось из него прежде, чем он успел сесть на пластмассовую крышку металлического унитаза. Распространившаяся вонь не поддавалась никакому описанию. Сквозь нее каким-то необъяснимым образом пробивался запах апельсинов. Кишечная затычка открылась снова, испражнения вырывались мощными залпами. Теперь ему стало нехорошо, закружилась голова, мозг его можно было сравнить с инвалидом, которого никто не навещал уже несколько месяцев. Опорожнив кишечник, он вымыл руки.
Соблюдение приличий его больше не заботило. Он прошел вдоль первого прохода, распахивая верхние багажные полки и варварски вышвыривая их содержимое на пол. Довольно скоро он оказался по колено завален багажом. Неужели придется все это перерыть? Нет. Он осознал, что дал слишком много воли гневу, поэтому пришлось восстанавливать спокойствие, чтобы внимательно обыскать сумки. Джон перешел во второй проход, по дороге нажимая на замки багажных полок до щелчка, после которого дверцы сами медленно поднимались. Сколько же всего в этом самолете держалось на пластмассовых шарнирах! Он пари́л в металлической капсуле прямо под кромкой космического пространства, между тем как гигантские двигатели в пятнадцати метрах от него изрыгали невидимый тысячеградусный огонь. Это было ненамного удивительнее, чем реальность, внутри которой он оказался заперт.
Янику он нашел в третьем от конца прохода багажном отделении – хотя, учитывая, что багажные полки были соединены по три, фактически она занимала весь последний отсек, и при этом все равно едва в него втискивалась. Ее разбитое лицо со скосившимися глазами и ртом, заклеенным скотчем, отправило Джона в нокаут с мощью боксерского удара. Когда же он наконец нашел в себе силы снова взглянуть на нее, то увидел, что одна ее рука свешивается с полки. Она чуть-чуть подрагивала в такт вибрации самолета, которой сам Джон уже не ощущал. Он осторожно снял ее с полки. Когда ее тело лишилось опоры, ему показалось, что она набрала полсотни лишних килограммов веса. Он упал спиной на кучу ручной клади с выступающими из нее твердыми углами, Яника – на него.
В скошенных глазах Яники, оказавшихся почти вплотную к его собственным, но не видевших его, будто застыло выражение некоего последнего нежеланного знания. Высохшие сгустки запекшейся крови забивали ей ноздри. Щеки были покрыты паутиной лопнувших капилляров, сине-багровые вены на лбу и висках просвечивали сквозь кожу. Джон столкнул ее с себя, издав громкий протяжный обезьяний крик. Он попытался сорвать клейкую ленту с губ Яники, но звук мертвой кожи, сдираемой с мышц, оказался настолько мерзким, что он, бросив все как есть, помчался обратно в салон бизнес-класса.
Джон решил еще раз попробовать разбить дверь пилотской кабины компрессором, причем на этот раз не прекращать усилий до победного конца. Вбежав в салон, он увидел, что экран, на котором высвечивалась предполетная информация о правилах безопасности, опускается вниз. Затем беззвучно выключилось все освещение. Джона охватила паника. Сделав два шага, он споткнулся и упал. Ничего не видя, отползая назад, в салон второго класса, по груде наваленного багажа, он вспомнил неандертальцев. Назад, назад, в укрытие. Но укрытия не существовало. То, что он испытывал до сих пор, еще не было страхом. Страх оказался жидким, он циркулировал в его крови, заполнял резервуар мозга. Теперь Джон знал: настоящий страх черпает силу не в том, что может случиться, а в том, что случится наверняка и вы это точно знаете. У него над головой послышался тихий гул, он узнал его: по всему салону второго класса опускались экраны поменьше. Джон взглянул на ближайший. Он был включен, но пуст, мерцал, как виниловая пластинка, и был темнее, чем окружающая темнота.
Затем появилась зернистая картинка цифрового видео, хотя по нижнему краю бежала размытая волна. Джон находился слишком далеко, чтобы разобрать, что там изображено. Он встал. При ближайшем рассмотрении это оказалась маленькая обшитая фанерой комната, снимаемая с высокой точки в углу. В комнате находились две фигуры. На стуле за маленьким столом – женщина. Вокруг нее ходил мужчина в тяжелых ботинках, свободных черных брюках, черной безрукавке и черной лыжной маске. Звук был тихим и удаленным, очевидно, записанным без выносного микрофона. Сквозь снежную пургу помех Джон не сразу узнал Янику. Судя по всему, она была привязана к стулу и тихо, безнадежно плакала. Мужчина посмотрел в камеру, подошел к ней поближе и рванул ее. Видимо, камера не была закреплена, может, кто-то держал ее в руках. Изображение завертелось, но, несколько раз дернувшись, быстро стабилизировалось.
Второй мужчина, одетый точно так же, вошел в комнату через не попавшую в объектив дверь. Глядя прямо в камеру, он закрыл за собой эту дверь со странной деликатностью. Первый, тот, что теперь управлял камерой, должно быть, увеличил масштаб изображения, когда приблизился второй: его лицо в лыжной маске не заполнило экран постепенно, а ворвалось в него. Джон в упор смотрел на человека, тот, в свою очередь, в упор смотрел на него. Это тоже напоминало путешествие во времени. Теперь, когда самой Яники не было видно, ее рыдания сделались громче и пронзительнее. Или, может быть, она просто так отреагировала на появление второго мужчины.
Сам человек ничего не говорил. И в глазах его почти отсутствовало какое бы то ни было выражение. Отвернувшись наконец от камеры, он сел за стол и чем-то занялся – как понял Джон, стал что-то писать. Закончив писать, он снова обернулся к камере и поднес к ней тонкий белый листок, заполненный буквами, почти идеально прилегавшими друг к другу. То, что там было написано, оказалось для Джона неожиданным. Тем не менее он испытал благодарность, потому что теперь хотя бы понимал, что происходит и почему. Прежде чем переключить внимание на Янику, которая теперь уже выла в голос, мужчина положил бумажку на стол. Что же касается надписи, то она так и стояла у Джона перед глазами: «КАТЕГОРИЯ 1».
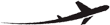
После выступления Илви спросила Джона, не согласится ли он выпить в Старом городе с нею и несколькими другими участниками, включая даму, выступавшую до него. Неужели эта женщина действительно так глупа? Джон отказался от приглашения с супервежливым поклоном и тысячей извинений, сославшись на усталость. Он начинал чувствовать себя здесь неким ненавистным призраком – не столько человеком, сколько неприятной идеей. Когда он шел к выходу, люди бросались врассыпную, словно он нес зажженную петарду, выстреливающую снопы искр. «Сколько же еще предстоит это терпеть?» – подумал он.
Несколько заданных ему вопросов и впрямь были враждебными, и самый острый задала пожилая дама из первого ряда, с лицом, туго, как каяк, обтянутым кожей. Она сердито спросила: что будет делать Джон, если Международный уголовный суд официально предъявит ему обвинение в военных преступлениях? Джон ответил, что не предвидит такого развития событий, и добавил, солгав: «Честно признаться, я не слишком этим обеспокоен».
Ему предстояло провести в Таллине еще один день. При мысли об этом он зашел в мужской туалет, находившийся в коридоре недалеко от конференц-зала, и начал тыкать пальцем в свой айфон, пока не установилось соединение. Устроители конференции оплатили его перелет, но – по его просьбе – оставили открытой дату обратного рейса. Через несколько минут его билет был перерегистрирован. Чудо. Менее чудесным был факт, что теперь он стал на полторы тысячи долларов беднее. Но это следовало рассматривать как сделку.
На выходе из туалета его поджидал до блеска выбритый мужчина. Его наряд представлял собой предназначенную для Хеллоуина версию костюма руководителя предприятия высокотехнологической отрасли: темно-синий пиджак спортивного покроя, без галстука, джинсы, кроссовки. По-видимому, американец. На его лице отразилось узнавание, которое явно было односторонним – Джон к этому так и не привык: вероятно потому, что никогда не мог определить, действительно ли это одностороннее узнавание. Этот мужчина знал, кто такой Джон, и предполагалось, что Джон должен быть рад встрече с ним. Каждый считает себя звездой собственной биографии.
Мужчина назвал Джона по имени и протянул руку. Визитка, украшенная печатью посольства, материализовалась в ней: «РАССЕЛ ГАЛЛАХЕР, АТТАШЕ ПО КУЛЬТУРНЫМ СВЯЗЯМ». По представлениям Джона, такие слова, как «атташе» и «культурные связи», должны были служить прикрытием для разведслужбы.
Джон попытался в ответ дать свою визитку, но Галлахер сказал, что в этом нет необходимости. Джон убрал визитку в карман и спросил:
– Вы – мой сопровождающий?
У Галлахера был мальчишеский смех типа «ой-не-щекочи-меня», хотя возраст уже проделал свою работу вокруг его глаз и начал отодвигать назад линию волос.
– К сожалению, нет. Вы не слишком популярны в посольстве. Возможно, вам это неизвестно, но они пытались помешать вашему приезду сюда.
Джон отдавал себе отчет в том, что для оставшихся верноподданных осколков администрации он является персоной нон грата. Но то, что посольство пыталось предотвратить его появление на международной конференции, поразило его. Этим людям что, делать нечего?
– Вы правы, – ответил он Галлахеру, – этого я не знал.
От сознания собственной смелости Галлахер снова расхохотался. Слишком уж он старается, подумал Джон.
– Но оказалось, что вашей подруге, профессору Армастус, не нравится, когда ею манипулируют. У нее тоже есть друзья. Чем больше усилий прилагало посольство, тем более решительно они старались заполучить вас. Кстати, вы произнесли прекрасную речь.
– Я познакомился с профессором Армастус только сегодня. И спасибо.
– Послушайте, – сказал Галлахер, уверенный, что теперь, о чем бы он ни захотел поговорить, все пойдет как по маслу, – я здесь по собственной воле, хочу сказать, что многие из нас благодарны вам за то, что вы сделали.
– Еще раз спасибо.
Галлахер самодовольно, но любезно посмотрел на Джона.
– Мой семидесятидвухлетний отец был ветераном Вьетнама. Одной из операций, в которых он участвовал, была операция «Феникс». Он всегда говорил, что операция получила столь неподходящее название потому, что разрабатывалась гениями, а воплощалась идиотами. Но даже при этом она была самой эффективной операцией, какую мы когда-либо проводили против Вьетконга. После войны даже сами коммунисты это признали. Мой отец служил в Сайгоне и рассказывал, что к тысяча девятьсот семьдесят второму году средняя вероятная продолжительность жизни главаря коммунистической ячейки равнялась четырем месяцам. Ничто из того, что вы отстаиваете, ничуть не хуже того, что делал мой отец в рамках «Феникса» и чем он гордился. Просто мне хотелось, чтобы вы знали, что многие из нас восхищаются вами.
Работая над своими записками, Джон, разумеется, ознакомился с операцией «Феникс». Он выяснил, что ЦРУ сделало внутреннее заявление о том, что «Феникс» будет «проводиться в соответствии с общепринятыми военными законами». Он также узнал, что некоторые американские офицеры подали рапорты об отставке, поскольку считали аморальным то, что им приказывали делать. Джон посмотрел на Галлахера. Назначение в неперспективную Эстонию говорило само за себя. Его отец охотился за коммунистами. Самое большее, на что мог осмелиться сын, – это бросить вызов своему посольству, сказав Джону, чтобы он выше держал голову. Консерватизм, приверженцем которого он, несомненно, был, не считался правильной философией. Это было плохим умонастроением. Несколько секунд оба молчали.
– Хотите выпить? – спросил Галлахер. – Судя по вашему виду, вам это не помешает.
Джон не хотел пить. Однако решил не отказываться. Они вместе вышли из «Виру» в еще светлый летний таллинский вечер. Джон спросил Галлахера, сколько он уже служит в здешнем посольстве.
– До этого я работал в Греции. В общей сложности десять лет. А еще раньше служил в морской пехоте. В тысяча девятьсот девяносто восьмом году получил капитана. Вышел в отставку слишком рано, чтобы поучаствовать в последующем веселье.
Они направлялись в центр Старого города. В слабеющем свете дома́ казались яркими, как в рисованной мультипликации. Люди пили за вынесенными на тротуары столиками кафе, пили на ходу, пили в ожидании, пока щель банкомата выплюнет язычки местной валюты. Джон заметил группки молодых русских с тяжелыми взглядами и нетвердой походкой; шедших рука об руку и горланивших песни шотландцев; неуверенно держащихся на ногах курильщиков перед входом в каждый паб. Заметил он также старушек-нищенок в обтрепанной одежде, не соответствовавшей сезону, – все они выглядели так, словно несли на себе какое-то нерушимое цыганское проклятие. Джон спросил Галлахера:
– С какого же рода культурой вы здесь поддерживаете связь?
Галлахер посмотрел на него.
– Вы удивитесь, но это занятное место для жизни, даже при том что эстонцы в некотором роде непостижимы. Один мой приятель играет на бас-гитаре, так вот он мне рассказывал, что, где бы он ни жил, он всегда имел возможность выступать на «Открытом микрофоне». Бас-гитаристы востребованы везде. Приехав в Таллин, он явился на «Открытый микрофон», а там на сцене уже стояли пять эстонских парней, бас-гитаристов, которые искали себе руководителя. Это нация бас-гитаристов.
Взгляд Джона зацепился за шедших им навстречу двух Фрей на высоких каблуках, в плотно, словно собственная кожа, обтягивающих джинсах. Эта парочка несла себя с таким видом, словно тайно жаждала постоянных низкопробных домогательств, и не без успеха. Вслед им неслись все мыслимые страстные призывы, выкрикиваемые по-русски.
Галлахер тоже заметил женщин.
– Ну, и это, конечно, тоже. В Таллине даже уродливые девушки по-своему хороши. Это компенсируется тем фактом, что даже наиболее интеллигентные из них по-своему глупы.
Когда девушки прошли мимо, Галлахер продолжил. Разговор о женщинах перетек в разговор о Финляндии, а тот, в свою очередь, – о советских спецназовцах и далее – в сжатую устную историю 1990-х. Он не делал переходов от одной темы к другой. Вскоре его монолог вернулся к отцу. Джон больше не слушал. Вместо этого он размышлял о само́м Галлахере. Волосы жидкие, слабые, цвета ржи – Галлахер часто проводил по ним от темени ко лбу: дурная школьная привычка, возродившаяся в среднем возрасте, чтобы скрыть наступление залысин. Воспоминания об отце пробудили в Галлахере какие-то неведомые обиды, хотя он по-прежнему упорно хохотал едва ли не после каждой третьей фразы.
– …вот что всегда говорил мой отец, – закончил он.
Джон, упустивший суть финала (возможно, в нем содержалась не одна, а несколько сутей), кивнул.
Галлахер тоже кивнул и добавил:
– Знаете, он ведь умер только в прошлом году.
– Сочувствую вашей утрате.
– Когда произошла утечка содержания ваших записок, мы даже обсуждали их с ним. Я поинтересовался его мнением. Он предсказал, что террористы начнут использовать наши собственные суды против нас. «Дерьмо! – сказал он. – Я лично нарушал третью статью Женевской конвенции. И не раз!»
Легкие морщинки озабоченности легли на лоб Джона. Это было ошибкой.
– Вот туда мы идем. – Галлахер указал на бар-погребок в глубине от нелепо-прелестной улицы Пикк, по которой Джон уже бродил сегодня днем.
Полуподвальные окна погребка были украшены гирляндами рождественских огней, никакой вывески на нем не было.
Джон не пил, во всяком случае, в том смысле, который обычно вкладывают в слово «пить». Бокал вина раз в несколько дней, всегда во время еды; иногда – кружка импортного пива в жаркий воскресный день, один хороший односолодовый виски после дорогого ужина. Когда Галлахер сказал «выпить», Джон представил себе, как они сидят в баре за бокалом коньяка. Существует важное правило, нарушая которое подвергаешь себя огромному риску: никогда никуда не ходи с человеком, которого мало знаешь.
Джон последовал за Галлахером вниз по бетонным ступеням, напоминавшим спуск в бомбоубежище. Дискомфорт, который он начал испытывать, еще больше усилился, когда Галлахер – свой парень, желанный гость – распахнул дверь и немедленно направился к бару, за которым стояло прекрасное видение. Галлахер тут же вступил с ним в беседу. Джон решил заключить с собой небольшое пари, чтобы посмотреть, сколько он здесь выдержит. Он сел за столик и стал ждать Галлахера, но, обернувшись, увидел, что тот держит в руках ладонь барменши, водя по неким замысловатым судьбоносным линиям на ней указательным пальцем. Барменша с улыбкой отняла руку и, отвернув кран, стала наливать пиво, между тем как Галлахер принялся самодовольно оглядывать зал. Вручив клиенту две пол-литровые кружки, женщина послала ему воздушный поцелуй. Галлахер отсалютовал ей кружками. Как только он повернулся к ней спиной, улыбка вмиг исчезла с ее лица.
Что касается других служащих, то в баре их, похоже, не было. Джон выбрал центральный из четырех столиков, который представлял собой лучший наблюдательный пункт. Рассеявшись вдоль одной стены ниши, оформленной изображениями трагических сцен, скрестив руки и держа сумочки на коленях, сидели с полдюжины молодых женщин, глазевших в потолок. В другом конце зала, на сцене размером со столик, за которым сидел Джон, танцевала еще одна женщина. Слава богу, это не был стриптиз, танцовщица не выказывала никакого намерения раздеться, хотя двигалась в томно-искусительной манере под такую тихую музыку, что Джон едва различал ее. Стены и ковер были цвета адского пламени – единственный узнаваемый мотив. То, что все это точно походило на расхожие представления о преисподней, не снижало впечатления. Галлахер уселся напротив Джона и подвинул ему кружку.
– До часу – двух ночи тут обычно немноголюдно.
Джон жестом обвел зал.
– Что это?
Припав к своей кружке губами, Галлахер приподнял брови. Потом, поставив ее на стол, проворно слизал пенные усы.
– Местечко для понимающих джентльменов. Не беспокойтесь. Ничего такого, чего бы вам не хотелось, не будет.
В этот момент танцовщица спустилась со сцены и села рядом с Джоном. Она была безумно красива в своем черном платье, которое могло бы поместиться в кошельке для мелочи, и, вспотев от танца, блестела – этакая экосистема в миниатюре.
Джон жалобно посмотрел на своего спутника:
– Галлахер, пожалуйста.
Галлахер снова рассмеялся:
– Один бокал, советник. Это отличное место, чтобы расслабиться, если не сдерживать себя. – Обращаясь к танцовщице, он добавил: – Милая, давай, садись рядом со мной.
Та подчинилась. От следующей женщины, которая подошла к нему, Галлахер отмахнулся, и она села рядом с Джоном.
Джон пожал ей руку. У нее были катастрофически тонкие ноги, эластичные брюки еще кое-как прилегали к бедрам, но болтались вокруг икр. Шея – стебелек, испещренный прожилками. Женщина жеманно шмыгнула носом и вынула две серебряные заколки из черных волос. Заколки были просто для видимости: ни одна прядь не упала ей на лицо. Женщина принялась рассматривать заколки, будто только что нашла их в прибрежном песке, ожидая, чтобы Джон заговорил. Потом водворила заколки на место и стала разглядывать свою ступню, которой притопывала по огненно-красному ковру, выглядевшему так, словно ему пришлось принять на себя множество желудочных извержений. Ногти на ее ногах имели цвет алюминиевой фольги.
Джон все еще ничего ей не сказал. Между тем Галлахер прекрасно ладил с танцовщицей. Казалось, что между ними происходил очень серьезный разговор. Соседка Джона закурила сигарету и сделала глубокую шумную затяжку, какие доставляют особое удовольствие курильщику. Дым заструился из уголков ее губ. Еще несколько минут спустя она ушла, и Джон остался один на один со своим пивом.
О чем его не спросили после выступления, так это о том, не мучили ли его сомнения, когда он писал свои записки. Иногда сомнения действительно посещали Джона. Они всех посещают. Джона беспокоило, что дознаватели не будут осознавать моральные ограничения так, как осознавал их он. Он также опасался того, что называют «дрейфом силы»: когда применяющий силу человек, не добиваясь успеха, применяет ее снова и снова, уже более интенсивно. В конце концов, интенсивный допрос простителен только в том случае, если есть серьезные основания полагать, что допрашиваемый что-то знает. Поэтому Джон никогда и не думал, что такой допрос будет применяться к кому бы то ни было, кроме членов «Аль-Каиды».
Джон понимал, что его аргументы спорны, а порой и сомнительны, но они основывались на законности, а не на моральных суждениях. Он исходил не из благоразумия или догадок о том, какие формы может принимать «интенсивный допрос». Он просто оценивал соответствие этих форм существующим законам. Его записки касались восемнадцати методов, разделенных на три категории. Первая категория ограничивалась двумя приемами: запугиванием (криком) и обманом. Вторая включала в себя двенадцать: пытку неудобными позами, изоляцию, до четырех часов стояния на ногах, игру на индивидуальных фобиях, предъявление фальшивых документов, проведение допроса в нестандартных местах, ведение непрерывного допроса на протяжении двадцати четырех часов, изменение рациона питания, обнажение, насильственное обыскивание, пытку темнотой и пытку громкой музыкой. Третья категория предназначалась только для самых тяжелых случаев и включала четыре приема: физическое воздействие средней тяжести, угрозу жизни заключенного или жизни членов его семьи, пытку экстремальными погодными условиями и симуляцию утопления. Существовала еще и четвертая категория, которую, слава богу, его никогда не просили оценить. Эта категория включала в себя только один прием – чрезвычайную экстрадицию в место, губительное для жизни заключенного.
Подумывая об уходе из юриспруденции, Джон сказал себе: вне ее ему будет лучше. Прогулки по осеннему университетскому двору, радость при виде студентов, ожидающих его возле кабинета, внутриуниверситетская атмосфера, какой в Вашингтоне не сыщешь ни за какие деньги. Министерство юстиции было музеем, и его мраморные коридоры вели к своего рода интеллектуальной прогерии: даже молодые люди здесь быстро становились стариками. Больше всех об уходе Джона горевал Аддингтон. «Неужели вы действительно хотите учить испорченных богатеньких деток, оправдывающих готовый на убийства пролетарский сброд?» – говорил он.
Через несколько месяцев после ухода Джона многие из его выводов были отозваны и их действие приостановлено. Позднее Джон узнал, что Аддингтон протестовал против этого, указывая, что президент доверял мнению Джона. В таком случае, отвечали ему, президент нарушал закон. Через пять месяцев разразился скандал вокруг тюрьмы Абу-Грейб. Через семь месяцев записки Джона были рассекречены. Гонсалес на пресс-конференции пообещал предоставить средствам массовой информации доказательства того, что в процессе применения интенсивных допросов проявлялась должная осмотрительность и надлежащая юридическая проверка обеспечивалась на каждом их этапе. Он действительно считал, что именно это было предметом спора. Джон никогда не забудет ту энергию гремучей змеи, которая клокотала на совещаниях Военного совета. Все они отличались поистине маоистской убежденностью: Фейт, Хейнес, Аддингтон, Гонсалес, Флэнигэн – люди, обретавшиеся в шаге от президента. Адвокаты адвоката. У нации случился сердечный приступ, и они держали в руках электроды дефибриллятора, совместными усилиями наскоро сочиняя юридическую стратегию для того, что до тех пор никакому законодательству не подлежало. Собирались они в кабинете Гонсалеса в Белом доме, иногда в министерстве обороны. Строгие, безо всякой обслуги и без записей встреч, на которых самой большой роскошью была диетическая кола. Во время таких совещаний Джон часто сравнивал себя с Гонсалесом. Он, Джон, был американцем в первом поколении, Гонсалес – сыном иммигрантов, бедных настолько, что у них не было даже телефона. И вот куда он взлетел: предначертывает политику страны в момент самого серьезного за последние полвека кризиса в сфере безопасности, является личным советником самого могущественного в мире человека. Вот такая она, Америка, и, чтобы защищать ее, Джон был готов на все, что не выходило за рамки закона.
А вот Фейт и Аддингтон – андроиды, которые смотрят на другие человеческие существа как на не более чем занятное сборище носителей разнообразных умственных сбоев. Ямочки на помятом кукольном лице Фейта были вместилищами яда. Он рассылал «записки» без регистрационных карточек, так что никто не мог точно знать, кому они были предназначены, или в качестве копии «другому получателю», до которого эта копия фактически никогда не доходила. Он произносил речи о священности Женевской конвенции только для того, чтобы подчеркнуть: нельзя позволить террористам осквернить ее непорочные принципы. Его юридическая аргументация так откровенно вводила в заблуждение, что внимавшие его речам о Женевской конвенции уходили в полной уверенности: статья 3 конвенции будет применяться ко всем, кого захватят Соединенные Штаты. К концу одного из монологов Фейта некий генерал из Объединенного комитета начальников штабов ошибочно уверовал, будто все восемнадцать методов интенсивного допроса санкционированы Уставом полевой службы. Ни один из них, разумеется, санкционирован не был. Речь шла, скорее, о создании новой разведывательной службы под условным названием «Агентство тотальной информации», эмблемой которой могло бы стать безумное масонское око, обозревающее мир с высоты. Око Фейта.
Что же до Аддингтона, глаза – как на русской иконе, борода – как у Линкольна, нрав – как у ручной гранаты. После атак Аддингтон стал носить в кармане конституцию, напечатанную на тонкой бумаге, которая так обтрепалась, будто ею пользовались как подставкой для стакана или носовым платком. Как только кто-нибудь выражал с ним несогласие, Аддингтон доставал ее и зачитывал избранные места. Особый талант Аддингтона состоял в умении облекать любые юридические или моральные аргументы в воинствующие выражения, между тем как речи на действительно военные темы он камуфлировал прозрачными эвфемизмами. Возможно, именно поэтому ему – единственному из всех – удалось выйти сухим из воды. Только его имя оказалось не упомянутым ни в одном соответствующем документе.
Они пытались устанавливать законы в сфере, где тикающая бомба замедленного действия представляет собой не бесконечно удаленную, как расстояние до Плутония, статистическую вероятность – каковой она должна была бы быть, – а устройство, готовое взорваться в любой момент. Теперь Джон это видел, но таков был лишь один из вариантов осмысления тех событий. Другой состоял в следующем: разведслужба – это способность распознавать применимость поступающей внешней информации. Лучшая часть этого знания заключалась в понимании того, что позволено забыть.
Пытке симуляцией утопления подвергли трех человек. Трех. И из-за этого он должен теперь отвечать на вопросы о военных преступлениях. Джон слышал, что его преемник сначала испробовал эту пытку на себе, чтобы решить, является ли ее применение переходом дозволенных границ. Ответ был: да. Но несмотря ни на что – ни на какие дебаты и разрушенные карьеры – ЦРУ по-прежнему разрешается использовать симуляцию утопления (Джон предпочитал этот более честный термин), что и было отражено в его записках с самого начала. Их основные положения вообще действовали до сих пор. Разумеется, никто из министерства юстиции не желал санкционировать применение этой пытки Центральным разведывательным управлением, но президент все же нашел своего человека. Он всегда его находил. Однако это было чрезвычайно мучительно, а Джон не любил мучиться. Хотел бы он видеть Фейта, или Гонсалеса, или Эшкрофта, или любого из них – одного, в европейском городе, отвечающим на вопросы о политике, которую они в свое время одобрили и которой теперь стыдились.
Джон посмотрел на свою пивную кружку, теперь представлявшую собой пустой стеклянный колодец. Он и не заметил, как выпил все пиво. Этак он может размышлять тут всю ночь, отдаваясь на волю темной волны памяти.
– Я ухожу, – сказал он Галлахеру, который продолжал свой сосредоточенный разговор с танцовщицей.
– Надеюсь, вы оставили время, чтобы посетить завтра Музей оккупации, – ответил тот, взглянув на Джона.
– Боюсь, не успею. Я утром улетаю. – Джон посмотрел на часы. Уже перевалило за полночь.
Галлахер откинулся на спинку стула.
– Жаль. В Таллине можно чудесно провести день.
– Спасибо за пиво, – сказал Джон, вставая. – Не беспокойтесь, я сам найду обратную дорогу.
Не поднимаясь, Галлахер протянул ему руку.
– Надеюсь, мы когда-нибудь еще встретимся. Хорошего вам полета.
У самой двери Джон обернулся, чтобы еще раз взглянуть на Галлахера. Тот уже говорил по мобильному, склонившись над столом; танцовщица привстала, собираясь уходить. Заметив, что Джон задержался в дверях, Галлахер не очень умело отдал честь. Трудно поверить, что этот парень служил в морской пехоте. Интересно, мелькнуло в голове у Джона, кому это он звонит?
Фильм о допросе Яники закончился минут через двадцать, а может, через два часа. В темноте невозможно ориентироваться во времени. При свете течение времени оставляет свои характерные отметины. В темноте оно напоминает езду по бескрайнему полю – нескончаемое однообразие, в котором таится много невидимого.
Джон не знал, чего от него хотели. Он сочувствовал тем, кого помог обречь на пытки, не более и не менее, чем до начала всей этой эпопеи. Его неправильно поняли. Они не разобрались в том, что именно он отстаивал. Тем, кто распоряжается этим самолетом, а теперь и его жизнью, от него не будет никакого проку, разве что они потешат свой садизм. В свою очередь, и ему нечем их вознаградить – только удовлетворением от созерцания его мучений. Пытка, как он писал в свое время, – это вопрос намерения. Теперь он знал, что это куда больше. Обмен темным знанием, выявление скрытых способностей, полное прекращение контакта с миром.
Вдруг Джон поймал себя на том, что неотрывно смотрит в потолок – там из смутно вырисовывающихся вентиляционных отверстий струился воздух. Снова зажегся свет. Он резко повернулся назад в чьем-то кресле салона второго класса и увидел переломанное тело Яники, по-прежнему валявшееся среди груд багажа, – к этому зрелищу он оказался не готов. Когда он встал, изо всех отверстий его одежды вырвалась блевотная вонь.
После того как палач провел Янику через первую категорию пыток и более зрелищные приемы второй и третьей категорий, в комнату вошло еще несколько мужчин. То, что происходило дальше, было ужаснее всего, что Джон видел в жизни. Он не пожелал на это смотреть и открыл глаза только после того, как смолкли звуки ее сопротивления. Фильм заканчивался тем, что мужчины проверяли прекращение жизненных функций ее организма.
Джон вернулся на свое место в бизнес-классе. На сиденье лежал его айфон, белый, как сливочное мороженое. Поток его притупившихся мыслей ответвлялся в немногие оставшиеся низины. Одной из них был Галлахер, единственный человек, знавший, что он поменял рейс. Визитка Галлахера все еще лежала у Джона в кармане. Он вынул ее и провел пальцем по тисненой посольской печати. Интересно, откуда Галлахер знал, что он не выбросит его визитку? Интересно, как на Янике в камере пыток могла быть та же одежда, в которой она сидела в самолете рядом с ним? Интересно, сколько времени он провел без сознания и тот ли это самолет, на который он сел в Таллине? Интересно, где в самолете прятались те, кто все это устроил? И еще интересно, как его айфон мог работать здесь? Тем не менее вот сила сигнала – две полоски. Он получил ответ на один из своих вопросов: Галлахер не предвидел, что он сохранит его визитку. Едва Джон успел набрать четыре цифры его номера, как включилось приложение распознавания: оно было установлено на его айфон.
Галлахер ответил после третьего гудка.
– Таллин – прекрасное место, чтобы провести здесь денек. Жаль, что вы меня не послушали.
Что мог сказать Джон? Они получили то, на что рассчитывали.
– Ничего не хотите спросить? Я вас не виню, советник. Но у вас большие проблемы. Обернитесь.
Джон обернулся. Человек в черной лыжной маске и футболке с надписью «Ты – отстой» ударил его по лицу каким-то чудовищно тяжелым металлическим предметом. Упав на колени, Джон разглядел этот предмет: тот самый компрессор, которым он пытался взломать дверь кабины пилотов. От боли в голове у него помутилось. Второго удара Джон не помнил, однако тот явно был нанесен, потому что, очнувшись, опять совершенно внезапно, он увидел себя привязанным к стулу в комнате, оббитой фанерой. Один его глаз ничего не видел. Во рту недоставало нескольких зубов, язык разбух от крови, как пиявка. Он посмотрел вниз, на свою рубашку: фартук мясника. В его ушах продолжали рокотать самолетные двигатели. Комната сотрясалась от турбулентности. Где-то рядом слышался плач. Напротив Джона, положив руки на стол, сидел Галлахер. Из-под его ладоней виднелась еще одна записка. Он не показал ее Джону, но тот смог ее прочесть. Галлахер сказал, что обещает ему вопросы, но не ответы. Он также сообщил, что они находятся на новой для всех вовлеченных территории.
– Вы готовы? – спросил Галлахер. – Мне нужно знать, что вы готовы.
Джон кивнул, странным образом завидуя собственному полному крови рту. Дверь у него за спиной открылась. Шаги. Чьи-то руки, словно беззубая волчья пасть, сомкнулись вокруг него. Началась шестая категория.
Назад: Э. Ч. Табб Люцифер!
Дальше: Дэн Симмонс Две минуты сорок пять секунд

