Книга: Мозг материален
Назад: Глава 5 Как вмешаться в чужую память?
Дальше: Часть III Иллюзия единства Как спорят и сотрудничают разные части мозга
Глава 6
Самостоятельное плетение нейронных сетей
Отец маленькой Джини совершенно не переносил шума. Один из ее братьев умер в трехмесячном возрасте от пневмонии: младенца держали в холодном гараже, чтобы он не мешал отцу своим плачем. Самой Джини повезло ненамного больше. У нее был врожденный вывих бедра, так что в положенном возрасте девочка не начала ходить. На этом основании отец решил, что Джини – умственно отсталая и все равно вскоре погибнет. С этого момента девочка была заперта в комнате, привязанная то к детскому стулу с горшком, то к своей кроватке. Ей не давали другой еды, кроме детского питания. Отец бил ее каждый раз, когда она пыталась издавать какие-нибудь звуки, сам же не разговаривал с ней, а только лаял на нее по‐собачьи.
Мать Джини не одобряла такие методы воспитания, но не решалась спорить с мужем: она была почти слепой и зависела от него. К тому же муж обещал, что если Джини не умрет до двенадцатилетнего возраста, то он позволит показать ее врачам. Потом, правда, он отказался от своих слов, но еще через полтора года мама Джини все же взяла девочку и ушла из дома.
Когда в ноябре 1970 года Джини попала в сферу внимания социальных работников, ей было 13 лет и 9 месяцев. Она весила 28 килограммов, а ее рост составлял 1 метр 38 сантиметров. Джини не умела ходить, контролировать мочеиспускание, жевать твердую пищу. По данным СМИ, она понимала около двадцати слов, а сама произносила только два: stopit и nomore – “остановись” и “хватит”. Возможно, это душещипательная легенда: академические публикации утверждают, что она не говорила совсем, а только скулила. Родителям Джини были предъявлены обвинения в жестоком обращении с ребенком, но в то утро, когда они должны были предстать перед судом, отец покончил с собой, оставив записку “Мир никогда не поймет”. Мать оправдали: когда вас регулярно избивают и вы совсем ничего не видите, защищать детей от сумасшедшего отца не так-то просто.
Что касается Джини, то ее, конечно, стали пытаться вернуть к нормальной жизни. Через несколько недель занятий она стала пытаться повторять слова, которые были к ней обращены, а через несколько месяцев начала произносить первые слова спонтанно. Но это требовало от нее огромных физических усилий: она просто не умела управлять мышцами, нужными для речи, ее всю жизнь били за любой звук, который она издавала. Часто она пыталась правильно шевелить губами, но не понимала, как подключить дыхание, чтобы появились звуки. Когда она говорила, все ее тело было напряжено.
Тем не менее через восемь месяцев после начала обучения она уже могла произносить фразы из двух слов: “больше суп”, “желтый машина”. Вскоре она освоила и глаголы: “Марк рисовать”, “хотеть молоко”. Через год с небольшим появились предложения, состоящие из трех-четырех слов: “Тори жевать перчатка”, “Большой слон длинный хобот”, “Джини любить Мартин”. Через полтора года Джини научилась добавлять к своим высказываниям частицу “не”, хотя и всегда в начале предложения (“не больше ухо болеть”), а через два – научилась различать единственное и множественное число существительных. В целом к 1973 году, то есть к своим 16 годам, она освоила язык примерно на уровне двухлетнего ребенка (чуть хуже по грамматике, но лучше по активному словарному запасу: она использовала более 200 слов) – и ученые в целом рассматривают это как успех, потому что до исследования Джини считалось, что настолько взрослый человек уже не способен освоить язык вовсе.
Активные занятия с Джини продолжались до 1975 года. К этому моменту девушка достигла новых успехов в грамматике: например, освоила концепцию прошедшего времени, а также начала более правильно выстраивать отрицательные предложения. В 1975 году ее основная исследовательница, Сьюзан Кёртис, защитила диссертацию, а средств на продолжение исследований не было, так что Джини начала скитаться по приемным семьям, и ее языковые способности ощутимо ухудшились. Летом 1977 года Кёртис смогла получить еще один грант на занятия с Джини, но они продлились всего несколько месяцев. С одной стороны, по‐видимому, сама исследовательница была серьезно разочарована, обнаружив резкое снижение языковых навыков девушки (Кёртис отзывается о них даже хуже, чем они того объективно заслуживают), а с другой стороны, к этому моменту мама Джини изъявила желание самостоятельно о ней заботиться и не приветствовала дальнейшие контакты с учеными. Сегодня о судьбе Джини ничего толком не известно, но, по слухам (отраженным в Википедии), она живет в приюте для умственно отсталых за счет государства, использует всего несколько слов, а общается в основном с помощью жестов.
Вам все еще кажется, что у вас плохие родители?
Ребенок рождается, не зная ни единого слова, – но за несколько лет овладевает речью в совершенстве, причем независимо от того, насколько сложен язык страны, в которой он появился на свет. Бóльшую часть слов и грамматических конструкций он улавливает буквально из воздуха: никто не объясняет трехлетнему малышу логику падежей и спряжений, в лучшем случае исправляют ошибки, и то не всегда. Как это, вообще говоря, ему удается?
Ключевой механизм, который мы используем при овладении родным языком, называется статистическое обучение (statistical learning). Мозг младенца обрабатывает огромное количество информации и постепенно вычленяет общие закономерности. Разбирается, что важно, а что неважно. Какие звуки и слоги обычно встречаются вместе. Как строятся предложения.
Например, это работает на уровне различения звуков. Вот к вам в лабораторию приходит младенец. Он сидит на коленях у мамы или папы. Большую часть времени он смотрит вправо – там есть ассистент, который привлекает внимание ребенка с помощью игрушек. Слева нет ничего интересного, скучный черный ящик. В это время из динамика звучат одинаковые слоги, например “ра… ра… ра…”. Но вы приучаете младенца, что в тот момент, когда среди монотонного “ра” вдруг прозвучит “ла”, нужно повернуть голову, потому что в черном ящике ненадолго появится кукольный театр, намного более интересный, чем игрушки у ассистента.
В 6–8 месяцев дети уже неплохо справляются с этим заданием. В 65 % случаев они поворачивают голову в правильном направлении. Но фокус в том, что вы проводите этот эксперимент с двумя группами детей: американскими и японскими. Когда они достигают 10–12 месяцев, вы приглашаете их в лабораторию еще раз. И обнаруживаете, что теперь между группами появилась разница. Подросшие англоязычные малыши правильно различают звуки уже в 73,8 % случаев. У детей из Японии результаты, наоборот, ухудшились: теперь они правильно поворачивают голову только в 59,9 % случаев. Понятно, почему так происходит: в английском языке звуки [r] и [l] отличаются. Если уж в каком-нибудь слове есть звук [l], то там всегда [l]. Если там вдруг появится [r], то это уже будет другое слово, с другим значением, употребляющееся в других контекстах. В японском разницы между этими звуками нет, в одних и тех же словах могут встречаться и [r], и [l], и что‐то промежуточное между ними. Японский младенец привыкает, что это неважно.
Статистическое обучение полезно и для того, чтобы выделять границы слов в потоке речи. Если обстановка позволяет, попробуйте прочитать предыдущее предложение вслух. Обратите внимание, что вам хватает дыхания для того, чтобы произнести его целиком. Вы не делаете между простыми короткими словами никаких пауз, особенно когда их не разделяют знаки препинания: “полезноидлятого”. Как маленький ребенок должен понять, что это четыре разных слова? Отчасти этому способствует склонность родителей разговаривать с малышами особенно медленно и четко, но очень многие новые слова ребенок все же подцепляет из обыкновенных разговоров взрослых людей друг с другом – и именно благодаря тому, что слышит их много. Соответственно, его мозг накапливает гору информации для анализа и постепенно улавливает в ней закономерности: слоги “по‐лез-но” часто встречаются вместе, а вот слог “для” может быть окружен в предложениях чем угодно.
Такие вещи удобно изучать в экспериментах. Например, вы приглашаете в лабораторию полуторагодовалых детей, которые растут в англоязычных семьях, и даете им слушать предложения на итальянском – с этим языком они никогда не встречались раньше. Предложения составлены так, чтобы в них регулярно встречались четыре существительных: bici, casa, fuga и melo. Вообще это “велосипед”, “дом”, “бегство” и “яблоня”, но смысл в данном случае неважен. Важно, что вы манипулируете тем, в каких сочетаниях встречаются слоги в предложениях. Либо только в составе интересующих вас слов, либо и в других словах тоже.
После того как дети трижды прослушали 12 предложений на незнакомом языке, вы показываете им картинку, а закадровый голос объясняет, что это bici. Потом показываете другую – и это casa. (На самом деле им показывали не велосипеды и домики, а абстрактные изображения – чтобы пара картинок была одинаковой для всех детей независимо от состава предложений и чтобы не запутывать детей, которые уже знают, что домик – это house, а не casa). Обучаете вы их довольно долго, показываете картинки по 25 раз – ну или до тех пор, пока детям совсем не наскучит.
Здесь надо отметить, что младенцы (как, впрочем, и остальные люди) склонны смотреть подолгу на те вещи, которые им незнакомы, удивляют, кажутся неожиданными, – и довольно быстро отводить взгляд, если им все понятно. Это свойство очень широко применяется в самых разных исследованиях младенческого поведения, в том числе и здесь. В тестовой фазе ребенку снова показывают два изображения, названия которых он уже выучил. Но только на этот раз их названия могут либо остаться прежними, либо измениться: bici теперь внезапно будет называться casa, и наоборот. И вы оцениваете, покажется ли такая перемена ребенку удивительной, то есть будет ли он дольше смотреть на изображение, чье название изменилось.
И выясняется, что дети гораздо эффективнее соотносят слова и объекты, если сначала слушали речь на незнакомом языке, в которой эти слова присутствовали, чем если вместо этого слушали музыку. Это надежно работает в том случае, если слоги bi-ci встречались только вместе. Это продолжает работать, если слог -bi- встречался и в составе других слов тоже, но слог -ci- не встречался. А вот если оба слога встречались и вместе, и в других словах, то это не повышает эффективность последующего выучивания этого слова. Но, скорее всего, все равно бы ее повысило, если бы дети слушали речь не 2 минуты 15 секунд, как в эксперименте, а постоянно, как это происходит в настоящей жизни.
С нашей прекрасной способностью к статистическому обучению есть две проблемы. Во-первых, она действительно требует того, чтобы мы набирали большой массив информации. Чтобы уловить, какие слоги обычно встречаются вместе, мало встретить их вместе – надо еще и удостовериться, что они редко встречаются по отдельности. Нужно, чтобы язык окружал нас везде и всюду, чтобы все звуки, слова и грамматические конструкции встречались нам регулярно и многократно. Причем живое общение работает для этого гораздо эффективнее, чем телевизор, – во всяком случае, когда мы говорим про маленьких детей и их способность различать звуки, присутствующие в языке. Во-вторых, это свойство стремительно теряется с возрастом. Разумеется, взрослые люди могут учить новые языки и овладевать ими на хорошем уровне, но они делают это совершенно не так, как маленький ребенок, погруженный в языковую среду. Нам с вами приходится думать. Вникать в грамматические правила. Зубрить слова. Прикладывать усилия. Ребенок в языковой среде никаких осознанных целенаправленных усилий не прикладывает, а язык усваивает гораздо лучше нас с вами.
Это демонстрируют, например, исследования людей, переехавших в Соединенные Штаты на разных этапах своей жизни. К тому моменту, когда взрослые испытуемые попали к исследователям, они все уже владели английским полноценно, они абсолютно успешно использовали его, чтобы работать, учиться, строить отношения. Но исследователи дали им сложный грамматический тест и показали, что его результаты четко зависят от того, в каком возрасте человек попал в страну. Те, кто переехал до семи лет, набирают столько же баллов, сколько и те, кто родился в США, – в среднем 270, тест был длинным. У тех, кто приехал в 11 лет, будет по 240 правильных ответов. Если старше 17 – уже только 210. Еще раз, все это совершенно не мешает им пользоваться английским, речь идет именно о тонкостях языка. Люди, если они не профессиональные филологи, обычно не помнят никаких правил. И черт с ними, ведь у нас есть чувство языка, интуитивное понимание того, что вот здесь лучше будет звучать одна конструкция, а там – другая. Но вот то, насколько безотказно эта интуиция будет работать, сильно зависит, увы, не только от того, как много примеров мозг успел обработать, но и от того, в каком возрасте он начал это делать.
Из этого вытекает самая ужасная новость во всей книжке. Если вы, как и многие другие люди, когда-нибудь упрекали своих родителей в том, что они не отдали вас на языковые курсы в детстве, когда у людей такие прекрасные способности, – то настало время перед ними извиниться. Прекрасные способности детей проявляются тогда, когда они погружены в языковую среду. А вот когда мы говорим об обучении в классе пару раз в неделю, то эти удивительные способности немедленно куда‐то деваются. Здесь на успех влияет мотивация, уверенность в себе, способность понимать логические связи и готовность прикладывать сознательные усилия для переработки больших объемов информации. А с этими качествами у взрослых как раз обычно получше, чем у детей, так что и прогрессируют они быстрее. Так что если и обижаться на родителей, то за то, что они не наняли вам англоязычную няню. Но с этим, кажется, надо идти уже не на языковые курсы, а к психотерапевту.
Куда бы вы ни пошли – ваш мозг изменится
В предисловии я уже рассказывала вам про таксистов, у которых из‐за изучения карты Лондона увеличивается плотность серого вещества в гиппокампе. Это исследование стало одним из самых известных во всей современной нейробиологии благодаря тому, что там сравнивали состояние “до” и состояние “после” и убедились, что у тех, кто учился, мозг изменился, а у тех, кто не учился, – нет. По очевидным причинам придумывать и проводить такие эксперименты сложно. Далеко не всегда обучение меняет мозг настолько сильно, чтобы это прямо можно было увидеть на томограмме, а если да, то обычно речь идет о результатах многолетнего освоения какого-нибудь сложного навыка.
Вот допустим, вы хотите посмотреть, как влияет на мозг изучение иностранного языка. Вам нужно найти людей, которые совсем его не знают, а потом сделать так, чтобы половина из них начала его учить, честно и старательно, а вторая половина не начала, и чтобы они делали это долго. Но на практике некоторые из них собирались учить язык, а потом передумали. Некоторые учили, но спустя рукава. Некоторые не собирались учить, а потом начали. Многие переехали, потеряли телефон, забыли пароль от почтового ящика, и у вас нет никакого способа снова поймать их через пять лет, чтобы посмотреть, изменился ли их мозг. Не говоря уже о том, что ваше начальство ждет, что вы будете публиковать что-нибудь регулярно, а не гоняться за нерадивыми испытуемыми ради долгосрочного эксперимента, в котором еще неизвестно, получится ли что-нибудь обнаружить или нет.
Поэтому во всех таких случаях – не только с иностранным языком, но и, например, с игрой на музыкальных инструментах – первоначальную информацию обычно собирают с помощью кросс-секционных исследований. Это означает, что вы ни за кем не гоняетесь пять лет, вы просто один раз приглашаете в лабораторию людей, которые уже знают (или не знают) иностранный язык, уже умеют (или не умеют) играть на музыкальных инструментах. Делаете им всем структурную магнитно-резонансную томографию и видите, что да, действительно, отличия между группами существуют, причем сразу во многих отделах мозга,. Я не буду перечислять все отличия, которые удавалось выявить, но вот пара хорошо подтвержденных и понятных примеров. У тех, кто владеет двумя языками, как правило, выше плотность серого вещества в левой нижней лобной извилине – если вы внимательный читатель, то помните, что как раз там находится зона Брока, связанная с самой способностью к членораздельной речи. Для тех, кто умеет играть на музыкальном инструменте, характерно более развитое мозолистое тело – перемычка, соединяющая два полушария и помогающая им обмениваться информацией друг с другом.
Но есть очевидная проблема: когда вы берете людей, уже чему‐то научившихся до встречи с вами, и исследуете их мозг, у вас нет никакой возможности отличить причину от следствия. Может быть, они выучили язык, и от этого у них увеличилась плотность серого вещества в нижней лобной извилине. А может быть, у них от рождения была высокая плотность серого вещества в нижней лобной извилине, и поэтому они легко и быстро выучили язык. Или, например, они в детстве ели много черешни, а от нее (никто ведь не проверял!) растет нижняя лобная извилина и легко запоминаются языки. Поэтому, когда с помощью кросс-секционных исследований накоплена первичная информация о том, чего ожидать от человеческого мозга в контексте изучения того или иного навыка, наступает время настоящих экспериментов.
Шведские юноши и девушки, желающие служить в разведке (или просто работать переводчиками в вооруженных силах), проходят отбор по уровню интеллекта, школьным достижениям, эмоциональной стабильности – а затем приступают к изучению языка вероятного противника. Из 14 курсантов, принявших участие в эксперименте, четверо начали учить с нуля арабский, восемь – дари (диалект персидского, распространенный в Афганистане), еще двое – русский. В качестве контрольной группы выступали студенты, изучающие медицину и когнитивные науки. У нас жизнь тоже довольно тяжелая, но попроще, чем у военных переводчиков. И действительно, при сравнении томограмм, сделанных до начала семестра и всего через три месяца интенсивных занятий, выяснилось, что у тех, кто изучал язык, достоверно увеличилась толщина коры в нижней лобной извилине, верхней височной извилине и средней лобной извилине левого полушария. К тому же вырос объем гиппокампа, причем сильнее всего – у тех курсантов, которые достигли наибольших академических успехов. Про гиппокамп и нижнюю лобную извилину мы уже говорили, средняя лобная извилина связана с контролем артикуляции, а верхняя височная – с анализом звуковых частот. У контрольной группы все эти области мало того что не выросли, но даже стали немножко меньше. Сами авторы исследования никак не комментируют этот факт, а я со своей стороны надеюсь, что у студентов-когнитивщиков зато выросли какие-нибудь другие зоны мозга, не связанные с речью и, соответственно, не подвергавшиеся пристальному анализу. Но возможно и альтернативное объяснение: если вас не ограничивает армейская дисциплина, то у вас больше шансов мало двигаться, поздно ложиться спать и злоупотреблять алкоголем, и все это, в принципе, может скомпенсировать благотворное воздействие университетского образования на анатомию вашего мозга.
Лучше ставить эксперименты на детях. Вы договариваетесь с дошкольниками и их родителями и отдаете 18 человек на занятия музыкой. Раз в неделю они полчаса занимаются с преподавателем, который обучает их играть на пианино или на струнных инструментах, а дома тренируются столько, сколько хотят. Еще 13 человек музыкой не занимаются совсем, ни с преподавателем, ни дома. Всем детям вы делаете томограмму до начала эксперимента, убеждаетесь, что исходно отличий в мозге нет, а потом два с половиной года занимаетесь своими делами и ждете, пока испытуемые выучатся играть. По прошествии времени у вас образовались уже три группы испытуемых: дети, которые серьезно отнеслись к обучению и тренировались дома больше двух часов каждую неделю; дети, которые тоже ходили на занятия, но посвящали домашним заданиям меньше двух часов в неделю; и контрольная группа, вообще не занимавшаяся музыкой. Когда вы снова исследуете их мозг, то обнаруживаете изменения там, где и надеялись их увидеть, – в мозолистом теле, и конкретно в том его участке, который помогает координировать активность моторной коры правого и левого полушария и соответственно левой и правой руки. При этом увеличение мозолистого тела было выраженным только у тех детей, которые практиковались много.
Это вполне ожидаемые результаты в свете того, что мы знаем про мозг. Какие его участки мы постоянно задействуем, те и развиваются – и иногда достаточно сильно, чтобы изменение можно было прямо увидеть на томограмме. Очевидно, что изучение иностранного языка или музыки – это большая умственная нагрузка, и вполне логично, что она оставляет наглядные следы. Более удивительно, что иногда анатомические изменения удается выявить и в результате относительно слабых воздействий – например, после курса психотерапии.
В принципе, это логично. Мозг материален, наши мысли и эмоции – результат его работы. Если мы признаем, что психотерапия влияет на мысли и эмоции, то правомерно ожидать, что она влияет и на мозг. Обычно это изучают с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, то есть ищут не анатомические перестройки, а изменение активности тех или иных отделов. Тут данные накапливаются давно; например, уже к 2006 году было известно, что успешная когнитивно-поведенческая терапия снижает активность хвостатого ядра (связанного с целенаправленными движениями, а также с желанием их совершать) у пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством или активность амигдалы у пациентов с социальным тревожным расстройством. А в 2017 году вышло первое исследование, зарегистрировавшее и анатомические изменения в мозге после психотерапии.
Социальное тревожное расстройство, или социофобия, – это заболевание, которому особенно не повезло с восприятием широкой общественностью. Каждый второй гордо говорит о себе: “Я социофоб!” – имея в виду, что не хочет идти тусоваться, а предпочитает посидеть дома. Но для тех приблизительно 10 % людей, которые на самом деле страдают от социофобии, это не способ отмазаться от скучной вечеринки, а серьезная проблема. Каждый раз, когда им предстоит знакомство с новыми людьми или, не дай бог, публичное выступление, они по‐настоящему паникуют, со всеми положенными соматическими симптомами типа потливости и сердцебиения; они боятся незнакомых людей так же сильно, как арахнофобы боятся пауков, а клаустрофобы – тесных замкнутых пространств. При этом издержки у разных фобий серьезно отличаются. Не очень трудно организовать свою жизнь так, чтобы не сталкиваться с пауками. Ходить пешком по всем лестницам, избегая лифтов, полезно для здоровья. Обойтись без коммуникации с малознакомыми людьми гораздо сложнее, это сразу отсекает огромное количество образовательных и карьерных возможностей. А главное – мало кто способен выступать хорошо, когда ему плохо и страшно, так что человек с социофобией попадает в дурной замкнутый круг: он боялся выступить – он выступил плохо – он начал бояться еще сильнее.
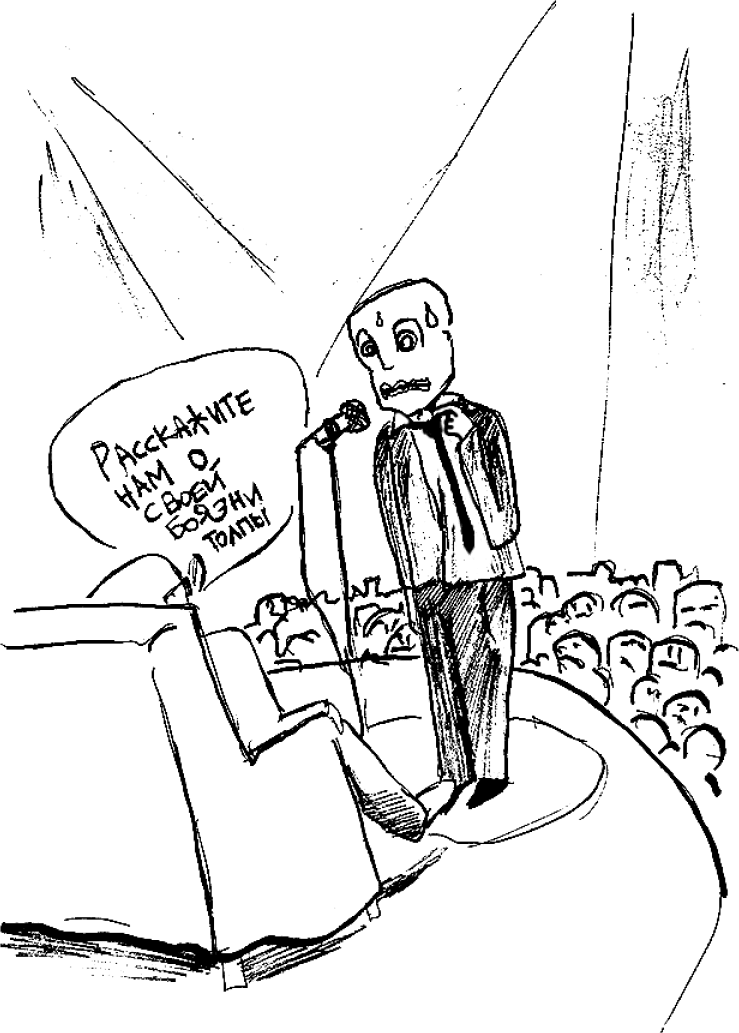
Неудивительно поэтому, что люди с социофобией часто находятся в поисках способа ее преодолеть. Один из методов, показавших свою эффективность, – это групповая когнитивно-поведенческая терапия. Пациенты логически анализируют свои страхи, терапевт помогает им выявить когнитивные искажения, связанные с пугающими ситуациями, а еще они проходят через экспозиционную терапию (мы говорили о ней в контексте пауков в прошлой главе), то есть учатся разговаривать с незнакомыми людьми сначала в искусственно созданных безопасных контекстах, а потом и в реальной жизни. В случае 33 пациентов, вошедших в это исследование, терапия продолжалась 12 недель. Участники достигли за это время улучшения своего состояния (это количественно оценивали с помощью специальных опросников). А еще у них изменился мозг. В частности, уменьшился объем серого вещества в левой нижней височной коре и в дорсомедиальной префронтальной коре в обоих полушариях, причем сильнее – именно у тех людей, которые достигли максимального ослабления симптомов. Авторы отмечают, что левая нижняя височная кора связана с процессами удержания внимания и фокусировки на важных стимулах, а дорсомедиальная префронтальная кора вовлечена в регулирование эмоций и тесно взаимодействует с амигдалой. То есть в первом приближении мы можем предположить, что в результате терапии люди начинают обращать меньше внимания на предстоящий ужас и позор от взаимодействия с незнакомцами и одновременно становятся менее восприимчивы к паническим сигналам, поступающим из подкорки. Но понятно, что ассоциативная кора – сложная штука, любой ее отдел задействован во многих психических функциях сразу (вспомните, сколько раз я уверенно говорила вам: “Дорсолатеральная префронтальная кора отвечает за…” – а продолжение все время было разным), так что вряд ли это исчерпывающее объяснение. Во всяком случае, пациенты стали меньше бояться. Вот и хорошо.
Можно ли замедлить старение мозга?
Если у вас есть заботливые родственники (или заботливые комментаторы в Фейсбуке), то вы наверняка замечали одну интересную особенность человеческого взросления: абсолютно невозможно оказаться в правильном возрасте. Например, жизненные этапы “рано тебе еще на свидания бегать” и “да кто тебя уже замуж возьмет в таком возрасте?” не просто переходят один в другой без какой-либо паузы, а даже перекрываются друг с другом. Так вот, если вы спросите нейробиологов об идеальном возрасте для человеческого мозга, произойдет примерно то же самое. Если вы младше 25 лет, то вам сообщат, что мозг ваш еще не созрел, еще продолжается миелинизация нервных волокон и полноценная жизнь еще впереди. Если вы старше 25 лет, то вам сообщат, что у вас уже началось возрастное снижение когнитивных функций и полноценная жизнь осталась в прошлом. Если вам 25, то вы можете услышать оба варианта ответа – в зависимости от того, на какие исследования опирается тот нейробиолог, к которому вы обратились.
Об этом неприятно писать, но да, возрастное снижение когнитивных функций настолько же реально, как появление морщин или седых волос. Это изучают довольно простым способом: приглашают испытуемых в лабораторию, дают им кучу тестов, записывают результаты, ищут корреляции с возрастом и находят их. Тут есть два основных подхода: кросс-секционные и лонгитюдные исследования.
В первом случае вы приглашаете в лабораторию разных людей – одним сейчас 30, другим сейчас 40 – и сравниваете их результаты. Очевидная проблема в том, что люди отличаются друг от друга не только по возрасту, но и по куче других параметров. Но, насколько возможно, вы делаете на это поправку (например, сравниваете группы с одинаковым уровнем образования) и, конечно, приглашаете очень много людей, хотя бы по нескольку сотен, чтобы снизить вероятность того, что в одну группу случайно попали только талантливые, а в другую – только бестолковые.
Во втором случае вы сначала приглашаете людей, когда им по 30, а потом выжидаете 10 лет и зовете их еще раз. Тут минус в том, что они примерно помнят, какие тесты вы собираетесь им предлагать, и это помогает им настроиться и достичь лучших результатов. Но несмотря на это, оба способа проведения исследований стабильно демонстрируют, что все плохо.
Результаты тестов на память (например, способность воспроизвести рассказ с сохранением максимального количества деталей) начинают падать уже с 25 лет – медленно, но неуклонно. Логическое мышление (скажем, способность подобрать подходящую геометрическую фигуру для продолжения ряда по определенным правилам, как в тестах на IQ) ухудшается с 20 до 30 лет, затем долго сохраняется на более-менее постоянном уровне, а с 55 лет результаты начинают снижаться дальше. Пространственное мышление (допустим, способность понять, какая трехмерная фигура соответствует предложенной двухмерной развертке) быстро ухудшается с 20 до 35 лет, остается стабильным с 35 до 50, после чего продолжается снижение. Наконец, скорость обработки информации (например, при выполнении задания, в котором нужно сверяться с таблицей кодировки и заменять цифры на определенные символы) остается неизменной до 30 лет, но начинает довольно быстро падать сразу после этого возраста.
Понятно, что у взрослых людей есть и преимущества, но они связаны скорее с объемом уже накопленной информации, чем со скоростью обработки новых данных. Например, словарный запас растет практически всю жизнь, общий объем знаний о мире – тоже, и эти факторы позволяют достигать более глубокого и комплексного понимания сложных текстов и прочих запутанных процессов в реальном мире. Если честно, при старении проблемы возникают и с этим, но они хотя бы проявляются в 70 лет, а не в 25.
Почему интеллектуальные способности ухудшаются с возрастом? Ну, мозг материален. В нем накапливаются повреждения, они отражаются на его возможностях (хотя у разных людей с разной скоростью и в разной степени). Это та же самая проблема, что и с возрастным ухудшением суставов, кожи, сердечно-сосудистой системы. Глобально она связана с тем, что после завершения репродуктивного периода мы больше не интересны эволюции. То есть любые мутации, которые ухудшают наше здоровье в молодом возрасте, отсеиваются естественным отбором, потому что мешают нам оставить потомство и, соответственно, передать эти гены дальше. А любые мутации, которые ухудшают наше здоровье во взрослом возрасте, невидимы для естественного отбора: мы уже передали их нашим деточкам до того, как они помешали нам этих деточек завести. (В этом смысле забавно, что мы могли бы здорово улучшить человеческое здоровье и продолжительность жизни, если бы все-все люди договорились заводить детей не раньше 45 лет, причем без помощи репродуктивной медицины. Многие в этом случае остались бы вообще без потомства, зато в следующих поколениях неуклонно повышалась бы доля людей, несущих варианты генов, связанные с замедленным старением. По крайней мере, для дрозофил это работает.)
Изменений в мозге по мере старения происходит много и разных. Часть информации о них можно накопить, сравнивая нервную ткань людей, умерших в разном возрасте и от разных причин, но больше данных получено благодаря экспериментам с другими млекопитающими, например с обезьянами и крысами,. некоторой степени проблемы обусловлены непосредственно гибелью нейронов, но при нормальном старении это не самая главная проблема: опаснее то, что нейроны, оставшиеся в живых, начинают хуже работать. Изменяется проведение ионов через мембраны, клеткам требуется больше времени на то, чтобы восстановиться после активации, производится меньше цАМФ, и, соответственно, сложнее становится запустить процессы экспрессии генов, связанных с обучением. Словом, возьмите любую молекулу из всего множества, о котором мы говорили в связи с нейропластичностью, введите в систему поиска Google Scholar название молекулы и слово ageing, и вы непременно получите множество исследований на животных о том, что количество таких молекул в нервных клетках меняется с возрастом и это нехорошо. К тому же в мозге накапливается всякий мусор – в первую очередь неправильно синтезированные белки, которые не работают. Лизосомы, которые в норме должны были бы их переваривать, не справляются с этой задачей. Вырабатывается меньше всяких полезных белков типа инсулиноподобного фактора роста 1. И так далее, и так далее. Гипотетически исследования всего этого могут открыть дорогу к созданию лекарств, замедляющих или обращающих вспять процессы старения мозга (“если какого-нибудь белка стало меньше, давайте его добавим; если какого-нибудь белка стало слишком много, давайте сделаем лекарство, которое его блокирует”), но пока что там действительно черт ногу сломит, потому что меняется сразу все, уровень производства сотен разных молекул, и какие из них важны, а какие вторичны – разобраться не то чтобы совсем невозможно, но эта история еще очень далека от завершения.
Важно еще понимать, что у мозга большие компенсаторные способности. Мы уже немного обсуждали это в главе про травмы, и то же самое со старением. Вот когда мы говорим про изменение количества каких-нибудь молекул, то их число может не только падать, но и расти у стареющего животного – и в каждом случае надо понять, хорошо это или плохо: вреден ли их избыток, или это способ компенсировать недостаток (или избыток) чего-нибудь другого. Или вот нейропластичность: если ее изучать с помощью вживленных электродов в каком-нибудь конкретном синапсе, то выясняется, что у стареющих животных дела обстоят хуже, чем у молодых. Но всегда ли это верно, если рассматривать мозг как целое, со всем его обилием возможных участков для выращивания новых нейронных связей?
Вот, например, Арне Мей и его коллеги – пионеры томографических исследований нейропластичности, связанной с индивидуальным опытом, – учили своих испытуемых жонглировать тремя шариками. В их первой работе испытуемым было в среднем по 22 года. За три месяца практики все они достигли хороших результатов – были способны жонглировать по крайней мере в течение минуты. Анатомические изменения у них нашли в двух отделах мозга: в средней височной области (там находится участок зрительной коры по имени V5, связанный с распознаванием движущихся объектов) и в левой задней внутритеменной борозде (она необходима для моторно-зрительной координации). Через четыре года исследователи воспроизвели этот эксперимент с испытуемыми постарше – на этот раз на курсы жонглеров попали люди в возрасте от 50 до 67 лет. Они тоже тренировались три месяца, но жонглировать тремя шариками в течение 40 секунд (либо дольше) научились только 25 из 44 участников. Тем не менее увеличение плотности серого вещества в средней височной области наблюдалось и здесь, причем не только у тех участников, которые научились жонглировать хорошо, но и у тех, кто тренировался, однако за отведенное время не достиг сопоставимого успеха. Что еще интереснее, у пожилых участников, в отличие от молодых, изменения затронули несколько других участков мозга, в частности гиппокамп и прилежащее ядро. Овладевать новыми навыками приятно; молодые люди и так делают это постоянно, а вот для пожилых эксперимент внес приятное разнообразие в жизнь и, можно предположить, в целом развил их способность получать удовольствие.
С гиппокампом интереснее. В нем увеличилась плотность серого вещества, и это может означать две вещи: либо появление новых связей между нейронами, либо увеличение количества самих нейронов. Сами авторы исследования склонялись ко второй трактовке и в 2008 году, когда была опубликована статья, имели на это полное право, потому что могли обильно подкрепить свои выводы ссылками на работы коллег. Но через десять лет эта история внезапно стала темной и запутанной: ко множеству исследований, предполагающих, что новые нейроны в гиппокампе взрослых людей появляются,, в 2018 году неожиданно добавилось одно (но хорошее), утверждающее, что все ошибались, а новые нейроны появляются только у детей, максимум – в подростковом возрасте. А потом вышло еще одно (настолько же хорошее), утверждающее, что все‐таки нейрогенез сохраняется до глубокой старости. Там куча технических деталей, связанных, например, с тем, как добывают образцы ткани гиппокампа (из живых людей, которым делают нейрохирургические операции, или из погибших) и каким образом в них ищут новые нейроны (нужно, с одной стороны, доказать, что клетка новенькая, а с другой – что это именно нервная клетка; чаще всего обе задачи решают, регистрируя присутствие белков-маркеров, типичных именно для таких клеток, но требования к составу и количеству этих белков могут отличаться в разных работах, равно как и методы, применяемые для их выявления). В общем, прямо сейчас те нейробиологи, которые занимаются поиском новых нейронов в гиппокампе взрослых людей, получили мощный стимул провести еще больше исследований, а все остальные нейробиологи и научные журналисты наблюдают, ждут и волнуются, молятся св. Дарвину, едят попкорн и делают ставки. Подавляющему большинству, конечно, очень хочется, чтобы нейрогенез благополучно подтвердился. Более или менее все согласны, что он есть у других млекопитающих, а мы‐то чем хуже?
Во всяком случае, появляются ли у взрослых людей новые нейроны или нет, но вот новые связи между ними благополучно растут, это точно. И в старости растут, хотя, видимо, похуже. Возникает закономерный вопрос: как способствовать росту новых синапсов и поможет ли это сохранить ясность ума до самой смерти?
Вы наверняка слышали о том, что люди с хорошим образованием и в целом представители интеллектуальных профессий меньше подвержены развитию деменции. Даже в том случае, если они становятся жертвами болезни Альцгеймера, у них проходит намного больше времени между появлением первых симптомов и полным выпадением из реальности. В первом приближении это, скорее всего, верно, но в конкретных исследованиях есть много проблем с тем, как трактовать полученные результаты. Вот, например, сообщают нам французские ученые, что они провели исследование и показали, что люди с более высоким уровнем образования остаются в здравом уме еще 15 лет после того, как у них была диагностирована болезнь Альцгеймера, а для менее образованных людей этот показатель составляет только 7 лет. Звучит здорово. Авторы связывают это с гипотезой когнитивного резерва: грубо говоря, у вас в мозге выращено больше связей, и поэтому гибель отдельных нейронов медленнее приводит к заметным нарушениям интеллекта. Но они также оговаривают, что во Франции начала XX века было не то чтобы очень хорошо со всеобщим образованием, так что образованными в их исследовании считаются люди, закончившие по крайней мере шестилетнюю школу, а у менее образованных и того не было. И тут возникает проблема: скорее всего, шестилетнюю школу люди окончили или нет в зависимости от того, могла ли их семья себе это позволить. А если в обществе присутствовало такое неравенство, то наверняка оно отражалось в первую очередь не на обучении, а банально на количестве и качестве еды, которой питались беременные мамы современных стариков с Альцгеймером и они сами в детстве, – и, может быть, мозг у них развился так замечательно просто потому, что их нормально кормили. Эта проблема в большей или меньшей степени применима ко всем современным исследованиям деменции. Корреляции есть и с образованием, и с уровнем IQ, а вот с причинно-следственными связями все туманно. Умные люди дольше сохраняют здоровье мозга, потому что они много учились? Или потому, что жили в более благоприятных условиях в детстве и от этого одновременно стали более здоровыми и более умными? Или им попались удачные гены, связанные с развитием мозга, которые влияют на многие его возможности сразу? Или они, будучи умными, ведут более здоровый образ жизни? И да, люди живут очень долго, и те, кто сегодня уже дожил до болезни Альцгеймера, в среднем провели свою юность в радикально более голодных и опасных условиях, чем мы, так что непонятно, насколько их результаты вообще окажутся к нам применимы.
Тем не менее гипотеза когнитивного резерва очень воодушевляет. Можно не только сравнить, например, скорость развития болезни Альцгеймера у тех, кто хорошо знает иностранный язык, и у тех, кто всю жизнь говорил только на родном (и да, убедиться, что знание иностранного языка позволяет отсрочить деменцию на пять лет), но и зайти с другой стороны: сделать МРТ людям, которые уже одинаково сильно погрузились в деменцию, – и обнаружить, что при этом физически мозг поврежден гораздо сильнее у тех, кто говорил на двух языках. То есть обучение сложному навыку – такому как иностранный язык – дает мозгу возможность намного дольше компенсировать процесс физических разрушений таким образом, чтобы они не принципиально отражались на интеллектуальных возможностях.
Как наращивать когнитивный резерв? Имеет ли смысл, например, в 60 лет пойти получать еще одно высшее образование? Эту гипотезу обстоятельно проверяли и продолжают проверять австралийские ученые. В 2011 году они запустили программу, в рамках которой пожилые люди выбирают в Университете Тасмании любые интересные им курсы (не меньше двух предметов одновременно и не меньше года подряд), ходят на лекции, делают домашки и сдают экзамены – а исследователи смотрят, как это отражается на их когнитивном резерве (по сравнению с их состоянием до обучения и по сравнению с контрольной группой, которая в университет не ходит). В 2018 году были опубликованы результаты четырех лет наблюдений за первыми 359 участниками программы. Выяснилось, что у них – разумеется! – стало больше знаний и, соответственно, улучшились результаты тестов, в которых оценивался словарный запас, способность понимать прочитанное и вспоминать названия различных объектов. То есть университетское образование определенно принесло участникам пользу, укрепив и развив их способности к переработке информации. Но вот во всем остальном экспериментальная группа не демонстрировала никаких явных отличий от контрольной, которая на лекции не ходила. Результаты тестов на память за четыре года слегка улучшились, но это произошло в обеих группах в равной степени – скорее всего, просто потому, что люди уже были знакомы с форматом заданий, которые им предстояло выполнить при очередном визите в лабораторию. Результаты тестов, оценивающих способность контролировать собственное внимание (например, теста Струпа, в котором слово “красный” написано зеленым цветом, а слово “зеленый” – красным, и надо каждый раз называть цвет чернил, игнорируя содержание текста), со временем слегка снижались (хотя и не успели снизиться статистически достоверно), и тоже одинаково в обеих группах.
В сочетании с исследованиями о пользе обучения в юном возрасте это дает нам важный практический вывод: учиться полезно, чтобы сохранить здоровье мозга, но лучше делать это не тогда, когда возрастное снижение когнитивных функций уже успело далеко зайти, – а лет на двадцать раньше, пока мозг еще здорово умеет растить себе нейронные связи на всю оставшуюся жизнь и сможет извлечь из вашего университетского образования намного больше пользы. Так что если вам сейчас, например, тридцать и вы думаете, что вам делать дальше со своей жизнью: то ли зарабатывать на квартиру, то ли рожать ребенка, то ли сходить в магистратуру (в аспирантуру, на второе высшее…), – то лучше всего выбирать последний вариант. Заработать денег можно и потом. Эмбрионы можно заморозить. А вот новые синапсы нужно растить смолоду.
В любой непонятной ситуации ложитесь спать
Понятно, что для укрепления синапсов нужно их использовать, то есть чему-нибудь учиться, гонять информацию по нейронным контурам. Но при одинаковом объеме переработанной информации количество того, что удалось усвоить, будет отличаться у разных людей. Отчасти, конечно, на это влияют гены, но – как и везде в биологии – влияет и образ жизни. У нас есть два хороших, изученных и доказанных способа повысить способности своего мозга к обучению: нужно как можно больше двигаться и спать. Второе даже важнее.
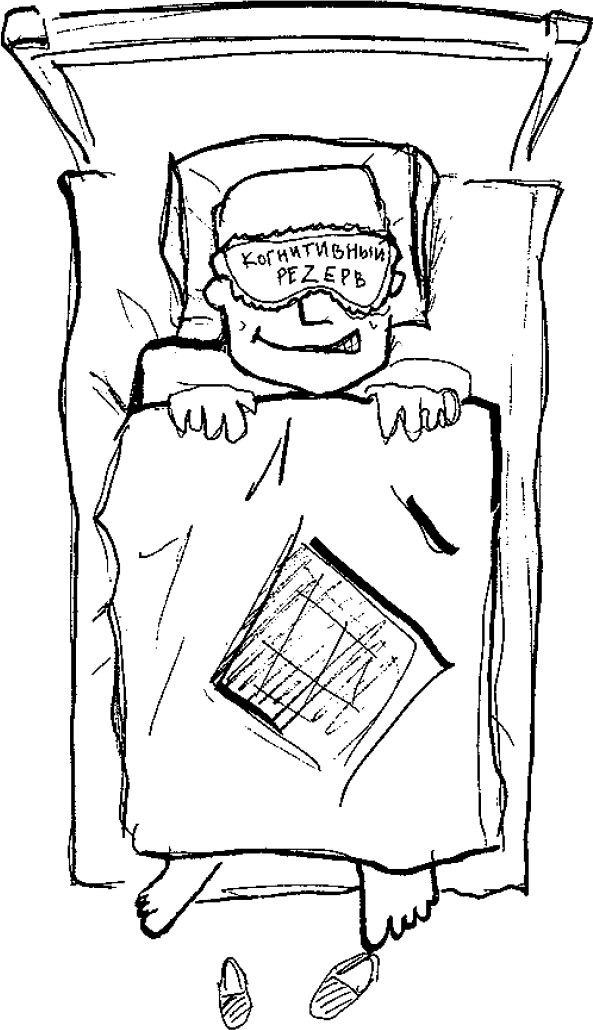
Начну со страшилок. В конце 1980‐х группа исследователей из Чикаго выпустила серию из 10 статей, в которых они описывали, что случится с крысами, если не давать им спать. В таких экспериментах две крысы – экспериментальная и контрольная – живут на вращающемся пластиковом диске. У них комфортная температура, сколько угодно пищи и воды. Им в голову вживлены электроды. Каждый раз, когда экспериментальная крыса засыпает (что видно по активности ее мозга), включается мотор, диск начинает поворачиваться. Если крыса не проснется и не пойдет по нему в противоположном направлении, она свалится в воду, налитую в поддон под диском, – и все равно проснется. Контрольная крыса может спать сколько угодно, пока не спит экспериментальная. Ее тоже иногда будит движущийся диск, она тоже соскальзывает в воду, но ничего плохого с ней не происходит.
А вот крысы, которым не дают спать, неизбежно умирают – самое большее в течение месяца, некоторые уже через 11 дней. При этом никто не может сказать, от чего конкретно они умерли.
С одной стороны, портится одновременно все. У животных появляются язвы на коже хвоста и лап, шерсть становится коричневатой и клочьями топорщится во все стороны, температура сначала повышается, а потом, наоборот, резко падает, в крови растет уровень адреналина, и, соответственно, повышается частота сердечных сокращений, животные все больше и больше едят и все равно стремительно теряют вес. Если перестать мешать крысам спать, когда у них уже развились видимые нарушения, они все равно могут погибнуть через несколько дней.
С другой стороны, ни одно из этих изменений само по себе не выглядит несовместимым с жизнью. Крысы теряют около 20 % массы тела, что не особенно отразилось бы на их здоровье, если бы они высыпались. Не видно явных повреждений внутренних органов, в том числе мозга. Повреждения кожи тоже были бы вполне совместимыми с жизнью, если бы крысе при этом давали спать. То есть крысиный патологоанатом не может установить никакой конкретной причины, по которой животное погибло.
Интереснее всего с иммунитетом. В 1989 году чикагские исследователи изучили лимфоциты в селезенке своих неспящих крыс, но не нашли там ничего, заслуживающего внимания. В 1993 году одна из участниц этой исследовательской группы, Кэрол Эверсон, уже перебравшаяся к тому времени работать в штат Мэриленд, провела эксперимент по другой методике: она смотрела не на иммунные клетки, вместо этого она искала бактерии. И действительно обнаружила, что кровь неспящих животных обильно заселена бактериями, чего в норме быть, конечно, не должно. А организм не пытается с ними бороться. Впоследствии она показала, что бактерии проникают в кровь и во внутренние органы из кишечника, стенки которого в результате депривации сна также оказываются поврежденными и легко проницаемыми. Эверсон пришла к выводу, что инфекция – это и есть причина смерти крыс.
“Да, нехорошо получилось, – прокомментировали в 2002 г. ее бывшие коллеги из Чикаго. – Мы исследовали лимфоциты, но у половины наших животных их активность была сдвинута в одну сторону, у половины – в другую, и мы решили, что это неважно”. Но дальше они взяли крыс и накормили их антибиотиками широкого спектра действия. Бактерий в их организме теперь обнаружить не удавалось, но от недостатка сна животные умирали по‐прежнему.
Мне не удалось найти свежих исследований, в которых бы кто‐то разобрался, почему конкретно все‐таки умирают крысы, лишенные сна. Возможно, за последние 20 лет этические комитеты стали строже и теперь говорят исследователям: “Ну и зачем вы будете мучить животных, если вы все равно понятия не имеете, что именно вы надеетесь найти?” Но, скорее всего, просто ученые смирились с мыслью, что портится все одновременно и бессмысленно искать единственную главную причину.
Тем более что это далеко не единственная и даже не самая главная из многочисленных научных загадок, связанных со сном,. Прежде всего, поразительно, что он вообще есть. Очевидно, это ужасно невыгодно с точки зрения борьбы за выживание: каждые сутки вы на несколько часов впадаете в бессознательное состояние, которое резко увеличивает шанс, что вас съедят. Если бы кто‐то научился не спать, это дало бы ему большие эволюционные преимущества, – но таких умников нет. Спят все позвоночные, хотя некоторым приходится придумывать для этого очень сложные решения, например спать двумя полушариями по очереди (если вы дельфин и вам приходится дышать воздухом) или плыть неведомо куда под управлением спинного мозга (такая потребность возникает у тех рыб, которым необходимо непрерывно двигаться, чтобы вода омывала жабры). У беспозвоночных, даже совсем примитивных, тоже наблюдаются суточные циклы активности, которые имеют много общего со сном, в том числе и с точки зрения молекул, которые задействованы в этом процессе. Спит, например, Caenorhabditis elegans – круглый червь, у которого всего‐то 302 нейрона. Тараканы тоже спят, и за 35 дней 95 тараканов из 100 умрут, если мешать им это делать (к сожалению, я не знаю, как применить это в домашних условиях). У позвоночных не существует зоны мозга, которую можно было бы вырезать, чтобы животное одновременно осталось бы в живых и при этом перестало спать. Да чего там, клеточные культуры спят! Нейроны и глия в чашке Петри! Ну то есть если их не трогать, они демонстрируют такие паттерны спонтанной активности, как при медленноволновом сне, а с помощью коктейля из возбуждающих нейромедиаторов или с помощью электрических импульсов их можно разбудить, чтобы они работали по‐другому. Сама в шоке, но вот в приличных обзорах так написано, и ссылки на эксперименты приведены. То есть сон – это какое‐то глубинное, фундаментальное, базовое свойство нервной системы, проявляющееся начиная с самых простых уровней ее организации.
И при всем этом мы не знаем, зачем сон нужен. Ну то есть существует большое количество взаимодополняющих гипотез. Да, сон помогает экономить энергию в то время суток, когда добывать еду все равно неудобно. Да, он важен для работы иммунной системы. Если, например, сделать добровольцам две прививки против гепатита А с разницей в 8 недель и оба раза просить их не спать ночью после укола, то на 12‐й неделе у тех, кто не спал, в крови будет в два раза меньше антител против этого вируса, чем у контрольной группы, которой спать разрешали. Да, сон важен для нормального функционирования эндокринной системы и сильно влияет на обмен веществ. Именно во время сна активнее всего вырабатывается гормон роста, полезный для разнообразного мелкого ремонта и обновления тканей. При недостатке сна падает толерантность к глюкозе (клетки хуже справляются с тем, чтобы забрать ее из крови и направить на свои нужды), и эпидемиологические исследования показывают, что у тех, кто регулярно не высыпается, заметно увеличивается вероятность развития ожирения и диабета. Но вышеперечисленные функции, скорее всего, вспомогательные. В смысле, раз уж мы все равно лежим и спим, то организму удобно в это время позаниматься наведением порядка, а если бы в ходе эволюции сон не появился, то регуляция иммунной и эндокринной системы, наверное, была бы нормальной и без него. Более интересны те функции сна, которые непосредственно связаны с работой мозга.
Тут есть три гипотезы. Из них две, красивые и свеженькие, подтверждены пока только отдельными экспериментами, но еще не превратились в научный мейнстрим, а третья – абсолютно общепризнанная.
Во-первых, во время медленноволнового сна мозг потребляет меньше энергии, чем при бодрствовании. Предполагается, что это удобный момент, чтобы восполнить запасы гликогена в глиальных клетках (а возможно, еще и уделить энергию тем внутриклеточным процессам, до которых днем не доходила очередь).
Во-вторых, в последние пять лет начали накапливаться данные о том, что во время сна увеличивается объем межклеточной жидкости, омывающей нейроны. Это, по‐видимому, способствует выведению из них всякого мусора вроде бета-амилоида (того самого, который образует бляшки у людей с болезнью Альцгеймера). Это называется “глимфатическая система” (очень удачно подобранное название: оно сочетает отсылку к лимфатической системе, которая выводит мусор из остальных тканей, и часть слова “глия” – в честь глиальных клеток, которые контролируют процесс притока жидкости в межклеточное вещество мозга и последующего ее отведения).
Я лично в обе гипотезы верю, но как честный человек должна вас предупредить, что исследований пока мало, абсолютной ясности нет и, может быть, придут злые люди и скажут, что все не так. Зато вот в чем вообще никто не сомневается: что сон нужен для нормальной работы памяти, что его важнейшая функция – это переработка информации, накопленной за день, закрепление тех воспоминаний, которые важны, и одновременно стирание воспоминаний, которые не пригодились. Это подтверждено невероятным количеством экспериментов, выполненных самыми разными методами. В моем любимом обзоре про сон и память список литературы включает 1358 наименований – а он, между прочим, вышел в 2013 году, и с тех пор появилась еще масса исследований.
Во-первых, есть поведенческие эксперименты, стабильно демонстрирующие, что учиться нужно перед сном. Например, у вас есть 207 испытуемых. Каждый из них сидит перед компьютером и запоминает слова. Они объединены в пары и внутри пар могут быть либо связаны друг с другом по смыслу (“газета – интервью”, “ружье – пуля”), либо нет (“газета – операция”, “ружье – волна”). Чтобы оценить результат обучения, вы показываете человеку одно слово из пары, а он должен напечатать второе. Обучение продолжается до тех пор, пока испытуемые не запомнят хотя бы 24 слова из предложенных 40.
Половина участников приходит к вам в лабораторию в девять утра, половина – в девять вечера. Если вы тестируете их через полчаса после того, как они запомнили слова, то разницы между утренней и вечерней группой нет. И те и другие вспоминают 75 % от того, что помнили сразу после обучения, если им достались связанные слова, и 70 % – если несвязанные.
Других участников вы тестируете повторно не через полчаса, а когда прошло уже 12 часов. Здесь у вас четыре группы людей, учивших связанные или несвязанные слова утром или вечером. Соответственно, на тест они приходят либо после того, как весь день занимались своими делами, либо после того, как выспались (настолько, насколько это вообще возможно, когда вас ждут в лаборатории к 9:00). Выяснилось, что при таких условиях люди одинаково хорошо справляются с воспроизведением связанных слов. Вам показывают слово “газета”, вы вспоминаете “интервью”. Но вот если участникам достались слова, не связанные по смыслу, то им говорят “газета”, а они должны ответить… Вы‐то помните, какое второе слово я только что приводила в пример? Если нет, то идите спать, потому что те, кто поспал, справлялись с этим заданием так же хорошо, как и с воспроизведением связанных слов, и лучше, чем люди, которые в промежутке бодрствовали.
Еще интереснее третий вариант: теперь все люди приходили в лабораторию через 24 часа после теста. То есть для половины участников расписание выглядело так: “выучил слова – весь день занимался своими делами – лег спать – пришел на тест”, а для другой половины так: “выучил слова – лег спать – весь день занимался своими делами – пришел на тест”. И вот выяснилось, что те, кто учил слова и проходил тест по вечерам, вспоминают примерно столько же слов, сколько и сразу после обучения. Те, кто учил слова и проходил тест утром, вспоминают в среднем на 6,5 слова меньше.
Вы понимаете, что это значит, да? Мир устроен принципиально неправильно. Это не один такой эксперимент есть, их десятки, с разными типами заданий. Людям дают запоминать относительное расположение объектов на экране компьютера. Учат быстро нажимать на клавиши в определенной последовательности. Дают или не дают выспаться ночью. Дают или не дают поспать днем. А результаты везде похожие. Если люди учат что‐то и вскоре ложатся спать, то это записывается им в долговременную память. Если люди учат что‐то утром, то это перебивается всеми последующими дневными впечатлениями, и когда они наконец добрались до постели, закреплять там уже нечего.
Нейробиология говорит нам: в первой половине дня надо заниматься всякой неважной ерундой. Серьезными вещами, например обучением, надо заниматься ближе к ночи. В моей прекрасной магистратуре по когнитивным наукам, которую делали нейробиологи, за два года ни разу не было первой пары. Второй обычно тоже не было. Пятая и шестая бывали регулярно. Нейробиологи понимают: бессмысленно учить людей по утрам. И к тому же бессмысленно учить чему‐то людей, которые не высыпаются, они все равно ничего не запомнят. Когда мы придем к власти, мы отменим первые уроки повсеместно.
Это особенно важно для подростков. Есть такая штука – синдром отсроченного наступления фазы сна. Попросту говоря, человек – сова и не переучивается. Когда социальные обязательства заставляют его изо дня в день рано вставать, он, конечно, начинает засыпать раньше, чем делал бы это добровольно, но изо дня в день, из года в год он все равно сначала час ворочается в постели, а потом на этот же час меньше спит из‐за будильника. И вот если вы подросток, то вы, с одной стороны, не имеете возможности самостоятельно организовывать свой режим сна, а с другой стороны, по‐видимому, в принципе подвержены этому расстройству с большей вероятностью, чем дети или взрослые, – у вас в среднем позже начинает вырабатываться в организме мелатонин (“гормон сна”).
Американские подростки страдают сильнее, чем наши, потому что там вообще принято раньше начинать занятия, причем по мере увеличения количества уроков в старших классах их добавляют в еще более раннее время. Например, занятия в девятом классе могут начинаться в 8:25, а в десятом – уже в 7:20. В конце такой ужасной недели (и не одной!) ученые приглашают школьников в лабораторию, сажают их там вечером в комнату с приглушенным светом и через равные промежутки времени измеряют им уровень мелатонина в слюне. И обнаруживают, что у десятиклассников он достигает установленного порога (предполагающего, что человек уже уснет, если его положить в кровать) все равно в среднем на сорок минут позже. Просто потому, что они старше. Несмотря на то, что они были вынуждены вставать на час раньше все это время.
“Заставлять подростка вставать в 7:30 – это то же самое, что заставлять взрослого вставать в 4:30”, – пишет в неофициальном обзоре Тени Шапиро, исследующая экономические и академические последствия депривации сна. С точки зрения того, что написано в научных статьях про мелатонин, она все же немного сгущает краски, трехчасовой разницы там нет. Но по сути, действительно, все сомнологи сходятся на том, что подростки – самая невысыпающаяся часть человечества, и не только потому, что они разгильдяи и тупят в компьютер, но и потому, что общество требует от них вставать неадекватно рано, а они не могут в полной мере к этому приспособиться. Сдвиг начала школьных занятий на час вперед повышает результаты тестов по математике и чтению в среднем на 3 %, причем сильнее всего для отстающих учеников (может, они потому и отставали, что ничего не соображают от недосыпа). Среди тех 8,4 % норвежских подростков, у которых диагностирован синдром отсроченного наступления фазы сна (то есть это самые неизлечимые совы), 61 % начинает курить, 55,2 % злоупотребляют алкоголем и 35,2 % страдают от депрессии. Не потому, что они совы, а потому, что у них жуткий недосып из‐за школы. Я вот пишу этот абзац в три часа ночи, и мне отлично, потому что издательству Corpus совершенно все равно, во сколько я встаю утром, им главное, чтобы я в принципе написала книжку. Вот курить, правда, начала еще в школе, и пока что мне еще ни разу не удавалось бросить надолго.
Но мы вообще‐то собирались говорить о хорошем. О том, что сон способствует нейропластичности и, соответственно, эффективному обучению. На людях это приходится выяснять, опираясь на поведенческие эксперименты, на данные ЭЭГ и фМРТ о взаимодействии коры и гиппокампа во время сна, на транскраниальную электрическую стимуляцию – словом, по косвенным признакам. А вот на животных много чего можно посмотреть непосредственно. Например, вы берете генно-модифицированных мышей, чьи дендриты (отростки нейронов, собирающие информацию) светятся желтым. Это позволяет вам увидеть под микроскопом прямо сквозь череп, сколько там у мыши дендритных шипиков (выростов, способных образовывать синапсы). Принципиально, что ее для этого не надо убивать (зато надо сбрить шерсть на голове) – это хорошо не только для мыши, но и для исследователей, потому что дает возможность следить за динамикой роста дендритов у того же самого животного. И вот когда вы учите мышей ходить по вращающемуся барабану, то количество дендритных шипиков в нейронах моторной коры предсказуемо увеличивается. Причем в разных местах, в зависимости от того, какое задание вы даете мыши. Но если вы сравните животных, которых вы обучили и потом семь часов мешали им спать (даже если в середине этого периода еще раз их потренировали), с животными, которые после обучения спокойно уснули, то сразу после этого вы увидите, что у выспавшейся группы новых синапсов образовалось вдвое больше, чем у неспавшей. И через сутки по‐прежнему будет больше, даже если уже всем мышам дали поспать. Потому что спать полагается сразу после обучения, даже если вы мышь.
Существенно, что сон способствует не только выращиванию новых синапсов, но и ослаблению тех, которые не пригодились. Если взять три группы мышей – хорошо выспавшихся, не спавших принудительно и не спавших добровольно – и с помощью трехмерной электронной микроскопии изучить их моторную и сенсорную кору, то обнаружится, что площадь синапсов во время сна вообще‐то склонна уменьшаться. У выспавшихся мышей средняя площадь каждого отдельного синаптического контакта уменьшается в среднем на 18 % по сравнению с неспавшими животными. Но важно, что эти изменения не затрагивают 20 % самых крупных синапсов, вероятно связанных с хранением особенно полезных и часто используемых воспоминаний.
На лекциях про память часто спрашивают, может ли в мозге закончиться место. Нет, точно нет. Во-первых, мы просто не успеем до этого дожить. Во-вторых, его там много, синапсы растут и растут себе спокойно на просторе среди межклеточной жидкости. А в‐третьих, все, что мы не используем, мы все равно забываем, и очень эффективно, и, скорее всего, в основном именно во сне.
Беги, Форест, беги
Теперь, если вам позволяет окружающая обстановка, отложите книгу и сделайте пять приседаний, пять наклонов и пять взмахов руками. Если не лень, то десять. Если вы самый лучший читатель этой книги, то сходите на полноценную пробежку. Потом возвращайтесь.
Я просто опять собираюсь рассказывать вам про всякие новые молекулы, а есть исследования о том, что даже разовая тренировка способствует улучшению результатов в тестах на внимание и рабочую память. Нормальная тренировка, конечно, содержит более пяти приседаний, но в случае с физической активностью особенно ярко проявляется принцип “делать хотя бы немножко – гораздо лучше, чем не делать ничего вообще”. Например, многолетние наблюдения за здоровьем пожилых людей демонстрируют, что 15 минут умеренной физической активности в день увеличивают ожидаемую продолжительность жизни на три года, а три часа медленной ходьбы в неделю приводят к улучшению рабочей памяти и внимания на 35 % по сравнению с теми, кто ходит меньше сорока минут.
Если вы честно сделали наклоны и приседания и у вас улучшилось внимание, то вы могли заметить, что я сейчас совершаю классическую ошибку популяризаторов науки: пишу об исследованиях, в которых нашли корреляцию, так, как будто бы там есть причинно-следственная связь. В данном случае я делаю это осознанно и злонамеренно. Имея в виду весь остальной накопленный массив информации, я считаю, что по‐настоящему существующее влияние физической активности на здоровье и интеллект – это самое правдоподобное объяснение полученных данных. Авторы исследований, собственно, тоже так считают.
Начнем, как всегда, со страшной истории про зверюшек. Представьте себе мышь, которая страдает от ожирения и к тому же очень хочет пить. Она толстая, потому что ее 32 недели подряд досыта кормили тяжелой жирной пищей. А пить она хочет, потому что ей сутки не давали воды: это нужно, чтобы протестировать ее интеллектуальные способности. Вы помещаете животное в лабиринт, в котором от центральной площадки отходит восемь коридоров и в конце каждого – плошечка с водой. Задача мыши – напиться, а для этого имеет смысл зайти в каждый рукав лабиринта только один раз и больше туда не ходить, потому что воды там все равно больше нет. Таким образом вы убеждаетесь, что толстая мышь вообще‐то глупее, чем худая мышь из контрольной группы: за 8 минут пребывания в лабиринте она успевает сунуться в те рукава, где уже нет воды, в среднем по 17 раз, в то время как худые мыши лучше держат в голове карту местности и забегают в неправильные рукава только по 9 раз (прежде чем истечет время или прежде чем выпьют всю воду).
Но у вас есть и другая группа мышей. Они тоже толстые, потому что их тоже досыта кормят жирной пищей. Но зато последние 12 недель они занимались на беговой дорожке. Сначала по полчаса на скорости 10 метров в минуту, потом нагрузка постепенно увеличивалась до 16 метров в минуту в течение 50 минут. Это кажется крайне скромным по человеческим меркам (16 метров в минуту – это примерно километр в час), но мыши быстро устают, и вообще у них короткие лапки, так что им в большинстве подобных исследований предлагают примерно такие скорости. Тем более если мышь страдает от ожирения. И вот те толстые мыши, которые тренировались на дорожке, попадая в лабиринт, ошибаются там всего лишь 8 раз. И примерно столько же, 7 раз, ошибаются те худые мыши, которые тоже ходили по дорожке.
То есть если вы питаетесь всякой гадостью и стали толстым, у вас ухудшается пространственное мышление и вообще нарушается интеллект и работа мозга. Про это, кстати, действительно есть куча исследований на животных,. С людьми сложнее: в принципе, такая корреляция многократно зафиксирована, но тут куча важных оговорок. Во-первых, очевидным образом люди очень разнообразны, и любой отдельно взятый гражданин вполне может оказаться одновременно умным и толстым или худым и глупым. Во-вторых, толстые люди часто бывают чем-нибудь больны, например диабетом 2‐го типа, и на мозге плохо отражается непосредственно болезнь. В-третьих, проблематично отличить причину от следствия: может быть, люди потолстели и от этого у них ухудшились результаты выполнения интеллектуальных тестов, а может быть, они были не очень умными с самого начала и вследствие этого не следили за своим весом. В-четвертых, проблемы с фигурой и с интеллектом могут быть у людей двумя несвязанными следствиями общей причины, например низкого социоэкономического статуса их родительской семьи. Так что не будем останавливаться на этой скользкой теме, а вернемся к нашим баранам – в смысле к толстым мышам. Вот они точно тупили в лабиринте – и при этом, что принципиально важно, переставали тупить, если в их жизни появлялась регулярная физическая нагрузка, даже несмотря на то, что режим питания по‐прежнему был нездоровым.

Исследователи анализировали не только поведение толстых мышей, но и состояние их мозга. При жизни им вводили бромдезоксиуредин. Эта молекула достаточно похожа на тимидин, один из строительных блоков ДНК, чтобы клетки могли их перепутать и встроить неправильную молекулу во время копирования своего генетического материала. Это очень удобно, потому что потом можно проанализировать содержание бромдезоксиуредина в клетках и таким образом понять, размножались ли они в обозримом прошлом. Если дополнительно использовать антитела к белкам, типичным именно для нейронов, то можно определить, сколько в мозге появилось в последнее время новых нервных клеток. Все это анализировали в зубчатой извилине гиппокампа (пространственное мышление и память, напоминаю я для малоподвижных читателей). Результаты вполне предсказуемые: больше всего юных нейронов, по 400 на квадратный миллиметр, было у мышей, которые ели нормальную еду и занимались спортом; по 300 – у тех, кто правильно питался, но мало двигался; около 280, но без достоверных отличий от второй группы, – у мышей, которые ели жирную пищу, но ходили по дорожке; и меньше всего, около 200, – у самых несчастных животных, толстых и малоподвижных.
Подобная картина наблюдалась и для производства белка BDNF и рецепторов к нему: чем более здоровый образ жизни ведет животное, тем больше у него BDNF. А это очень важная молекула.
BDNF, или нейротрофический фактор мозга, – в каждой бочке затычка, когда мы говорим о нейропластичности. Он способствует высвобождению нейромедиаторов; работе NMDA-рецепторов; экспрессии белка CREB, нужного для роста новых синапсов; участвует в созревании и выживании нейронов. Он синтезируется во многих отделах нервной системы, но особенно активно – в коре головного мозга и в гиппокампе. А что самое интересное – любая физическая активность способствует увеличению его производства.
В 2004 году Шошанна Вайнман и ее коллеги провели изящный эксперимент, показавший, что львиная доля благотворного влияния физических упражнений на интеллектуальные функции, в частности на пространственное мышление и память, обусловлена именно активностью BDNF.
Крысы, с которыми работали исследователи, могли бегать в колесе сколько хотят и пользовались этой возможностью, пробегая по крайней мере по 100 метров в сутки. Это должно приводить к увеличению синтеза BDNF. Но половине из них этот факт не приносил особенной пользы, потому что рецепторы к BDNF у них были заблокированы с помощью инъекции антител в гиппокамп. Кроме этого, две группы крыс жили в клетках, где было негде побегать, – им тоже либо блокировали рецепторы, либо делали инъекцию плацебо.
После того как животные неделю либо бегали, либо нет, с работоспособными или нет рецепторами к BDNF в гиппокампе, их всех пять дней тестировали в водном лабиринте Морриса. Это такая большая круглая кадка, в которую крыс запускают плавать. Где‐то есть подводный островок, на который можно встать. Его не видно с поверхности, животное может только наткнуться на него случайно. Плавать крысы не любят, так что, если они попадают в знакомый лабиринт Морриса, они стараются как можно быстрее нащупать твердую почву под ногами.
В первый день животные натыкаются на подводную платформу случайно, и в среднем до этого момента проходит минута в свободном плавании. Во второй день они уже примерно помнят общее направление и справляются немножко быстрее, в среднем за 50 секунд. А с третьего дня начинает проявляться достоверная разница между теми, кто бегал в колесе и при этом беспрепятственно пользуется своим BDNF, и всеми остальными группами участников эксперимента. Счастливчики, которые вели здоровый образ жизни и при этом не получили дозу антител к рецепторам, бодро устремляются к платформе и стоят на ней уже через 15 секунд. А вот те, кто либо мало двигался, либо двигался достаточно, но с заблокированными рецепторами к BDNF, кружат по лабиринту в два раза дольше. На пятый день все крысы справляются с заданием за 20 секунд – кроме привилегированного сословия, которому требуется всего 10.
Нам, людям, в мозг никто ничего не вводит, так что мы можем беспрепятственно повышать уровень BDNF с помощью упражнений, чтобы лучше справляться с превратностями судьбы. Действительно, большинство исследований подтверждает,, что уровень BDNF в крови повышается даже после разовой тренировки, а у тех, кто тренируется регулярно, увеличен все время (особенно, конечно, сразу после похода в спортзал). Известно, что BDNF хорошо проникает через гематоэнцефалический барьер, так что считается, что его уровень в крови более или менее надежно отражает его производство в мозге. Увеличение уровня BDNF благотворно отражается на способности испытуемых справляться с различными тестами на внимание и память, хотя конкретные результаты варьируют в зависимости от методики исследования. По-видимому, аэробные тренировки оказывают более выраженный эффект, чем силовые, а мужчины получают от них, с точки зрения BDNF, чуть больше пользы, чем женщины (возможно, это связано с гормональными колебаниями в ходе менструального цикла и взаимодействием между BDNF и эстрогеном). Исследования продолжаются, данные накапливаются и уточняются, но вот в том, что заниматься хоть какой-нибудь физкультурой полезно представителям обоих полов, мы уверены уже сейчас.
Продемонстрировать пользу физических упражнений можно не только с помощью анализов крови и тестов на интеллект, но и с помощью томографии. Кросс-секционные исследования (в которых спортивных людей сравнивают с любителями валяться на диване) показывают, что у тех, кто регулярно двигается, в среднем выше плотность серого вещества в префронтальной коре и гиппокампе. Эксперименты подтверждают, что тут есть причинно-следственная связь: у тех, кто не занимался, а потом начал, через полгода плотность серого вещества тоже увеличивается. Кроме того, регулярные тренировки благотворно отражаются на кровоснабжении мозга в состоянии покоя, хотя этот эффект, к сожалению, быстро ослабевает, если перестать заниматься.
Существенно, что регулярность занятий, с точки зрения пользы для мозга, намного важнее их интенсивности. Если вы можете пробежать пять километров и чувствовать себя хорошо, это здорово, но если пока не можете, то не надо себя насиловать: быстрая ходьба отразится на кровоснабжении вашего мозга гораздо лучше. Дело в том, что сонная артерия у нас делится на две веточки, внутреннюю и наружную. Первая доставляет кровь к мозгу, вторая – к коже и мышцам головы. Экспериментально показано, что при очень интенсивных физических нагрузках приток крови к мозгу перестает расти и начинает, наоборот, снижаться, потому что она начинает интенсивнее поступать в наружную сонную артерию. Это нужно, чтобы усилить потоотделение: когда вы бежите со всех ног, то вам важнее не упасть в обморок от перегрева, чем думать, куда вы бежите и зачем. В лаборатории это измеряют, заставляя людей заниматься на дорожке или велотренажере в кислородной маске, и ухудшение кровоснабжения мозга начинается с 60–80 % от максимального потребления кислорода. В бытовых целях можно считать, что ради улучшения кровоснабжения мозга имеет смысл тренироваться в диапазоне 60–70 % от максимального пульса. Если считать его по традиционной формуле фитнес-инструкторов “220 минус возраст”, то получится, что максимальный пульс для тридцатилетнего человека – 190 ударов в минуту, а для тренировки, соответственно, следует ориентироваться на 120–130. Это совсем не тяжелая и не мучительная нагрузка, но она очень важна.
Если честно, молодые люди часто набирают свои (рекомендованные ВОЗ) 150 минут физической активности в неделю и без каких‐то сознательных усилий в этом направлении – просто потому, что быстро ходят, носятся по эскалаторам, подметают пол, играют с детьми и собаками, танцуют и занимаются сексом. Гораздо хуже обстоят дела у людей взрослых и солидных, у которых уже есть деньги на такси, домработницу и доставку еды на дом. Еще хуже – у пожилых людей, которые уже плохо себя чувствуют и не стремятся ни к какой активной деятельности (а от этого – порочный круг – начинают чувствовать себя еще хуже). Так что если у вас есть бабушка и вы ее любите, то самое лучшее, что вы можете для нее сделать, – завести привычку регулярно ходить с ней гулять. Или подарить ей беговую дорожку. Абонемент в бассейн. Загородный дом с садовым участком, требующим ухода. Или собаку. Или научить бабушку играть в покемонов. В общем, придумайте что-нибудь. Это правда очень важно, если вы хотите, чтобы ваша бабушка оставалась в ясном уме и добром здравии как можно дольше.
Назад: Глава 5 Как вмешаться в чужую память?
Дальше: Часть III Иллюзия единства Как спорят и сотрудничают разные части мозга

