Книга: Мозг материален
Назад: Глава 4 Улитки, котята и NMDA-рецептор
Дальше: Глава 6 Самостоятельное плетение нейронных сетей
Глава 5
Как вмешаться в чужую память?
Доверять показаниям свидетелей, наверное, можно, но с осторожностью. Вот представьте такой эксперимент: в лабораторию приходят 150 человек, и вы показываете им всем один и тот же видеоролик про автомобильную аварию. Нестрашный. Просто машины неудачно пытались разъехаться и поцарапали друг друга.
Потом вы спрашиваете испытуемых, с какой скоростью ехали автомобили. При этом одну группу, контрольную, вы спрашиваете именно в такой формулировке. А двум экспериментальным группам подсовываете подсказки: “С какой скоростью ехали машины, когда они соприкоснулись?” и “С какой скоростью ехали машины, когда они врезались друг в друга?”
Нетрудно догадаться, что скорость автомобилей окажется разной в зависимости от формулировки вопроса. Те, кто описывал врезавшиеся автомобили, в среднем сообщили, что они ехали со скоростью 10,46 миль (16,83 км) в час, а испытуемые, размышлявшие о соприкоснувшихся автомобилях, приписали им скорость 8 миль (12,87 км) в час. Само по себе это не слишком удивительно. Люди не очень хорошо умеют оценивать время, расстояние и скорость, и вполне естественно, что они бессознательно опираются на подсказку, содержащуюся в формулировке вопроса, и корректируют свои оценки в соответствии с ней.
Интереснее другое. Через неделю испытуемых снова пригласили в лабораторию. Ролик больше не показывали, зато спросили, видели ли они разбитое стекло. Среди тех, кто во время прошлого визита в лабораторию размышлял о врезавшихся автомобилях, разбитое стекло припомнили 16 % участников. В остальных двух группах, с соприкоснувшимися автомобилями и вовсе без уточнений о характере столкновения, – 7 и 6 % соответственно. На самом деле, конечно же, никакое стекло в ролике не разбивалось.
Это была первая работа о ложных воспоминаниях, опубликованная в 1974 году психологами Элизабет Лофтус и Джоном Палмером. С тех пор Элизабет Лофтус и ее коллеги проделали со своими испытуемыми еще гору интересных вещей. Например, пробовали внедрить им в голову фальшивые воспоминания о детстве.
Для каждого испытуемого готовили буклет, в котором были описаны четыре истории из его старшего дошкольного возраста. Три настоящие, подготовленные с помощью родственников, и одна выдуманная, одинаковая для всех, – о том, как участник исследования, когда ему было пять лет, потерялся в торговом центре, заплакал, но пожилая женщина помогла ему найти родственников, и все закончилось хорошо. К участию в эксперименте привлекали только тех людей, чьи старшие родственники были абсолютно уверены, что на самом деле ребенок в торговом центре никогда не терялся. Самим испытуемым расплывчато говорили, что исследуют детские воспоминания, и просили записать в буклете все, что они помнят о каждом случае, – ну или написать, что они совсем ничего не помнят, если это так. Через неделю-две после заполнения буклета, а потом еще через неделю-две, с ними проводили интервью, в которых просили воспроизвести в памяти дополнительные подробности, а также оценить, насколько четко они помнят эти события и насколько уверены, что смогут добавить еще какие-нибудь детали, если подумают.
Всего в исследовании участвовали 24 человека. Они смогли вспомнить 49 из 72 событий, которые происходили с ними на самом деле. Кроме того, семеро из них сообщили, что помнят, как потерялись в торговом центре. Но двое из этих участников отсеялись (одна девушка призналась на интервью, что все‐таки не помнит случай с торговым центром, а со вторым испытуемым ошиблись сами экспериментаторы – задали не все вопросы, которые планировали, и его пришлось исключить из анализа данных). Пятеро оставшихся людей, успешно запутанных экспериментаторами, все равно помнили настоящие события из своей жизни лучше, чем фальшивые, – на 6,3 балла по десятибалльной шкале. Что касается выдуманной истории, то ее они помнили в среднем на 2,8 балла во время первого интервью – но уже на 3,6 балла во время второго. Добавляли всякие подробности: “Женщина, которая меня нашла, была толстая, а мой брат сказал, что она милая”. Когда им объяснили, что одно из четырех воспоминаний в буклете было фальшивым, и предложили угадать которое, 19 участников из 24 выбрали правильно, но даже среди них некоторые продолжали удивляться: “Но как же, я же четко помню, как я шла мимо примерочных и не нашла свою маму там, где она должна была быть!”
Как видите, большинство людей остается довольно устойчивыми к ложным воспоминаниям. Но зато, если воспоминание все же показалось человеку достаточно убедительным, оно встраивается в картину мира и начинает влиять на представление человека о том, кто он такой, и, соответственно, на принимаемые им решения. Это Элизабет Лофтус и ее коллеги продемонстрировали, например, в эксперименте, посвященном любви к спарже.
Людей, как обычно, запутали. Сказали им, что изучают связь между пищевыми предпочтениями и складом характера. Дали пять опросников. Из них три были про характер, а важны для исследователей на самом деле были только остальные два: про то, какую еду человек любил в детстве, и про то, какие блюда в ресторанном меню кажутся ему привлекательными сейчас. В опросник про детские предпочтения подсунули пункт “полюбил спаржу, когда попробовал ее первый раз”, согласие с которым нужно было оценить по шкале от 1 до 8. В опроснике про рестораны исследователей тоже на самом деле интересовало только одно блюдо, “обжаренные ростки спаржи”, но для конспирации там была куча другой еды. Испытуемых просили представить, что они идут в ресторан отмечать какое‐то важное событие, и оценить для каждого блюда вероятность того, что они его закажут, тоже по восьмибалльной шкале.
Через неделю люди снова приходили в лабораторию. Им говорили, что компьютер составил профиль их пищевых предпочтений в детстве. “Вы не любили шпинат, вам нравилось жареное, вы радовались, когда ваши одноклассники приносили в школу сладости, а еще вы любили спаржу” – вот такое описание получила половина испытуемых. Они спокойно это выслушали, никто из них не завопил: “Эй, ваш компьютер что‐то перепутал!” В контрольной группе текст был таким же, но только спаржа вообще не упоминалась. Когда испытуемым затем снова предлагали заполнить опросник про детские пищевые предпочтения, то контрольная группа оценила спаржу так же, как и раньше, – в среднем на полтора балла из восьми. А вот те, кому компьютер сказал, что они любили спаржу в детстве, приняли это к сведению и теперь оценили ее в среднем на четыре балла из восьми.
Разумеется, разные люди поддались на манипуляцию в разной степени. Испытуемых также расспрашивали, насколько твердо они помнят свой первый приятный опыт поедания спаржи (а заодно и другой еды, которая им нравилась на самом деле), и это наконец создавало удачную возможность заявить: “Да не было вообще ничего такого”. Из 46 человек, попавших в экспериментальную группу, 20 именно так и поступили. У этих людей отношение к спарже осталось прежним, несмотря на попытки исследователей их запутать. Но нашлись и 26 доверчивых испытуемых, которые заявили, что да, они помнят, как полюбили спаржу, или по крайней мере верят, что с ними такое было. И вот эти люди приписали спарже дополнительные полтора балла и тогда, когда еще раз заполняли ресторанный опросник, посвященный их сегодняшним пищевым предпочтениям.
То есть смотрите, что происходит. Людям говорят, что в детстве они любили спаржу. Половина верит. После этого у них обновляются представления о себе: “Я такой человек, который в детстве полюбил спаржу”. И это меняет их современное отношение к спарже: они заявляют, что с большей вероятностью закажут ее в ресторане, и вдобавок готовы заплатить за нее в овощном магазине больше денег, чем контрольная группа (это тоже проверяли с помощью опросника).
Обсуждая эти результаты на конференции TED, Элизабет Лофтус говорит: “Психотерапевты по этическим соображениям не могут насаждать фальшивые воспоминания в головы своих пациентов, даже если бы это пошло тем на пользу. Но никто не может запретить родителям попробовать сделать это со своими детьми, страдающими от лишнего веса. Когда я высказала эту мысль публично, это вызвало переполох: «Вот до чего дошло! Она говорит, что родители должны лгать своим детям!» Привет, Санта-Клаус. Я имею в виду, есть другой способ смотреть на вещи. Что бы вы предпочли – ребенка с ожирением, диабетом, сниженной продолжительностью жизни или ребенка с лишним кусочком фальшивых воспоминаний? Я знаю, что я бы выбрала для своего”.
Если серьезно, то эти данные лишний раз напоминают нам, что ближнего своего лучше бы обычно хвалить, а не ругать. Потому что всегда есть риск, что он нам поверит. Имеет смысл регулярно рассказывать окружающим, что они красивые, хорошие, добрые, старательные, способные. Люди формируют представление о себе в том числе и с учетом мнения общественности и склонны соответствовать ее ожиданиям. Поэтому, если вдруг я для вас тоже важный источник информации, то сообщаю вам, что вы такой человек, который регулярно двигается, питается здоровой пищей, вовремя ложится спать и легко бросает вредные привычки. Живите теперь с этим знанием о себе.
Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым
Вот вам еще один поведенческий эксперимент с людьми, на этот раз менее зажигательный, но демонстрирующий важные свойства нашей памяти.
Испытуемые приходят в лабораторию. Им поочередно показывают 20 предметов (игрушечную машинку, зубную щетку, ложку, носок и т. п.), а потом складывают их в синюю корзинку. Процедура повторяется либо четыре раза подряд, либо до тех пор, пока человек не запомнит хотя бы 17 предметов из списка.
Через два дня люди снова приходят в лабораторию. Половине из них показывают синюю корзинку (без вещей) и просят описать, как происходила процедура обучения, не перечисляя при этом конкретные предметы. Потом им всем дают заучить еще один список из 20 предметов (яблоко, камень, книжка…), но теперь показывают все предметы одновременно, и вообще это делает другой экспериментатор в другой комнате.
Еще через два дня испытуемых просят вспомнить как можно больше предметов из первого списка. И выясняется, что успех этого мероприятия зависит от того, показывали ли им в середине синюю корзину. Если этого не делать, человек вспоминает в среднем 45 % предметов из первого списка и ошибочно добавляет туда 4,9 % предметов из второго. А вот если второй список пришлось учить сразу после активации воспоминаний о первом визите в лабораторию, то человек правильно вспоминает 36,3 % предметов, а еще приплетает 23,8 % предметов из второго списка. Важно, что такой эффект наблюдается именно в том случае, если уже прошли два дня с прошлого визита. Если попросить испытуемых припомнить вещи из первого списка сразу после того, как они зубрили второй, они никогда не перепутают, что откуда.
Что это означает? Каждый раз, когда мы обращаемся к какому‐то воспоминанию, оно перезаписывается в нашей голове. Новая полученная информация накладывается на старую, если мы одновременно обдумывали и ту и другую. При этом изменение воспоминания не происходит мгновенно, реконсолидация требует времени на перестройку нейронных связей.
Это утверждение поддается проверке и в экспериментах, имеющих более прямое отношение к нейробиологии. Например, можно взять крыс и научить их бояться звукового сигнала, потому что его сопровождает слабый, но ощутимый удар током. Когда крыса слышит этот звук, она прекращает свою деятельность, замирает и ждет неприятностей. Она делает так всегда. Но если в один прекрасный день одновременно с предъявлением звука вы сделаете ей инъекцию анизомицина – вещества, нарушающего синтез белков, – то крыса забудет, что этого звука она боялась. Анизомицин в этом эксперименте вводили прямо в амигдалу – помните, тот участок мозга, который связан как со страхом, так и с памятью о нем. Существенно, что если вы введете крысе анизомицин просто так, без предъявления звука, то ее пугающие воспоминания никуда не денутся. Звук был нужен для того, чтобы активировать нейроны, связанные с выученным страхом, а анизомицин – чтобы помешать им правильно перезаписать воспоминание.
В тот момент, когда воспоминание только-только формируется, или в тот момент, когда мы заново к нему обратились, – оно нестабильно, его можно нарушить, в том числе и с помощью фармакологических воздействий. Понятно, что это открывает интересные направления работы с человеческими страхами. Насколько мне известно, никто всерьез не предлагает вводить нам в мозг анизомицин или другие блокаторы синтеза белка. Даже если бы их можно было дать в виде таблетки и добиться при этом достаточной концентрации в мозге, все равно они токсичны. И к тому же возникают этические проблемы. Вот, допустим, человек пережил травмирующий опыт – например, стал свидетелем теракта или жертвой изнасилования. Пускай мы придумаем такую таблетку, которую ему сразу могут выдать сотрудники скорой помощи, чтобы предотвратить запись этого воспоминания в долговременную память. Хорошо ли это? Имеет ли смысл отказываться от пережитого опыта? И к тому же вряд ли таблетка будет настолько эффективна, чтобы у человека просто случился провал в памяти. Более вероятно, что воспоминание будет отрывочным, неполным и нелепым. Человека, например, всю оставшуюся жизнь будет трясти на этой станции метро, но он не будет понимать почему. Лучше использовать более мягкие, более выборочные, более осознаваемые самим человеком способы вмешательства.
Львиная доля исследований человеческих страхов проводится с помощью испытуемых, которые боятся пауков. Во-первых, таких людей легко найти – от арахнофобии страдает примерно каждый десятый. Во-вторых, паука гораздо удобнее держать в лаборатории, чем змею или собаку. Он недорого стоит, долго живет, мало ест и неприхотлив в быту.
Когнитивно-поведенческие психотерапевты широко применяют живых пауков, чтобы, собственно, вылечить своих пациентов от фобии. Метод, который они чаще всего используют, называется экспозиционная терапия. Вы приходите в клинику, а там сидит живой паук. Вы смотрите на паука, паук смотрит на вас. Вы смотрите на паука, паук смотрит на вас. Вы смотрите на паука, паук смотрит на вас. Вы смотрите на паука, паук смотрит на вас. В конце концов вам становится скучно. То есть вы запомнили, что пауки – это скучно. Вы начинаете бояться меньше. Классическое павловское затухание условного рефлекса (именно поэтому паука-птицееда, который работает в Центре нейроэкономики и когнитивных исследований в НИУ ВШЭ, зовут Иван Петрович). Это хороший способ лечения, но долгий, иногда мучительный для пациентов с сильной фобией, и к тому же эффект не всегда сохраняется надолго и не всегда распространяется на любых пауков, а не только на конкретного Ивана Петровича. Так что многие лаборатории по всему миру ищут способы повысить эффективность экспозиционной терапии. В том числе с помощью фармакологических воздействий.
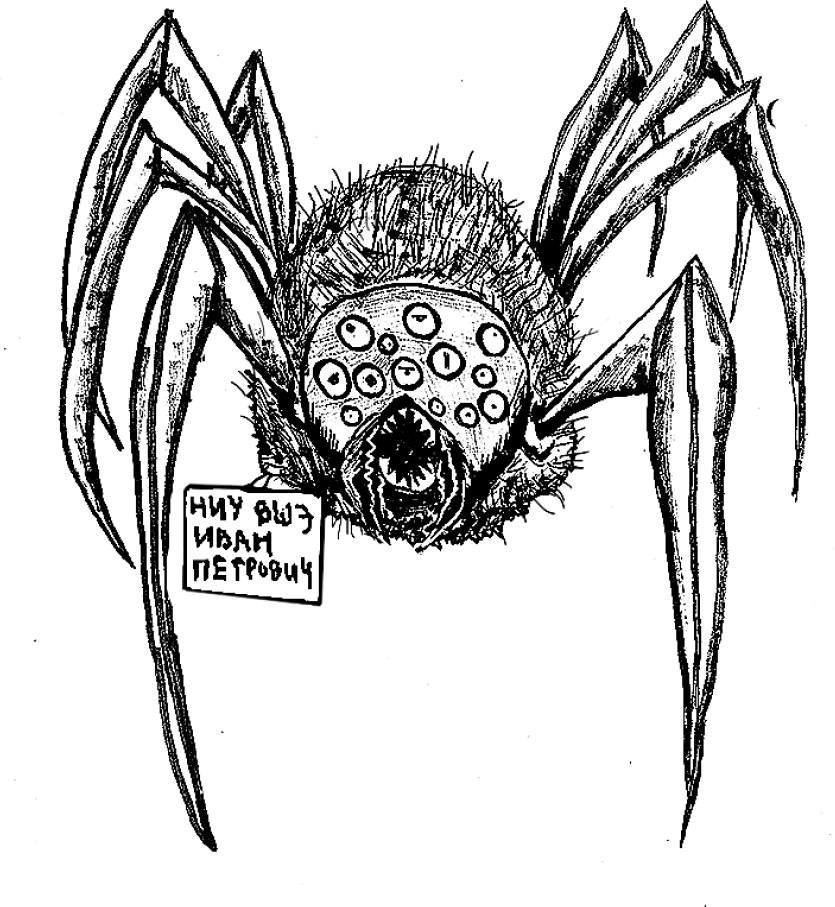
Как вы знаете, нейроны общаются друг с другом с помощью нейромедиаторов. У нас их много разных, некоторые широко распространены по всему мозгу, некоторые преимущественно работают в каких‐то конкретных его областях. В частности, в амигдале велика роль норадреналина, и там много специфических рецепторов к нему. Похожие рецепторы есть в сердце, там они нужны для того, чтобы реагировать на адреналин и увеличивать частоту сердечных сокращений. Соответственно, давно существовали лекарства, способные связываться с этими рецепторами и мешать им работать – исходно предназначенные для того, чтобы снижать частоту сердечных сокращений. Некоторые из этих лекарств способны проникать через гематоэнцефалический барьер (таможню между кровеносной системой и мозгом) и нарушать проведение нервных импульсов в амигдале, и вдобавок снижать интенсивность синтеза новых белков в ее нейронах. Этим можно воспользоваться.
Мэрил Киндт из Университета Амстердама приглашает к себе в лабораторию людей, которые боятся пауков. В течение двух минут испытуемые внимательно смотрят на живого паука, а сразу после этого съедают таблетку пропранолола, блокатора бета-адренорецепторов (или таблетку плацебо, тут уж кто в какую группу попал). Когда участники эксперимента, которым досталось настоящее лекарство, приходят в лабораторию в следующий раз, они по‐прежнему помнят про себя, что они такие люди, которые боятся пауков, – и уверенно заявляют это при заполнении психологических опросников. Но дальше им предлагают поведенческий тест, в котором нужно взаимодействовать с настоящим пауком. И испытуемые, к собственному удивлению, соглашаются делать с ним такие вещи, о которых раньше отказывались и думать, – например, согласны подталкивать паука пальцем или брать его в руку. “Вообще‐то я помню, что я пауков боюсь, но этот ваш какой‐то нестрашный”, – вероятно, думает испытуемый в такой ситуации. А с чего бы пауку быть страшным, если в прошлый раз у человека было нарушено формирование эмоциональной памяти о взаимодействии с ним. Амигдала должна бы выть сиреной: “Паук! Паук! Бежим отсюда!”, но она этого больше не делает. Ни через две недели, ни через три месяца, ни через год. Две минуты, одна таблеточка, и вы избавлены от фобии навсегда. Круто же.
Но, честно говоря, фобии – это не самая главная проблема. Обычно вы боитесь чего‐то конкретного и в принципе можете выстроить свою жизнь так, чтобы этого избегать. Больше неприятностей людям доставляет посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Если человек стал свидетелем катастрофы, жертвой сексуального насилия, если его жизнь подвергалась опасности, ему может быть очень плохо еще месяцы и годы после этого. Его преследуют навязчивые мысли, он не может ни на чем сосредоточиться, испытывает тревогу, избегает любых ситуаций, которые могут напомнить ему о травме, и качество его жизни снижается очень сильно. Было бы здорово, если бы с этим тоже можно было бороться с помощью пропранолола.
Теоретически это должно работать хорошо: вы даете человеку таблетку, у него сохраняется память о событии, но притупляется эмоциональная реакция на него. На практике результаты пока довольно противоречивы. Например, известно, что посттравматическое расстройство часто развивается после инфаркта миокарда, хотя в этой ситуации пациенты как раз получают бета-блокаторы. Если прицельно посмотреть на статьи, в которых людям предлагали принять таблетку пропранолола или плацебо, например при поступлении в приемный покой больницы после автокатастрофы, то успехи тоже оказываются скромными. Во-первых, мало кто вообще соглашается: человеку и так плохо, а тут вы к нему еще и пристаете с какими‐то научными исследованиями. Во-вторых, не всегда возможно предложить пациентам принять таблетку в пределах хотя бы шести часов после травмы – понятно, что в первую очередь они должны пройти через все необходимые лечебные процедуры. В-третьих, сложно сравнивать разные исследования, потому что там применялись разные дозировки, графики приема и способы оценки состояния пациентов. Соответственно, некоторые исследования показывают, что эффект есть (у тех, кто принял пропранолол, ПТСР развивается реже и его симптомы оказываются менее выраженными), но это уравновешивается исследованиями, в которых никакого эффекта обнаружить не удалось.
Но у нас есть феномен реконсолидации воспоминаний. То есть вам необязательно приставать к человеку непосредственно после травмы. Если прошло несколько месяцев, жизнь уже нормализовалась, но посттравматическое стрессовое расстройство по‐прежнему не позволяет ей радоваться, то вы можете пригласить человека в лабораторию, попросить его обстоятельно вспомнить тот ужас, который с ним случился, накормить его пропранололом и посмотреть, поможет или нет.
Вот совсем небольшое пилотное исследование, описание четырех пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством, с которыми в 2016 году работала Мэрил Киндт. Вкратце процедура была следующей: вначале человек заполняет опросники, призванные оценить тяжесть ПТСР, потом приходит в лабораторию, и его просят описать травматический опыт, побуждая концентрироваться на самых-самых ужасных и чудовищных аспектах события. Когда пациент сообщает, что достиг максимально возможного уровня стресса и просто не способен расстроиться из‐за воспоминаний еще сильнее, чем уже расстроен, ему дают таблетку пропранолола. Через неделю человек приходит снова и заполняет опросники. Если какого‐то существенного улучшения не произошло, с ним делают то же самое, что и в прошлый раз, только стараются найти какие‐то новые чудовищные аспекты травмы. Потом люди приходят в лабораторию через месяц и через четыре месяца, чтобы исследователи могли снова оценить их состояние.
Проблема была у каждого своя. Первая пациентка страдала от непрекращающихся ночных кошмаров, острого горя и навязчивых мыслей, с тех пор как три месяца назад ее мать совершила самоубийство. Она набирала 27 баллов из 40 возможных по диагностической шкале интенсивности посттравматического стрессового расстройства (PDS). Уже через неделю после вмешательства выраженность ПТСР снизилась до 9 баллов. Вернувшись для контрольного визита через месяц, женщина отметила, что почти скучает по панике и тревоге, мучившим ее после смерти матери, – настолько внезапно они исчезли. Она, конечно, по‐прежнему испытывает грусть, но теперь интенсивность переживаний не так велика, чтобы пытаться всеми силами гнать их прочь, как она делала это раньше. Пациентка рассказала, что она смогла обсудить смерть матери со своим братом, а также зайти в комнату, где произошло самоубийство, о чем не могла и помыслить, пока не прошла лечение.
Вторая женщина за два года до встречи с исследователями путешествовала со своим мужем по ЮАР. Ночью в их гостиничный номер вломился вооруженный грабитель. Он держал женщину под прицелом, пока ему не отдали все ценные вещи. Все время, прошедшее с этого момента, потерпевшая страдала от навязчивых воспоминаний об ограблении – особенно по ночам, когда она просыпалась от каждого шороха. В то же время по формальным критериям ее симптомы были относительно слабыми (14 баллов из 40 возможных), и она решила принять участие в исследовании только потому, что друг снова пригласил ее в ЮАР и она хотела бы поехать. Во время неприятной процедуры пробуждения воспоминаний пациентка, рыдая, описывала, как грабитель в отвратительно грязных мешковатых штанах стоял рядом с ней, приставив к ее голове ружье. Затем женщина получила таблетку пропранолола. Через неделю она набрала в опроснике всего 4 балла, рассказала, что снова стала хорошо спать, а вскоре благополучно съездила в Йоханнесбург, где произошло ограбление, и не испытала там никаких неприятных ощущений.
Третья участница исследования четыре года не могла прийти в себя после опыта абьюзивных отношений, включавшего, в частности, изнасилование. Прежде она уже пыталась обращаться за помощью к психологам, но это никак не улучшило ее состояние, так что и от нового вмешательства она не ожидала ничего хорошего. Во время первой психотерапевтической сессии она описывала ужасные ощущения от того, что дверь в ее комнату во время изнасилования была открыта, но никто из соседей по общежитию не пришел ей на помощь. Она говорила, что испытывает бессилие и чувство, что она заслужила дурное обращение. Обсуждение этого события привело ее в подавленное настроение, но не вызвало выраженного всплеска эмоций, так что исследователи решили не давать ей лекарство сразу, а встретиться с ней еще раз. Во время второй встречи они обсуждали другой случай из ее отношений, который она не восприняла как изнасилование, но тоже было неприятно: они с бойфрендом ездили на пляж на мотоцикле, она рассчитывала, что это будет романтично, но выяснилось, что его интересует исключительно секс. Она чувствовала бессилие, утрату контроля, сильный дискомфорт. Исследователи предложили ей представить, как она могла бы повести себя по‐другому в этой ситуации. Девушка представила, что уходит. Это важный прием с точки зрения реконсолидации воспоминаний: чтобы они могли измениться, важно, чтобы появилась какая‐то новая информация или какие‐то новые чувства. Действительно, в этот раз она ощутила возможность контроля, чувство безопасности и освобождения – и сразу же разрыдалась. После этого ей дали пропранолол. Во время следующего визита она набрала 4 балла по шкале ПТСР (исходно было 22) и рассказала, что смогла выкинуть из головы навязчивые мысли о бывшем бойфренде, бóльшую часть времени пребывает в хорошем настроении и стала лучше учиться. Она также отметила, что стала более раздражительной, но и это трактовала как хороший признак – возросшую способность постоять за себя в конфликтных ситуациях.
Четвертая пациентка – единственная в этом исследовании, которой терапия не помогла. У нее был тяжелый травматический опыт: когда она была подростком, за пять лет до обращения, в ее дом вломились вооруженные грабители. Отец попытался оказать сопротивление, и ему выстрелили в голову (к счастью, он выжил). В маму тоже стреляли, хотя промахнулись, и самой девушке приставили оружие к голове и угрожали убить. Ее и маму связали. Одного из грабителей впоследствии нашли и посадили, но второй все еще разгуливает на свободе. Описывая свой травматический опыт, девушка была довольно сдержанна в эмоциональных проявлениях, и поэтому исследователи не были уверены, что в полной мере достигли пробуждения воспоминаний, важного для возможности в них вмешаться. Тем не менее три сессии подряд ей давали пропранолол. Количество баллов по шкале ПТСР слегка снизилось (с 24 до 15 баллов), но потом снова поднялось до 19. Девушка предположила, что у нее действительно не получилось достаточно испугаться, потому что дневной свет и присутствие врача создавали ощущение безопасности. Исследователи предложили ей провести еще одну сессию в доме, где произошло ограбление, но пациентка отказалась, опасаясь, что от этого паника станет абсолютно неконтролируемой и она сойдет с ума.
Разумеется, четырех пациентов недостаточно, чтобы делать какие‐то выводы. Проблема даже не столько в количестве, сколько в том, что им всем давали лекарство и никому не давали плацебо. Соответственно, мы не знаем, в какой степени благотворный эффект связан именно с воздействием на бета-адренорецепторы. Может, людям просто помогло заплакать в кабинете у психотерапевта. Собственно говоря, экспозиционная терапия, о которой мы говорили в связи с паучком, может применяться и для лечения посттравматического стрессового расстройства, причем часто пациентам предлагают именно вообразить травмирующее событие. Разница в том, что, во‐первых, при экспозиционной терапии врач и пациент общаются дольше, а во‐вторых, в исследовании Мэрил Киндт разговоры прекращались в момент максимального эмоционального напряжения, а при экспозиционной терапии нужно, наоборот, дождаться, пока человек проживет все заново и успокоится. Но в любом случае золотой стандарт испытания любых лекарств – это двойные слепые плацебо-контролируемые рандомизированные исследования. То есть людей случайным образом разбивают на две группы, одной дают лекарство, а другой пустышку, и при этом ни врач, ни пациент не знают, кто в какую группу попал.
Вот вам исследование 2018 года, в котором были уже 60 участников и все делалось по правилам. На этот раз лекарство (или плацебо) давали за час до активации воспоминаний. Вызывали их с помощью сочинения, в котором человек от первого лица и в настоящем времени описывал свои чувства во время травмы, а потом вслух зачитывал свои записи терапевту. Люди приходили в лабораторию каждую неделю, шесть недель подряд. Во время последующих визитов их уже не просили писать новые сочинения, только читать вслух готовое, но всегда спрашивали, не хотят ли они внести в текст какие-либо изменения. За время исследования половина участников по разным причинам отсеялась: некоторые сообщили о побочных эффектах от лекарства (и в плацебо-группе тоже, как это обычно и бывает), некоторым просто надоело, у одного человека нашли рак, и ему, естественно, стало не до научных исследований, одна участница забеременела (а беременных никогда не берут ни в какие исследования и тем более не дают им лекарств, потому что как бы чего не вышло). Впрочем, осталось по 15 человек в обеих группах – достаточно, чтобы посмотреть, как меняются результаты опросников. Снижение симптомов ПТСР наблюдалось в обеих группах, но было значительно более выраженным в группе, получавшей пропранолол. Например, по опроснику PCL-S (шкала самооценки посттравматического стрессового расстройства, в которой можно набрать максимум 85 баллов) люди перед началом лечения набрали в среднем 61,73 балла в экспериментальной группе и 61,27 балла в контрольной (то есть разницы между ними не было), а после лечения – 38,07 и 55,71 балла соответственно. Некоторых пациентов (9 человек из экспериментальной группы и 5 из контрольной) удалось привлечь к еще одному тестированию через полгода, и там средний балл остался низким (38,4) в группе, получавшей пропранолол, и вырос у тех, кто получал плацебо (аж до 69 баллов, но я не нашла в статье данных о том, каким был исходный уровень именно у этих пятерых людей).
В общем, на сегодняшний день эта терапия изучена еще недостаточно, чтобы войти в повседневную клиническую практику, но результаты обнадеживающие, и, скорее всего, это произойдет в обозримом будущем. Некоторые биохакеры уже едят пропранолол самовольно, но я, как обычно, не рекомендую. Во-первых, потому что это все‐таки лекарство, снижающее частоту сердечных сокращений, и если она у вас и так невысокая, то вам станет очень нехорошо. И вообще у него, как и у любого эффективного лекарства, внушительный список противопоказаний, и в научных исследованиях пациентов сначала с пристрастием расспрашивают о здоровье, а потом внимательно за ними наблюдают после приема. Во-вторых, потому что правильно провести процедуру реактивации воспоминаний – это тоже на самом деле довольно тонкая вещь, требующая участия квалифицированного специалиста. От самостоятельного лечения эффект, скорее всего, будет сомнительным. Если вы потом напишете мне с просьбой вернуть деньги за книжку и за пропранолол, то я не поведусь, так и знайте.
Мозг как флешка
Когда человек пишет научно-популярную книжку, он старается выбирать эксперименты, которые можно описать простыми словами. Вживили электроды, измерили проведение сигнала между нейронами. Отрезали кусок мозга, посмотрели поведение. Все понятно.
Настоящая современная нейробиология, конечно, состоит не только из простых экспериментов и даже в основном не из них. Она обычно комбинирует много причудливых методов, пришедших из разных областей науки, и это позволяет ей делать с экспериментальными животными совершенно фантастические вещи. Например, смотреть, на какие нейроны записалось воспоминание, а потом редактировать его в этих же конкретных нейронах.
Для этого нужны мыши, и не простые, а генно-модифицированные. Причем два раза модифицированные, сначала полностью, а потом частично. А потом в них еще нужно вживить оптоволокно. А потом еще посмотреть, что получилось, с помощью поведенческих методов. И это я собираюсь пересказать только половину исследования, проигнорировав и некоторые группы участвующих в нем животных, и последовавшее посмертное исследование мозга мышей иммуногистохимическими методами. И все равно будет довольно запутанно.
Вот смотрите. Когда мышь (или человек) чему‐то учится, то в мозге начинает считываться ген c-fos. Причем именно в тех конкретных нейронах, которые вовлечены в это обучение. Нобелевский лауреат Судзуми Тонегава и его коллеги воспользовались этим фактом, чтобы создать мышей с генетической конструкцией c-fos-tTA. Это значит, что их нейроны во время обучения еще и вырабатывают белок tTA. В норме его у нас в нейронах не бывает, нейробиологи вообще позаимствовали его у бактерий. Но до поры до времени это ни на что не влияет, ну есть и есть.
Дальше вы делаете с этими животными еще одну штуку. Вы дополнительно генетически модифицируете им кусочек мозга, который вас интересует, – зубчатую извилину (часть гиппокампа). Вводите туда ген, который позволит клеткам синтезировать каналородопсин-2. Это такой белок, позаимствованный у хламидомонады (одноклеточная водоросль, любимая многими поколениями школьников за свое прекрасное имя) и очень широко применяемый в нейробиологических исследованиях. Потому что он встраивается в мембрану и пропускает через нее ионы, активируя таким образом нервную клетку. Так же, как это делали многие другие рецепторы, о которых мы уже говорили. Но только каналородопсин реагирует не на нейромедиатор и не на изменение потенциала мембраны, а на свет. То есть когда у вас есть нейрон, мембрана которого утыкана каналородопсином, вы можете посветить на него лампочкой (ну, на самом деле провести к нему свет через вживленный оптоволоконный кабель), и нейрон начнет работать. Очень удобно. Называется “оптогенетика”.
Вот, но в случае этой работы (и многих других, применяющих такой метод) вы вводите в нейроны не просто ген каналородопсина. Вы вводите более сложную генетическую конструкцию, которая запустит синтез каналородопсина только в том случае, если в клетке одновременно присутствует tTA. То есть мы получили животных, которые встраивают светочувствительные белки только в мембраны тех клеток, которые чему‐то учатся.
Но в этой блистательной схеме все еще есть существенный недостаток. В мозге очень много клеток, и в его зубчатой извилине тоже. И все регулярно чему‐то учатся. Пока непонятно, как пометить те, которые учатся именно тому, что нас интересует.
Я уже упоминала, что tTA позаимствован у бактерий. А его полное название – тетрациклиновый трансактиватор. Это название намекает нам, что он имеет какое‐то отношение к антибиотикам тетрациклинового ряда. И действительно, если мышей кормить антибиотиком доксициклином, то он связывается с tTA – и мешает ему запускать синтез каналородопсина. Вы можете так делать всю мышиную жизнь. А тогда и только тогда, когда собираетесь обучать их тому, что вас интересует, ненадолго из их диеты доксициклин убрать.
Именно так вы и поступаете. Когда доксициклина нет и вся система работает как задумано (клетки, участвующие в обучении, встраивают в свои мембраны светочувствительный белок), вы приводите мышей в незнакомые им комнаты и делаете там с ними что-нибудь хорошее или что-нибудь плохое. Хорошее – это, конечно, секс, общество прекрасной мышиной самки. Плохое – это, как обычно, удар током. После обучения вы снова сажаете мышей на доксициклиновую диету, чтобы светочувствительные белки больше никуда не встраивались, и убеждаетесь, что все произошло именно так, как вы планировали. Если вы направите свет в мозг мыши, которую до этого пугали, то он активирует те самые нейроны, которые запомнили, что жизнь тяжела. Мышь будет избегать того участка клетки, в котором получает неприятную стимуляцию. А вот если включать нейроны, которые были активны во время знакомства с самкой, то это, наоборот, приятно, и тогда подопытное животное будет стремиться проводить больше времени именно в том углу клетки, где вы подаете свет на вживленный ему в мозг оптоволоконный кабель.
Это уже довольно круто, да? Но это еще не конец истории. Дальше вы берете ваших напуганных мышиных самцов, сажаете их в клетку с двумя самками – и активируете им те же самые нейроны, которые были нужны для того, чтобы мышь испытывала неприятные ощущения. И наоборот, берете счастливых самцов и бьете их током, одновременно активируя им с помощью света те же самые нейроны, которые раньше были задействованы в том, чтобы испытывать удовольствие. И да, когда вы тестируете их в следующий раз, вы выясняете, что те, кто раньше боялся, – больше не боятся. А те, кто раньше радовался, – больше не радуются. То есть удалось пометить конкретные нейроны, на которые записалось воспоминание, а потом еще и отредактировать это воспоминание, изменить его эмоциональную окраску.
Понятно, что конкретно эта технология не очень подходит для того, чтобы менять воспоминания у людей. Не то чтобы нас нельзя было генетически модифицировать, но все‐таки работы в этом направлении пока что ведутся только в целях излечения тяжелых наследственных заболеваний, а не для того, чтобы мы начали вырабатывать в своих нейронах странные бактериальные белки. Но важно, что локализовать и перезаписывать воспоминания возможно в принципе, что для этого нет фундаментальных препятствий, связанных с законами природы. Что мозг материален – и мозг познаваем.
А вот вам еще одна впечатляющая история – про то, как ученые вмешались в мышиные сны и таким образом изменили воспоминания животных о реальности. Сон, надо понимать, вообще в первую очередь нужен для обработки информации, полученной в течение дня. Это верно и для людей (к ним мы еще вернемся), но особенно ярко проявляется у грызунов, чья высшая нервная деятельность не настолько запутанна и хаотична. Когда животное ходит по лабиринту, у него в гиппокампе активируются клетки места – одна за другой, в четкой последовательности. Когда животное потом ложится спать, оно воспроизводит у себя в голове фрагменты той же самой последовательности, только проматывает их в ускоренном режиме. Мозг прилежно повторяет маршрут, выученный накануне, чтобы на следующий день животное могло пройти его более уверенно.
Нейробиологи из Сорбонны использовали это свойство мозга для того, чтобы научить мышей любить конкретные места. В течение дня каждое животное исследовало огороженный загончик, заполненный разными интересными объектами. Площадь его была чуть больше одного квадратного метра – такая, чтобы мышь могла свободно перемещаться, несмотря на провод, торчащий из ее головы. Провод был нужен, чтобы записывать сигналы от электродов, вживленных в клетки места – каждая из них активна на своем собственном конкретном участке исследованного пространства. Когда мышь потом ложилась спать, она, как и положено, время от времени активировала те же самые клетки места, которые работали в течение дня. Исследователи выбирали среди них какую-нибудь одну (ту, в которую просто удачно вошел электрод и от нее было удобно записывать сигналы). Смотрели по своим записям за время бодрствования мыши, с какой именно областью пространства связана эта конкретная клетка места. И после этого каждый раз, когда мышь активировала во сне именно эту клетку, исследователи одновременно отправляли ей электрический импульс в медиальный пучок переднего мозга (оттуда сигнал передается на прилежащее ядро, “центр удовольствия”, то же самое делали с радиоуправляемыми крысами из третьей главы). Так они делали в течение часа, пока мышь спала: за это время конкретная клетка места возбуждалась около 500 раз, и каждый раз это сопровождалось искусственно наведенным счастьем.
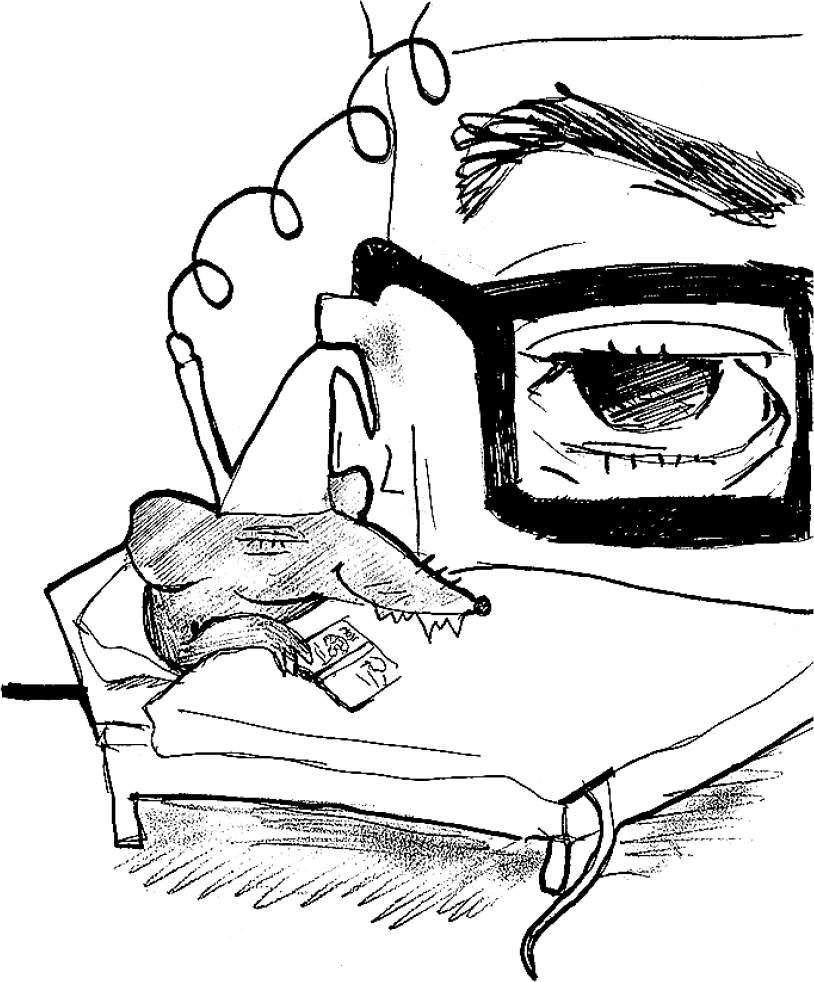
Что происходило, когда мышь просыпалась и ее снова сажали в знакомый загончик? Правильно, она прямым ходом устремлялась в то место, где ей было так хорошо во сне. И проводила там в 4–5 раз больше времени, чем накануне. Почти так же она делала и во второй раз, когда ее снова пускали в тот же загончик, а вот к третьему-четвертому разу постепенно теряла интерес, потому что в реальной жизни ничего особенно приятного с ней в этом месте не происходило. А если бы происходило, то, конечно, ни за что бы она оттуда не ушла.
Думаю в этой связи о том, что если бы мне предложили любую магическую способность, то оптимальным выбором было бы “активировать центр удовольствия у других людей – не у всех подряд, конечно, – в тот момент, когда я рядом с ними”. Это залог не только счастливой личной жизни, но и карьерного процветания, потому что так можно было бы делать с теми организаторами, которые предлагают особенно высокие гонорары за мои лекции. К сожалению, вживить им всем электроды в медиальный пучок переднего мозга я не могу, так что приходится активировать центр удовольствия косвенными методами. Вот баечки про биологию рассказывать, например.
Назад: Глава 4 Улитки, котята и NMDA-рецептор
Дальше: Глава 6 Самостоятельное плетение нейронных сетей

