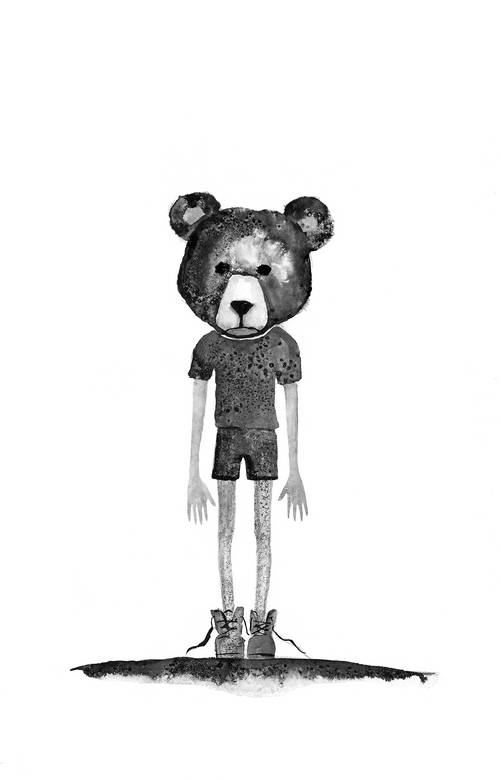Ольга Березина
Проводы
В тот день Ленька наконец получила права. За ними пришлось почему-то ехать аж в Борск и возвращаться в самый час пик, с тремя пересадками. Последний кусок пути Ленька висела, изогнувшись каким-то диким крючком в переполненной маршрутке, между сизым вонючим дедом и толстой одышливой дамой, почти прижимаясь ухом к низкому холодному потолку. «Все, все, все, – думала тогда Ленька, сжимая в кармане вожделенный пластиковый прямоугольник, – это мой последний-распоследний раз, когда я еду на этом мерзком транспорте!» Ее смешная девчачья машинка вот-вот должна была приехать в автосалон, оставалось быстро-быстро доделать формальности. И это все как раз благодаря Наташке.
Они сидели, как обычно, вдвоем в пустой темной курилке под самой крышей. Ленька тогда жила на Троллейке и выезжала совсем рано, чтобы нормально сесть в маршрутку. Наташка к тому времени как раз заканчивала мыть полы и поднималась в курилку, в синем халате, с убранными в хвост волосами, с бисеринками пота на лбу.
– Знаешь что, – сказала Наташка как-то утром в ответ на обычные Ленькины жалобы, – задолбало меня твое нытье. Давно бы уже взяла да переехала поближе.
– Сдурела! – усмехнулась Ленька. – На какие шиши мне переезжать?
– Ну, тогда машину купи! – пожала плечами Наташка, выцарапывая из пачки сигарету.
– Ага, еще смешнее!
– Ну, посмейся давай, если смешно, – разрешила Наташка, затягиваясь. – Я тебе открою страшный секрет. Есть такое слово – кредит.
– Ага, с моими-то доходами!
– А что не так с твоими-то доходами? Давай, молодой специалист, подумай мозгом! У тебя белая зарплата, стаж будь здоров – да тебя любой банк с распростертыми примет.
– А жить мне на что?
– Ничего, поэкономишь – жрать меньше будешь, курить бросишь.
– Ну, а бензин, еще всякое такое?
– Да брось ты, боже мой. Ты на маршрутках на своих сколько в месяц тратишь? Я уже не говорю, что ты тряпка тряпкой приезжаешь после этих своих маршруток. Дома-то хоть раздеваешься – или сразу в койку падаешь?
– Тут ты точно угадала, – хохотнула Ленька. – Дома меня только на раздеться и хватает.
– Короче, давай, в обед вали в банк и попроси тамошних девок посчитать. А я тебя прикрою, если задержишься. И не ной больше по утрам мне про свои транспортные беды. А то я тебе про родственничков рассказывать буду, обрыдаешься.
– Молчу-молчу, – заторопилась Ленька. Родственнички у Наташки были – по ее же рассказам – ну совсем не подарок.
– Ты не просто молчи-молчи давай, а слушай, что тебе мудрая женщина говорит.
В конце концов Ленька так и сделала – Наташке только не сказала. Пусть, решила, будет сюрприз. Она прямо видела, как подъезжает к крыльцу на своей машине, лихо тормозит перед Наташкиным носом, как Наташка удивляется и радуется, и хвалит ее, Леньку – что не побоялась, что послушалась – и как потом они вместе едут в какой-нибудь большой магазин и накупают полную тележку жратвы, и ставят гору пакетов в багажник, и…
* * *
…Телефон трясся и вопил в кармане, а Ленька все никак не могла до него дотянутся. «Да и черт с ним, не время сейчас, – думала про себя Ленька. – Домой приеду и перезвоню всем – заодно и правами похвастаюсь. Но первым делом – Мишке и Наташке».
Сколько времени прошло, а Ленька все помнит эту переполненную маршрутку, затекший бок и надрывающийся в недоступном кармане телефон. Что было после – все куда-то пропало, стерлось, слиплось в мерзкий липкий ком, как карамельки в мокром чужом кармане. Кто тогда звонил, Ирка? Должно быть Ирка или Анечка, кто-то из них. Но дозвонилась точно Ирка. Когда дозвонилась? Вроде бы Ленька была уже дома, точно не в маршрутке и не на улице. Что сказала, какими словами? Ленька сколько раз пыталась вспомнить – почему-то это казалось важным, все вспомнить, восстановить, нанизать на острую стальную проволочку тугой внутренней боли – но ничего не вспоминалась. Да и дальше помнилось отрывками – вот она ревет, уткнувшись в шефов вечный вельветовый пиджак, пахнущий табаком и парфюмом, а шеф баюкает ее, как ребенка, похлопывает по спине и гудит «ну-ну-ну, детка, ну-ну-ну». Она тогда обревела всех – и шефов пиджак, и Мишкин колючий свитер, и Анечкины кружева. Весь мир превратился в сплошную череду баюкающих, нунунукающих, похлопывающих по спине. Помнится полный зал, и душный запах цветов, и родственнички – дебелая краснощекая Луизка, туго обтянутая черным, удивительно трезвый и тихий Колдырь с бегающими глазками, молчаливый выводок чьих-то прозрачных ребятишек, от которых одно только и помнится – почему-то желтая пластиковая лошадка; помнится свистящий сквозь зубы шепоток – чем же это она такой зал заслужила, мол, давеча зама хоронили и то скромнее, а тут ради непонятно кого расстарались, одних цветов поди на годовой бюджет – и как засуетились, зашикали отовсюду, дескать, молчи, дура, знаешь, чья она была? Дура не знала – и Ленька наравне с дурой не знала. Только у Леньки, в отличие от дуры, не было ни малейшего сомнения – когда доставала ледяными скрюченными пальцами провалившиеся через прореху в кармане монетки – чтобы наскрести на еще одну – двенадцатую – хищную вишневую розу на метровом колючем стебле, как осеклась конопатая щебетунья-цветочница, начавшая было «не ищите, ну зачем вам двенадцать, четное же число только…», взглянув на Ленькино лицо, рассыпалась торопливым «ох-простите-простите-простите…» Ленька отчетливо ощущала внутренним знанием, видела, что все вокруг пропиталось – не смертью, нет – не-жизнью, и весь мир стал неживой – но не как декорация или труп, а как убитый радиацией организм – еще не знающий о ней, но уже мертвый, мертвый. Ленька даже не задумывалась, почему так. Это уже потом, когда разбирали Наташкин стол в общей комнате, наткнулись на ту открытку – и как-то все сложилось, связалось – связалось с архивом, с пожелтевшими фотографиями на стенах, с непонятыми до сих пор заметками из полевых дневников Большого шефа.
Хоронили в тот год много и часто. Вместо временного, наспех обтянутого для Наташки подручным каким-то сукном куска пенопласта дед Юрич сколотил целый стенд, обитый театральным вишневым плюшем, с черными траурными лентами и полочкой под вазу – стенд этот уже даже не убирали – просто снимали один улыбающийся портрет и вешали другой, меняли табличку с именем и датами, да в широком зеве вазы тугие надутые розы или душные истеричные лилии сменялись на жалкие печальные гвоздики. Уже никто не бегал за мелочевкой к чаю в лавку напротив – блюдо с поминальными конфетами и печеньем всегда стояла в холле. Из нее выуживали кто что хотел, и к вечеру ночной вахте оставались только затертые карамельки и маленькие подсохшие пряники, но и они съедались к утру под голубые переливы мониторов и мигание зеленых глазков на пульте. Этот стенд с портретами и постепенно все более пыльными и обвисающими лентами, эта цветочная сукцессия, эти принужденно сладкие чаепития, эти раз от раза все более бюджетные и формальные поминальные обеды (от кейтеринговых сервизов и скорбно-эротичных подавальщиц с тремя переменами блюд до пластиковых контейнеров с жидкой картофельной толченкой и белесой паровой котлетой, жесткой салфеткой и гнущейся во все стороны пластиковой вилкой, прозванных «малым поминальным набором») – все это, сделало наконец смерть приемлемой обыденностью. Леньке даже было неловко перед этой чередой смутно знакомых по утренней толкотне в коридорах, по очереди в столовку, по профсоюзным спискам покойников – как будто бы они попали сюда ненароком, просто чтобы создать массовку для Наташки, чтобы сгладить, приучить к мысли, примирить с непримиримостью этой потери.
Тогдашняя Ленькина жизнь совсем потерялась среди этих бесконечных похорон и поминок. Она приезжала – теперь уже на своей новенькой девчачьей машинке – все так же рано, но сразу шла в свою комнату и занималась делами до самого вечера. Она практически ни с кем не общалась – так, здоровалась в коридорах, расписывалась, где просили, кивала вахтерам, когда брала или сдавала ключ. Без Наташки утренние посиделки в курилке потеряли смысл, и Ленька как-то походя совсем бросила курить, но заметила это уже ближе к лету, когда пришла пора убирать демисезонное – с каким-то отстраненным недоумением выбросила из кармана мятую пачку с несколькими изломанными сигаретами и мелкой табачной крошкой. «Кто не курит и не пьет, – вспомнилась Леньке Наташкина любимая присказка, – тот здоровеньким помрет». Ленька только усмехнулась – Наташка вон и дымила, как паровоз, и ни разу не отказывалась от вечерних посиделок, а вот умерла именно что здоровенькой и совсем молодой, сколько ей было-то?
Ленька внезапно поняла, что не представляет себе вообще Наташкиного возраста. Сорок? Больше? Меньше? Ленька никогда не умела вот так вот определять чужой возраст, никогда не понимала, не умела читать эти возрастные приметы, да и все, связанное со счетными годами, казалось ей искусственным, нелепым, тут она всегда попадала впросак.
Как-то в детстве она сочинила стишок про Деда Мороза, чтобы рассказать у елки, когда собиралась вся тогда еще большая семья и куча разных родственников. Стишок начинался словами «дедушка старенький, лет пятьдесят». Что там было дальше, она не помнила – ей так и не удалось ни разу продолжить, после этой строчки все умирали от хохота.
* * *
Лето настало неожиданно – сухое и пыльное. Впрочем, Ленька теперь практически не замечала погоды – разве что когда пришлось пополнять стеклоомыватель и ей продали летний. Передвигалась она исключительно на машине. Она становилась по-настоящему счастливой, когда слышала деликатный звоночек, сообщавший, что водительская дверь закрылась. Весь пустой бессмысленный окружающий мир с непонятными чужими людьми оставался там, где ему и следовало быть – снаружи. Мир, в котором не было Наташки.
Зато внутри все было хорошо, и Наташка по-прежнему была рядом. Ленька здоровалась с ней, вела ни к чему не обязывающие дорожные разговоры о погоде, о трафике, о ценах на бензин, обсуждала непутевых торопыг, шныряющих из полосы в полосу или считающих ворон зевак на светофорах, которые задерживали весь ряд. Ленька никогда не сердилась на них, ей вообще было очень комфортно за рулем – даже в пробках, когда все суетились, психовали и сигналили почем зря. Ленька с удовольствием брала на работе любые получения, связанные с поездками – благо, всегда нужно было что-то отвезти в дальний филиал или что-то забрать из него; а когда еще стали доплачивать на бензин – стало вообще прекрасно. В машине у нее было все – и бутылка с водой, и термос с кофе, и пакетики с орешками и сухофруктами, чтобы пожевать в дороге, и любимая музыка, и Наташка. Поэтому, когда Ленька увидела Наташку на переходе, она почти не удивилась – только тому, когда та успела выйти.
Был вечер пятницы. Ленька возвращалась домой, как всегда засидевшись допоздна и попав в волну выезжающих из города на выходные. Она вывернула на проспект, и низкое вечернее солнце повисло ровно в середине лобового стекла. Затормозив на красный свет, она одной рукой нашарила очки и с облегчением откинулась под защитой полароидных стекол, рассматривая идущих с рынка нагруженных пакетами с черешней и ранними летними овощами пешеходов. Наташка шла в толпе, одетая в ярко-оранжевую куртку, которую купила как раз незадолго до смерти и звала «тыквенной». Ленька отметила, что куртка эта сейчас явно не по сезону теплая. Впрочем, судя по качающимся веткам и летающему мусору, снаружи было довольно прохладно, да и куртка была расстегнута – так, что виднелась ярко-оранжевая футболка с усмехающейся хелловинской тыквой. «Ух ты, – подумала Ленька, – классная футболка, и так к куртке подходит! И когда только успела?» В этот момент зажегся зеленый, сзади засигналили недовольные участники движения, пришлось переключиться на машину и проехать еще пару десятков метров. Как ни всматривалась Ленька в зеркала заднего вида, но так и не отыскала в толпе яркую оранжевую Наташкину куртку.
– Да ну, фигня какая-то, – спохватилась Ленька. – СПУ как он есть.
Эти аббревиатуры тоже были Наташкиной фишкой. Когда кто-нибудь – особенно из новеньких – начинал пафосно затирать что-то невероятное, Наташка цедила презрительно «вэкаэс!» – что обозначало детсадовское «врать как срать», и градус пафоса моментально падал под общий хохот. Под аббревиатурой СКУ, с Наташкиной подачи намертво прилипшей к одетым в серую униформу безопасникам, скрывалось «серое кладбищенское уебище». А эта вот, СПУ, расшифровывалась как «синдром патологического узнавания» – когда во встречных лицах начинал мерещиться кто-то знакомый.
С тех пор Ленька частенько видела Наташку на улицах – всегда из машины, всегда мельком, в потоке, так что не остановиться, не выйти, ни окрикнуть. Однажды даже от отчаяния она принялась сигналить – прохожие заозирались, и Наташка повернула голову в ее сторону, равнодушно скользнула взглядом по машине, то ли не разглядев, то ли не узнав отвернулась и пошла дальше.
В конце августа на работе началась какая-то возня с проверками, аудит или что-то подобное – и оказалось, что Леньке все это время как-то неправильно считали отпуска, и теперь у нее вдруг оказалось вместо обычных 28 аж 62 дня оплаченного отпуска. Наскоро закончив дела и получив на карту какую-то неимоверную кучу денег, Ленька не понимала, куда девать такое богатство. Как раз зарядили дожди, и сухая пыльная жара сменилась промозглой сыростью. Ночами накрапывало – редкие тяжелые капли собирались на карнизе и грузно шлепались о жестяной подоконник, мелкими брызгами, отражающими желтый свет фонаря, разрисовывали стекло. По утрам в окнах стояли туманы и через приоткрытую форточку пахло совсем как осенью – прелью и сыростью, мокрыми листьями. Вставать не хотелось; Ленька так и валялась с чашкой горячего чая на диване – в пижаме, натянув шерстяные носки и укутавшись по самый нос в теплый клетчатый плед. Потом приходил ветер – сперва он тянул тихонько, еле заметно, трогал листву, шевелил туман и завивал его в широкие ленты. К полудню ветер крепчал, холодными пальцами пробирался в дом, надувал парусом белое полотно тюля, начинал хлопать форточками – и Ленька закрывала окна. Воздух в доме тоже становился сырым и волглым – купленный с вечера хлеб утром уже покрывался белесым пушком плесени, даже сливки, припасенные к кофе, за ночь сворачивались в дурно пахнущий скользкий сгусток, подобно болотной лягушке шлепающийся в чашку. Приходилось обходиться чаем и плоскими галетами, которые, к счастью, оставались сухими в своих лаковых запаянных пакетиках. Как-то под окна подъехал грузовичок зеленщика – Ленька выскочила в шлепанцах и набрала тугих краснощеких яблок, ладных веселых огурчиков, волнистых помидор и целый пучок зелени. Как назло зеленщик, молодой чернявый парень, никак не мог вытащит пакеты из-под батареи ящиков с овощами и фруктами, и Ленька сгрузила покупки прямо в подол домашней вытянутой футболки с выцветшей, но еще заметной надписью огромными буквами «эй, мир, я тебя люблю!». Продавец, которого, как оказалось, созвучно звали Эмиром, разулыбался, и, растрогавшись, водрузил поверх топорщившегося пучка острых луковых перьев и кудрявой кинзы прозрачную пластиковую коробочку клубники. Клубника была крупной и очень красивой, хотя и совсем не пахла, оказалась водянистой и безвкусной.
Так Ленька и просидела дома всю первую неделю – много спала, отсыпаясь за целый год, пересмотрела пару старых любимых сериалов. Потом безделье наскучило, и она занялась мелкой домашней работой под разговоры сериальных героев – расставила книги, перетерла керамические безделушки, отмыла зачем-то старую треснувшую вазу, которую все лень было снести на мусорку, разобрала в шкафах. В самой глубине шкафа нашла несколько пакетов с распродажными шмотками, которые они одно время кучами покупали с Наташкой. Пакеты так и стояли неразобранными и, ощущая внутри зарождающиеся душные рыдания, Ленька просто сгребла их и утащила в ближайшую церковь. Когда, ближе к ночи, она поймала себя на мысли о том, что неплохо бы переклеить обои – поняла, что надо куда-то валить. Иностранным паспортом она не удосужилась озаботиться, так что обычные курортные маршруты отпадали. Да и вообще куда-то лететь совсем не хотелось.
* * *
Той ночью Леньке снилась голубятня. Она стояла за покосившимся дощатым забором и была похожа на сказочную избушку на курьих ножках. За синими решетчатыми оконцами толклись, гортанно гулили, хлопали крыльями сотни белоснежных голубей. Пока Ленька бежала к воротцам, пока разматывала тугую проволочную завертку, пока открывала тяжелую, размокшую от дождя волочащуюся одним краем по мокрой земле калитку – кто-то отворил дверцу голубятни, и белая стая сорвалась, взметнулась в вечереющее небо с сухими, похожими на выстрелы, хлопками крыльев. Только маленькое белое перышко, изогнутое невесомой лодочкой, опускалось, медленно кружась. Ленька подставила ладонь, и перышко опустилось на нее.
Ленька проснулась в слезах, еле-еле разжав сведенные пальцы и уставившись на ладонь с выдавленными красными полукружьми. Никакого перышка, конечно же, не оказалось. Спать больше не хотелось. Ленька еще посидела, поджав ноги, в теплой кровати, а потом решительно выбралась из нее и стала застилать постель, остервенело взбивая подушку и разглаживая простыню, а потом побежала умываться. В полутемной прихожей Ленька чуть не упала, запнувшись о пустую дорожную сумку, в которой вчера относила ненужные тряпки да так и оставила валяться у дверей. Она подняла сумку и положила на банкетку. Сумка приветливо распахнулась.
– А что? – вдруг подумала Ленька. – Почему бы и нет?
Она умылась, почистила зубы, расчесалась любимым частым гребешком, от которого волосы делались ровными и шелковистыми, и сгребла все в прозрачный дорожный несессер, лежавший на полке, – зубную щетку, тюбик с пастой, гребешок. Потом сунула туда же баночку с шампунем, здоровенную банку любимого крема, заткнув и зафиксировав дозатор, еще каких-то мелочей – напоследок сдернула с крючка оранжевую кудрявую мочалку и плавательные очки. Достала с верхней полки пару скрученных в рулончики полотенец, упаковку салфеток – и потащила всю охапку в прихожую, свалив на банкетку рядом с сумкой.
Что еще сделать-то надо было? Термос, чай, воды накипятить, о – мусор вынести. Ленька выдернула мешок, затянула завязки, открыла входную дверь и пошлепала к мусоропроводу. Упихивая пузырящийся мешок в разверстое темное жерло, Ленька ощутила движение за спиной. Мусоропровод наконец со зловонным выдохом принял подношение, и Ленька обернулась через плечо.
На площадке стояла Наташка.
– Ну, Леонида Аркадьевна, ты дае-о-о-ошь, – протянула она. – Знала же, что ты у нас ранняя птаха, но чтобы вот прямо так!
Эта «Леонида Аркадьевна» была настолько Наташкина, что Ленька расхохоталась. Наташка всех – даже Большого шефа – звала по именам, и только самая младшая, «сопля зеленая», Ленька удостоилась имени-отчества. Впрочем, кроме Наташки – да еще сморщенной востроносой бабки-кадровички, – Леньку по имени-отчеству никто не звал.
– Тихо-тихо, оглашенная, – улыбнулась Наташка. – Люди-то спят, не шуми давай в подъезде.
– Ну тогда пошли шуметь ко мне, – легко согласилась Ленька, распахивая дверь. – Раз уж наконец-то сподобилась.
Ленька сто раз приглашала Наташку и всегда получала один ответ – «В твое Зажопье?! Ну уж нет, не в этой жизни!»
Вот как все правильно складывается, – подумала про себя Ленька каким-то отстраненным рациональным умом, который все это время ощущал дискомфорт от всех этих появлений то ли Наташки, то ли не Наташки, и наконец получил какое-то подобие логики и уцепился за него, довольно урча.
В прихожей Наташка скинула туфли, деловито выудила из-под обувницы лиловые гостевые, а на самом деле ни разу не востребованные никем шлепанцы – как будто бы забегала вот так каждый день.
– Ты как добралась-то сюда в такую рань? – спросила Ленька, закрывая дверь.
– Вот же, блин, что значит – настоящий друг! – восхитилась Наташка. – Другой бы сейчас за святой водой побежал, а она только лишь интересуется, как я добралась. Знаешь что, Леонида Аркадьевна, вот ты конечно до фига отличная актриса, но что-то мне подсказывает, что спросить у меня ты бы хотела не это.
– А знаешь что, Наталья Николаевна, ты у нас до фига, конечно, отличный психолог, но могла бы и понять, что мне как-то неловко приставать к тебе с этими самыми вопросами, которые я хотела бы у тебя спросить, и ты могла бы взять да и рассказать мне самостоятельно все, что сочтешь возможным.
– Вот ты ж блин, философ-самородок! – восхитилась Наташка. – Ловко ты стрелки перевела. Теперь вот и я осознаю, как это все непросто…
– Ну если непросто, то и фиг с ним. Будем разбираться по мере необходимости. Да и сама хороша, – улыбнулась Ленька. – Другой бы сейчас заладил «мозги-мозги», а она шлепанцы натянула – и довольна.
– Да на фига мне сдались они, эти твои мозги? – фыркнула Наташка. – Много они кому счастья принесли? Мне и своих хватает – ложкой в рот всю жизнь попадала, и ладно.
– Кстати, о ложке, – обрадовалась Ленька. – Ты вообще ешь или как? А то я что-то проголодалась от таких дел.
– Вообще-то я или как. То есть потребности не испытываю, но и не откажусь при случае, особенно если еще чего-нибудь этакого заваришь. Ты чаи-то свои не растеряла, надеюсь?
Вместо ответа Ленька прошла на кухню и распахнула дверцы шкафчика, доверху забитого свертками, баночками и коробками. Наташка присвистнула восхищенно из-за Ленькиной спины.
– Ого! Знала бы – давно бы к тебе нарисовалась.
– Да я и не скрывалась особо, – ответила Ленька, наливая чайник.
* * *
Все было как в Ленькиных давних мечтах: белый круглый стол, клетчатые салфетки, скворчащая на сковороде глазунья – кроме яиц в доме не нашлось больше никаких свежих продуктов. Наташка угнездилась в широком плетеном кресле, а Ленька притащила себе из комнаты еще одно, поменьше, но тоже удобное.
– Так как ты добралась-то? – повторила Ленька.
– Как-как? Пешком, – буркнула Наташка, набивая полный рот. – Меня сейчас не больно-то кто повезет.
– Почему? Ты ж вроде бы нормальная.
– В смысле не воняю и черви не падают? – хохотнула Наташка.
– Приятного аппетита, дорогая подруга – сказала Ленька, давясь глазуньей.
– Ну прости, нежная моя душа! Это я тебе нормальной кажусь. То есть я и есть нормальная, – поправилась Наташка, – но только ты меня видишь.
– А-а-а, ну тогда понятно, – протянула Ленька, вздыхая. – Буду тебя возить. Я машину как раз купила.
В ее мечтах не так, ох не так она сообщала Наташке эту новость. Но Наташка отреагировала как раз правильно.
– Да ладно?! Вот ты, мать, крута! А я смотрю – нет и нет тебя нигде. На машины-то я особо внимание не обращала.
– Ты искала меня, что ли? – опешила Ленька.
– Ну, конечно, искала! Два месяца вокруг работы круги нарезала, потом плюнула и решила тащиться в твой Зажопинск.
– Я тебя сколько раз видела, – привычно пропустила «Зажопинск» мимо ушей Ленька. – думала – мерещишься. Правда, один раз даже посигналила.
– Блин, так это ты была в такой милипиздрической лиловой козявке с белой крышей? – огорчилась Наташка. – До меня уже потом дошло, что физиономия была вроде как твоя.
– Сама ты как козявка, – улыбнулась Ленька. Ей так не хватала этих мелких Наташкиных подколок! – Нормальная машина, комфортная. И ты в ней легко поместишься, несмотря на габариты.
– Но-но, я девушка не толстая… – начала Наташка.
– «У меня просто кость широкая!» – подхватила Ленька, и они захохотали – весело и беззаботно, как когда-то. У Леньки сразу защипало в носу и полило из глаз.
– Ну-ну-ну, – расстроено проговорила Наташка, выпутываясь из кресла, чтобы обнять Леньку.
– Ты не нунунукай!!! – заорала, вскочив, Ленька. – Мне тут месяц после твоих похорон все подряд нунунукали, я уже этого слышать не могу! И по спине не бей! Достало!!!
Наташка обхватила орущую и машущую руками Леньку, крепко-крепко прижала к себе и держала, пока та молотила по ее спине крепкими кулачками – и та наконец утихла, уткнулась носом в Наташкино плечо. Плечо было теплое, такое знакомое и по-настоящему утешительное – не в пример всем давешним пиджакам и свитерам.
– Дурочка ты моя, истеричка ненормальная – приговаривала Наташка, гладя Леньку по голове. – Дурочка, маленькая смешная дурочка.
– Сама дурочка, – шмыгнула Ленька. – Кто тебя просил! Ну, кто тебя, блин, просил вот так вот умирать?!
– Ну вот же я, вот же, видишь? Я же знала, что ты без меня тоскуешь.
– А и я не тоскую, – пробурчала Ленька сквозь набежавшие слезы.
– Ну да, ну да, я вижу, – улыбнулась Наташка. – На плече у меня просто так уже лягушки квакают!
– Да ну тебя! – хлюпнула носом Ленька и легонько, уже в шутку, ткнула Наташку в бок остреньким кулачком. – Отпускай меня, давай, пойду морду мыть.
* * *
– А ты куда собиралась-то? – прокричала Наташка, хвостиком увязавшись за Ленькой в ванную.
Ленька плескалась и фыркала, перегнувшись через белый край ванны и уткнувшись в тугую водяную струю лицом, потом, не открывая глаз, протянула к Наташке руку. Та стащила с крючка полотенце и сунула Леньке.
– Собиралась, подальше отсюда. У меня отпуск до самых холодов.
– Ух ты! И куда рванем?
– Да понятия не имею. А ты? Куда хочешь?
– Знаешь, Лень, я бы к маминым съездила, в Мыюту. Знаешь, где это?
– Не-а.
– Ну на Чуйском же!
– Погоди, это же между Шебалиным и Чергой… где Большой шеф…
– Да, радость моя, где Большой шеф, – Наташка усмехнулась.
– Так ты правда его?..
– Ну, Ленька, ну чистая душа, – улыбнулась Наташка. – Да, я его. Прижил он меня в своих экспедициях. А мамка когда умерла, он меня в город привез – ну не в семью, разумеется. Сперва я у бабки его жила, у Марьяны, слышала про такую? Потом уже, когда бабка слегла, в интернате училась, а потом в техникум уехала. К океану хотела, на Дальний Восток. Нашла метеорологический техникум да и махнула. После распределения три года отсидела на метеостанции, а потом взяла да вернулась сюда. Отец уже совсем плохой был – я его в памяти-то и не застала. Да и Нинель эта его – сама знаешь… В общем, не полезла я к ним. Ай, да ну, дело это давнее! А вот к маминым, в Мыюту, так и не съездила ни разу. Там тетки мои, племяшки, бабушка… Все собиралась, собиралась, да так и не собралась за столько-то лет…
– А они разве… – начала Ленька и осеклась.
– Не знаю. Может, разъехались… Может, и померли. А может, и нет. Давай, посмотрим? Места там красивые, дороги нормальные – поехали? Будет тебе отпуск.
– Поехали. Кипятку вот сейчас наварим и двинемся.
* * *
Хотя дороги и впрямь были отменные, поначалу ехать Леньке было страшновато. Она еще ни разу не выезжала сама из города. По встречке то и дело проносились, грохоча и завывая, тяжело груженные фуры, заставляя вздрагивать маленькую Ленькину машинку. Ленька вцеплялась в руль – крепко, до судорог в пальцах.
Потом встречный поток стал реже, и наконец они остались на дороге одни. Низкое утреннее солнце просачивалось через ограждение и бросало на морковный асфальт длинные бархатные тени. Несколько раз к трассе подступали сосны, становилось сыро и сумрачно – а потом они снова расступались, и дорога тянулась и тянулась по равнине, между разноцветных полей и перелесков. Вдалеке то тут, то там встречались маленькие, словно игрушечные, домишки; на зеленых еще лужайках черно-бело-рыжими россыпями виднелся домашний скот.
– Красиво… – сказала Наташка.
– Шеф-то тут всегда ездил, – сказала Ленька. – Я его бумаги разбирала. Там столько фотографий было…
– Ну да, у него же лагерь в Черге стоял, а сам он за сезон сколько раз туда-сюда мотался.
– А ты?
– Я?.. Раньше ездила, а потом… Когда мама умерла… Меня отец тоже вот в такое время в город вез, а мне все убежать хотелось. Мы остановились где-то на обочине, а я дунула в кусты. Мне же не сказали, что она умерла. У них, понимаешь, не принято было, так говорить. Ты знаешь, Ленька, – Наташка опустила стекло, подставляя тугому ветру разгоряченное лицо, – меня всегда бесило, когда говорили про покойников «он ушел», «нас покинул». Мне про маму так говорили – «она нас оставила». Прикинь? Ребенку малому сказать, что мама нас оставила! И я всю жизнь почти прожила с уверенностью, что мама меня бросила. Вот так ты давеча – готова была с кулаками на нее кинуться! И представляла, что она там с другой девочкой гуляет – пока маленькая была, представляла, что с девочкой, с новой дочкой, платья ей, суке, покупает, туфельки… Я вот прямо видела это, как они за руку ходят вдвоем по аллее, эта дрянь мелкая вся такая в локонах и в голубом платье газовом с пелериной, и такой бантик маленький на плече, ярко-ярко синий, и туфельки синие. И она идет чинно, ручку свою маме моей подала, не выкручивается никуда, по лужам не прыгает. А мамочка моя наклоняется к ней, улыбается и любуется этой новой послушной дочкой, и прямо раздувается от гордости, и все встречные ей улыбаются и дрянь эту по белобрысой башке гладят. И так я ее ненавидела – и мать, и эту ее новую дочку. А когда подросла – то стала представлять, что она не с новой дочкой, а с новым мужиком сбежала, каждый раз с разным, а то и не с одним, и что они пьют и гуляют, и морда у нее вся испитая и как у вокзальной бляди разукрашенная, и одета она в одну драную комбинацию да в чулки в сетку. И ведь уже хорошо понимала, что мать умерла, а не ушла никуда – а все равно аж в глазах темнело всю жизнь, как про нее думала. Если бы я хоть одним глазком ее увидела – и она мне сказала бы, что любит меня, и нет у нее никакой новой дочки и никакой новой семьи, один раз обнять ее и попрощаться – тогда я и смогла бы, наверное, спокойно жить. А так – съела меня эта ненависть, Ленька, сожрала изнутри. Я уже даже не понимала, как можно кого-то любить, если этот твой самый любимый человек может вот так вот взять – и оставить тебя? Может, за это теперь мне, а?.. Может, потому я умереть-то умерла, а уйти не могу?..
– А знаешь, у меня ведь было такое платье… – проговорила Ленька. – Голубое газовое платье с пелериной. Мне мама на Новый год шила. А я его так и не надела ни разу. Ветрянкой заболела тогда, пришлось праздник пропустить. Обидно было – страсть! Тогда мне разрешили дома платье надеть. Меня нянька зеленкой намазала, а я взяла да и залезла в платье – прямо в зеленке. Все платье изгваздала…
– Эх… Может, ты моя сестренка?
– Ну конечно, – улыбнулась Ленька, – одно ж лицо!
Наташка была алтайских кровей – черноволосая, круглолицая, с высокими скулами; Ленька же – девочка-одуванчик, с белобрысыми кудряшками и огромными голубыми глазищами.
– Внешность обманчива, – глубокомысленно возразила Наташка своей любимой фразочкой, и они снова расхохотались – звонко, беспечно, радостно.
Они ехали и ехал; пару раз остановились в маленьких придорожных кафешках – так, просто размять ноги, еды и питья у них было вдоволь. Один раз заправились. Заправщика на одинокой заправке не было, и пока Ленька сосредоточенно управлялась с пистолетом, Наташка все бегала вокруг, всплескивала руками:
– Ну, Ленька, ну как большая, а, ну надо же!
Ленька и вправду ощущала себя взрослой-превзрослой, настоящим тертым водилой – вот, везу подругу к родным, обычное дело – и от этого внутри было тепло и гордо.
Солнце, светившее вначале откуда-то сбоку, поднялось высоко и теперь висело где-то над крышей, раскаляя все вокруг, так, что из окон больше не тянуло свежестью. Пришлось включить кондиционер.
Болтали о том о сем; молчали; пели. Было просто и как-то обыденно. Где-то в уголке сознания Ленька начинала вдруг удивляться – так же это, а? но тут же как будто прихлопывала удивление ладошкой – цыц! – не в силах разрушить, потерять эту удивительную простоту, эту обыденность странной поездки.
После Бийска дорога пошла вдоль Катуни. Вода в ней была еще темная, зеленоватая, тяжелая, местами, где течение было особенно быстрым, виднелись белые гребешки. Река то приближалась, то уходила подальше, петляла, разделалась на рукава, снова сливалась. Места шли туристические, реклама зазывала отдохнуть, предлагала еду, питье и красоты. По обочинам все чаще попадались скальные выходы, кое-где исписанные глупыми надписями. Дорога пошла вверх; на горизонте показались темные очертания гор.
– Леонида, ты не устала? – спросила Наташка. – Уже сколько часов едем.
– Да вроде бы нет, – удивилась Ленька. Она и правда нисколечко не устала, хотя до этого ей не приходилось столько времени проводить за рулем. Впервые за долгое время ей было хорошо, спокойно и радостно.
– Этак мы в день управимся, – сказала Наташка, поглядев на часы. Эти ее наручные часики всегда забавляли Леньку. Маленькие, кругленькие, на тонюсеньком кожаном ремешке, они казались неуместной шуткой на здоровой наташкиной лапище.
Мимо проносились деревушки – маленькие, в пару десятков домов, и большие, настоящие поселки с кирпичными многоэтажками в центре и крепкими рублеными избами на окраинах; в огородах суетились жители, что-то копали, убирали, жгли ботву, и от этих осенних костров сладко и терпко несло дымом через специально открытый внешний воздухозаборник.
У своротка на Чергу остановились. Ленька приткнулась на обочине, заглушила мотор. После стольких часов езды казалось, что машина все еще качается и подрагивает. Чистое еще час назад небо затянуло круглыми летними тучками, через которые то тут, то там косо пробивалось солнце. Горы подступали к дороге – невысокие, нестрашные, с одного бока покрытые лесом, с другого весело зеленеющие, раскрашенные солнечными пятнами. В долине виднелись красные крыши домиков. Наташка прошлась вдоль дороги по направлению к поселку, постояла, развернулась решительно и, бросив «Да ну на фиг, поехали», – забралась в машину, хлопнув дверью.
Навигатор сообщил, что ехать оставалось всего ничего. Скоро снова показались дощатые заборы, рыжие крыши добротных рубленых домов. Сразу около разрисованного рекламными щитами магазинчика к тракту примыкала хорошо наезженная грунтовка. Магазин назывался «Наталья».
– У тезки сверни, – сказала Наташка.
Ленька, не чувствуя скорости после стольких часов трассы, затормозила, заглядывая на спидометр, и съехала на дорожку.
Дорожка, попетляв между домами, устремилась прямо к нависающей почти отвесно горе. Склоны ее, покрытые выгоревшей бурой травой, пестрели плешинами осыпей, и только по распадкам между громоздящимися друг на дружку крутобоких бугров заползали на верхушку деревца.
– Куда там ехать-то, – бурчала про себя Ленька, – прямо в гору, что ли?
Дорога, выйдя за деревню, постепенно исчезала.
– Эй, куда дальше-то, Нат?
– Прямо давай.
Наташка сидела, наклонившись вперед, вцепившись в ремень безопасности, вглядывалась в дорогу. Ленька опустила стекло – пахнуло теплом, нагретым камнем и сухой травой, – и стала медленно пробираться по едва угадывающейся колее. Слева виднелся не то лесок, не то заросшее подгорное болотце.
– Тут налево.
– Не сядем?
– Не боись.
Ленька послушно закрутила руль. Впереди и правда была болотинка; дорога между тем стала отчетливее, видно было, что она идет по каменистой насыпи чрез болотинку и ныряет в ивняк. Справа и слева от насыпи поблескивала вода, щетинились кустики осок, перепархивали пичужки. В ивнячке было почти совсем темно – так, что свет фар желтыми пятнами разлился по влажной дороге. Машина еле-еле ползла, переваливаясь через торчащие тут и там узловатые корни и округлые наполовину погруженные в землю здоровенные валуны. В выбоинах стояла прозрачная вода, но дно их было вроде бы крепким, каменистым. Ленькино сердце каждый раз ухало и сжималось, когда маленькая машинка ныряла в очередную лужицу и, расплескав ее, выбиралась, отфыркиваясь, наверх. Дорога стала светлее и вроде бы более песчаная, на середине ее желтели сосновые иголки. Ленька подняла глаза – точно, вокруг стояли сосны.
– Еще немножко, Лень. Почти дома, – сказала Наташка.
Впереди, между сосновыми стволами, виднелся черный бревенчатый дом. Дорожка упиралась прямо в невысокий плетень, заросший повиликой и крапивой. Ленька остановила машину. Наташка, отстегнув ремень, выпрыгнула на дорожку и побежала к калитке.
– Бабань! Тетя! – крикнула Наташка.
Сначала было тихо, потом из-под плетня протиснулась бурая толстенькая собачонка и, метя хвостом и тявкая, запрыгала вокруг Наташки. Где-то скрипнула дверь, и на крыльце появилась юркая сухая старушонка.
– Натка? – всплеснула руками старушонка и закричала куда-то в дом, – Мань! Давай сюда, ты смотри, кто тут у нас! А ты, Натка, давай, тяни калитку, тяни!
Наташка, справившись с калиткой, переступая через путающуюся в ногах собачонку, прошла во двор и обернулась к Леньке.
– Лень! А ты что же как не родная? Айда с нами!
* * *
Гостили у Наташкиных долго – с чувством, с толком. Жили в маленькой комнатушке с окошком в белых рамах с голубыми наличниками. Окошко выходило прямо на гору, и солнце в нем показывалось только за полдень, зато было оно не жаркое, ласковое. С нагретой солнцем горы стекал упоительный травяной дух, через щелястое оконце затапливал крохотную комнатенку. Наташка весь день крутилась со своими.
Ленька к Наташкиным особо не ходила. Помощи им явно было не нужно, а докучать своим присутствием не хотелось. Ленька спала, как никогда в жизни, сладко и вволю, вставала поздно, умывалась ледяной водой из прикрученного к столбу у крыльца умывальника. Потом шла в темную кухоньку, где на столе всегда была стопка блинов, стоял нарезанный щедрыми ломтями серый ноздреватый хлеб в покрытой тряпицей щербатой тарелке, утрешнее молоко и душистое ягодное варенье. Над вареньем вились незлые осенние осы. Ленька завтракала, шла на задний двор – и окуналась прямо в небо, в звенящую мошкарой теплую раннюю осень. Она ходила к горе, гуляла или так сидела в низенькой сухой траве, подстелив прихваченный из машины пледик. Когда солнце уходило за гору, и синяя густая тень медленно подползала к Леньке, надвигалась, несла ранний вечерний холод и сырость – тогда приходилось вставать и идти обратно через почти убранный огород, успевая впереди наступающей на пятки тени.
Перед домом, в проулке, было хлопотно – возвращался с выгула скот, печально гудели коровы, мемекали овцы. Потом выходили Наташкины, протяжно зазывали скот в стайку – кормить-поить, потом самая младшая тетка Мария доила коров, звеня тугими молочными струйками в бок подойника. Коровы мели хвостами, отгоняя мошкару, дышали жарко и шумно. Наташка помогала там и сям, несла молоко в дом, ловко цедила, густую молочную пену стряхивала вьющимся вокруг котам и тут же наливала большую кружку Леньке, приговаривая – пей давай, городская!
Ленька пила молоко, держа кружку обеими руками, и удивлялась – как ловко и легко вошла Наташка в эту жизнь, в эти деревенские хлопоты.
– Кровь, – говорила Наташка в ответ на Ленькины недоумения, – это тебе не просто так. Кровь своих всегда примет, что бы с тобой не приключилось.
И правда – всего-то – ну умер человек, что же теперь, разве это повод?
– Эх, – сокрушалась в ответ Ленька, – нет у меня такой родни…
– Есть, – твердо уверяла Наташка. – Наверняка есть. Просто ты пока еще об этом не знаешь.
«Может, и так, – думалось Леньке. – Может, для этого и надо-то всего ничего – вот так вот взять и умереть. Может, тогда и отыщется такая кровь, что примет тебя. А может быть, и нет…»
– Ты оставайся, – как будто в ответ на эти мысли смеялась Наташка. – Тебя тут всегда примут!
Но Ленька видела, что вся эта суета как будто обтекает ее, необидно, но твердо отстраняя от себя, выталкивает, как речная вода глупый городской мусор – выгоревший синий мячик, обросшую тиной бутылку, безглазую кукольную голову… Сперва катает туда-сюда, кружит-кружит – а потом швыряет подальше на берег или запутывает в переплетении прибрежных ветвей, затягивает илом, закрывает пеной подальше от глаз. Леньке казалось, что она отдаляется, отделяется тонкой прозрачной пленкой от здешней жизни – и пленка эта с каждым днем делается толще, грубее, отсекает звуки и запахи, отгораживает, отрезает ее, Леньку, от этого странного неторопливого мирка, от неба и солнца, от Наташки. Ей казалось, что она смотрит на все из окна поезда, который вот-вот тронется – и это постоянное чувство почти-прощания зреет, зреет у нее внутри, пока наконец не заполнит ее всю, целиком, мелким щекочущим нетерпением, которое можно унять лишь одним способом – проститься.
* * *
И вот однажды Ленька встает ни свет ни заря, ощупью вытягивает из-под высокой своей кровати дорожную сумку, кидает в нее все, что лежит на окне, на столе, на колченогом скрипучем стуле – берет это все в охапку и тихонько выходит из дому. Ее никто не слышит – Наташкины спят крепко-крепко, ни вздохнут, ни пошевелятся. Ленька бесшумно притворяет дверь, сбегает с крыльца и выскальзывает из калитки.
Маленькая Ленькина машинка сперва как будто бы тоже пытается спрятаться от нее – у нее на крыше навалены желтые листья, лобовое стекло разрисовано дорожками от присыпанной пылью утренней росы. Ленька открывает багажник, заталкивает туда сумку, потом протискивается на водительское сидение, защелкивает ремень безопасности и решительно хлопает дверцей.
Машинка заводится и сразу оживает – включается с полуслова проигрыватель, урчит кондиционер, перемигиваются огоньки. Ленька некоторое время ждет, пока двигатель немного согреется – а потом включает заднюю скорость, выбирается со двора, разворачивается и ныряет в просвет между сосновых стволов.
С горы медленно стекает белое полотно тумана, обнимает, укутывает оставшийся позади дом, и деревья, и сырую от ночной росы дорогу – и скоро все это скрывается в белом дрожащем мареве, и только задние огни Ленькиной машинки подсвечивают его розовым.
* * *
От самой заправки Ленька гонит без остановок, на ходу прихлебывая из термоса уже подостывший черный-пречерный кофе, такой горький, что от него становилось горько во всей голове, и кажется, что эта кофейная черная горечь растворяет ту, внутреннюю, горечь и боль, рвущуюся наружу тысячью акульих зубов, и она съеживается, сворачивается и засыпает под черным кофейным одеялом, важно только не останавливаться, не вставать, не открывать дверцу смешной девчачьей машинки, чтобы не побеспокоить, не нарушить зыбкого равновесия, не выпустить ее из сонного кокона. Хоть бы солнце выглянуло, – вслух говорит Ленька, – хоть бы неба голубого кусок – нет, только низкая серая хмарь. Пора, пора остановиться, выйти наконец из машины, пройтись, размять ноги, подставить лицо свежему ветру, но бесконечная лента дороги разматывается и разматывается, убегает под колеса безликим серым полотном.
Хлюпая носом и часто моргая, Ленька сбрасывает скорость, и останавливается, вырулив на расчищенный пятачок, утыкается носом в ладони, и, впервые после прощания с Наташкой, плачет. Да что там плачет – ревет, рыдает взахлеб, с подвыванием, до спазмов, и когда кажется, что это уже никогда не прекратится – слезы вдруг кончаются. Ленька некоторое время сидит, недоверчиво прислушивается к себе, потом тянется на переднее сиденье. Там лежит заранее подсунутая в машину Наташкой – или, может, какими Наташкиными – деревенская котомочка. Котомочка из грубой льняной ткани, сшита мелкими аккуратными стежочками. В котомочке хлеб, баночка варенья, вареные яйца, зачем-то свеча, пестрый головной платок, чистая тряпица. Ленька достает тряпицу, вытирает зареванное лицо, свернув салонное зеркало.
«Спасибо, Наташка, спасибо», – шепчет Ленька и улыбается.
Далеко-далеко впереди солнце протискивается в просвет туч, обещая хороший день.