Книга: Мир реки. Сборник. Кн.1-6
Назад: Джерри Олшен Так уж мы устроены [51]
Дальше: Брэд Стрикленд Медаль героя[55]
* * *
Мы отправились вместе с Дягилевым вниз по Реке, его лагерь находился примерно в миле ниже по течению по правому берегу. Со мной была вся наша труппа. Гонсало из предосторожности захватил оружие. А именно — медный кинжал, который выиграл в кости у одного из скандинавов. Еще полдюжины испанцев взяли дубины. Даже у наших женщин имелись при себе маленькие кремниевые ножи или камни с заостренным краем, которые прятали в поясах. Дягилев, несомненно, заметил это, но всем своим видом выражал безразличие.
В труппе Дягилева было лишь восемь человек, и мы не увидели у них оружия. Это вызвало у нас облегчение; хоть здесь-то забот не предстоит. И, в любом случае, половина их была женщины.
Дягилев угостил нас пивом, которое они варили из корней, листьев и дрожжевых грибов. Неплохое пиво. Затем предложили полюбоваться искусством его людей. И вот мы улеглись на траву, а они стали танцевать. Среди них были имена, о славе которых я узнал лишь позднее: Алисия Маркова, Михаил Фокин и божественная Анна Павлова.
Никто из нас никогда прежде не видел ничего подобного. Возможно, русским и не хватало нашего испанского огня. Но это был единственный недостаток, который мне удалось найти, если вообще недостаток. Во всем же остальном, включая и умение правильно дышать, они нас всячески превосходили. Маркова парила как бабочка, и приземлялась, точно пушинка. Павлова была воплощенная поэзия. Уму непостижимо, на что это походило. Мы бурно аплодировали. Нижинский смотрел на них со слезами в глазах. В конце русские танцоры умоляюще протянули руки к нашему Нижинскому, который взирал на них в отчаянном безмолвии. Он отвернулся от них, покачивая головой и бормоча: «Я больше не танцую». Но они не отступали, и Дягилев присоединился к их мольбам, так что наконец Нижинский поддался и повторил, как мне объяснили позднее, одно из своих соло из «Видения Розы»…
* * *
Потом мы сидели все вместе и пили вино. Дягилев сказал Нижинскому:
— Я знал, что найду тебя, Вацлав. Вот мы и снова вместе.
— Я танцевал для тебя, Сергей! — вскричал Нижинский. — Но больше никогда танцевать не буду!
— Посмотрим, — заметил Дягилев.
После того, как мы повстречали этого русского, все для нас переменилось. Было только разумно объединить наши труппы. Не возникло разговора, под чьим руководством. Но без особых стараний Дягилев шаг за шагом прибирал нас к рукам. Предложение здесь, идея там — а идеи у него были превосходные. Именно он позаботился о постройке деревянного помоста, чтобы слышно было, как отбивают ритм пятки наших танцоров. И, разумеется, никто иной как он видоизменил башмаки, чтобы лучше стучали. Для большего впечатления он ввел занавеси. Ему же мы были обязаны сценическим освещением и декорациями. Не противоречили его предложения и духу испанского танца. Он разбирался в этом получше моего, хотя испанцем и не был. Вне сомнений, этот человек был конквистадором танца. Я боролся, ибо по натуре упрям, и наконец решил, что лучше быть помощником гения, чем независимым средней руки импресарио второразрядной танцевальной труппы.
Большинство из нас к этому привыкло. Но не Гонсало. Ему противна была сама мысль, что Сергей им помыкает. Он ощетинивался, скалил зубы, но наконец и он сдался. Усовершенствования Дягилева сделали наши представления куда привлекательней.
Вскоре наша слава начала распространяться. Люди являлись в Оксенстьерну отовсюду, чтобы взглянуть на наши представления. И Сергей Дягилев начал задумываться о производстве музыкальных инструментов. В этом ему помог другой наш новобранец, Мануэль де Фалья, испанец, родившийся много спустя после моего времени, и славившийся в свои дни, мне сказали, как композитор. Этот де Фалья был смугл и невысок, он много лет прожил в Париже и кое в чем совершенно офранцузился. Даже при наших примитивных костюмах из полотенец и листьев он выделялся как своего рода щеголь. Он начал с создания для нас простых ударных инструментов, которые делались из бамбука и дерева. Затем он придумал, как смастерить гитару. Резонатор изготовили из расщепленных стволов бамбука, прочно связанных рыбьим клеем, тщательно отшлифовали его, а затем отлакировали. Гриф — из позвоночника рыбы с обрезанными отростками, ключи — из осколков раковин. На струны пошли рыбьи кишки, подбритые до нужного диаметра. Было трудно добиться, чтобы струны подходили, но де Фалья работал с невероятным терпением, и некоторое время спустя обитатели Мира Реки впервые увидели в этом мире струнный инструмент. С настройкой затруднений не возникло: у этого человека был абсолютный слух.
Как только он по ней ударил, свершилось буквально чудо. Под звуки гитары, даже такой примитивной, наши танцы наполнились истинной жизнью. Наша труппа перестала быть чем-то лишь чуть большим, нежели новшество. Мы оказались способны задавать настоящие представления.
Не хватало только певцов. Вскоре их у нас стало двое: мужчина и женщина. Она была испано-алжиркой, он — мавром из Алжира. Они были мужем и женой на Земле, им удалось снова отыскать друг друга в Мире Реки. На Земле они выступали в Кадисе и в Танжерской Касбе. Они пели в истинном стиле фламенко, канте хондо древних дней, и теперь центра наших представлений сместился, ибо то были настоящие артисты. Де Фалья сочинял для них музыку, а Нижинский разрабатывал новые танцы для нашей труппы.
У нашего предприятия начался период расширения, немало новых танцоров желало к нам поступить. Дягилевская Антреприза Испанского Танца, как мы теперь назывались, стала одним из немногих работодателей в этом уголке Мира Реки. А возможно, и во всем Мире Реки, как нам представлялось. Везде и повсюду можно было стать солдатом, рабом или наложницей. А помимо этого, предложения работы были малочисленны, и ходить искать требовалось долго.
* * *
Королевство Оксенстьерна было слишком маленьким, чтобы претендовать на роль могучей державы. Но скандинавы не желали присоединяться ни к одной из других держав в том краю. По одну сторону раскинулось славянское королевство Станислава Второго, по другую — японское государство. И в том, и в другом численность превосходила нашу как десять к одному. Тогда Эрик Длинная Рука проявил некоторый дипломатический талант, объявив свои владения зоной свободной торговли, находящейся под покровительством трех крупных держав в окрестности. Его владения включали маленький остров, образовавшийся в полумиле от берега и почти четыре мили побережья. В этих краях приветствовали любого, кто приходил с миром. Тому, кто вступал в Оксенстьерну, перевязывали оружие шнурами мира, и разрывать их до ухода из страны строго запрещалось. Тех же, кто рвал, по закону, передавали племенным или городским властям для суда и наказания.
И вот, начинание наше процветало, сеньоры, равно, как и город Оксенстьерна. Народ со всех концов прибывал, чтобы торговать в наших пределах. И не только торговать. Оксенстьерна предлагала нечто, чего не могло дать ни одно другое место по соседству: ощущение безопасности, возможность отдохнуть от государственных забот и постоянных заговоров на предмет того, кто кем правит и что с этим делать. На этой новой Земле, в Мире Реки, в связи с тем, что здесь более или менее удовлетворялась нужда в пище и крове, оставались вопросы, кто кем правит и какого бога следует почитать. У людей появилась возможность посвятить все свое время делам религии и государства. Но здесь в первую очередь проявляли себя наиболее агрессивные. Другие, составлявшие большинство, относились к подобным вещам с исключительным безразличием, и еще меньше беспокоились по поводу цвета кожи, роду-племени и языка. Язык повсюду был мешаниной того и сего, и, в конечном счете, всем нам пришлось выучить якобы норвежский, но в действительности, искусственный северный, чтобы беседовать друг с другом. Мы вполне могли бы назвать нашу планету Вавилоном.
Многих из тех, кто воскрес в Мире Реки, заботила мысль об их превосходстве. Для них высочайшим благом являлась способность властвовать над своими товарищами, часто во имя некоей устаревшей доктрины, вплоть до такой, как расовая чистота. Впрочем, ныне, как и в прошлом, нашлось немало таких, кто не шибко о чем-то подобном беспокоился, и хотел только жить в мире.
Первыми среди тех, кто проповедовал расовую чистоту, были наши испанские конквистадоры. Признаю это с сожалением. Вы заметите, сеньоры, что я себя от них отделяю. Мир всегда был местом многоязыким, и ни один мир не сравнится в этом с Миром Реки, где наши языки на каждом шагу сменяют один другой вдоль берегов в несколько миллионов миль.
Но наши конквистадоры были, возможно, не столько расисты, сколько люди, привыкшие по-детски важничать в духе старой испанской доктрины Viva уо! По той или иной причине, они стали стекаться под единое знамя: испанцы из всех времен и краев, равно как и креолы из Мексики и Южной Америки.
Гонсало Писарро между тем не сидел праздно. Имя Писарро звучало достаточно громко для всех, говоривших по-испански. Грянуло поветрие воспоминаний о былых днях, когда испанское оружие не знало себе равного в большинстве известных нам уголков на Земле, и этому способствовал тот факт, что большинство иных испанских героев почему-то не объявилось в Мире Реки. Никто не знал местонахождения Сида, или Кортеса, или Франсиско Писарро, или Бальбоа, или кого-то еще из наших великих воителей. Это неудивительно, разумеется, для страны с тридцатью-тридцатью пятью биллионами душ. Достаточно поразительно то, что здесь был сам Гонсало.
Другие испанцы стали находить дорогу в наш лагерь. Не только конквистадоры, конечно, и не сплошь испанцы из Испании. Население Испании никогда не было так велико. Кое-кто происходил из Кастилии, Арагона и Эстремадуры, сердца Испании, совсем маленького участка земли. Явились прочие испанцы: андалузийцы и каталанцы, а также креолы в больших количествах, испанцы, рожденные в заморских краях — в Мексике, Колумбии, Венесуэле, Аргентине.
И так, мало-помалу, в течение недель, затем — месяцев, испанский мир начал восстанавливаться вокруг Дягилева и Гонсало Писарро. Не все, конечно, пришли как танцоры. И наша Оксенстьерна процветала даже без прямых налогов на тех, кто являлся торговать. Были, конечно, налоги на тех из нас, кто обитал здесь постоянно. Но они были низкими, ибо скандинавы, ныне оказавшиеся в меньшинстве, видели, что дела все больше налаживаются, и единственное, чем они могут этому и впредь способствовать — это хорошее обращение с нами.
Между тем Дягилев, отчаявшись когда-либо сколотить чисто балетную труппу и обеспечить по-настоящему хороший аккомпанемент и оркестр, стал черпать из источника драматических представлений всей старой Европы. Он вводил элементы комедии дель арте, других видов малой драмы и скетчей. Но русский балет с испанским танцем продолжали преобладать, и таково было положение вещей, когда к Эрику Длинная Рука явился посланец и объявил, что менее, чем в трех сотнях лиг вверх по реке обнаружена крупная индейская монархия. Он сказал, что там властвуют инки, и нынешний правитель именует себя Атауальпа.
Вести об инках Атауальпы, оказавшихся так близко вверх по Реке, взбудоражили испанцев. Конквистадоры, которые составляли ядро танцевальной труппы, так и не привыкли к своему статусу плясунов. И менее всех — Гонсало. Его ум все еще воспламеняли воспоминания о том, на какую высоту он поднялся в Южной Америке. И, хотя он был полностью лоялен к своему брату Франсиско, его не тревожило, что брат так и не объявился. Равно, как и ни один из двух оставшихся братьев. Он был единственный Писарро в округе, и нет причин сомневаться, что ему это нравилось. Теперь ему стала ясна его задача: ему суждено повести испанцев к величию, которое ждет впереди. Когда испанцы услышали, что он подумывает во второй раз захватить королевство инков, они сперва сочли его безумным. Но то был род безумия, который им пришелся по вкусу.
— Мы совершили это однажды, — указал он, — и соотношение сил было более чем не в нашу пользу. Их наверняка не меньше миллиона. А нас — сто восемьдесят человек. Теперь нас больше.
— Не намного, — заметил Тапиа.
Гонсало всю ночь разглагольствовал перед ними у костра. Он был отменным оратором, и в голосе его звучала полная убежденность. Он напомнил им о былых победах испанского оружия. Он заявил, что их жизнь теперь — ничто, если не сквернее. Они — воители, конквистадоры. А чем они занимаются? Потешают публику за вознаграждение. Такого нельзя терпеть. Особенно теперь, когда блеснула надежда на что-то лучшее, на свершение, которое поставит на уши Мир Реки и увенчает их неувядаемой славой.
Толки о исходе слышались по всему лагерю. Сохранить эти замыслы в тайне оказалось невозможным. Испанцы чесали языками. И чем больше, тем привлекательней казалась идея. Викинги, правители Оксенстьерны, слышали, но решили не обращать внимания. Они не желали, чтобы на них свалилась гражданская война из-за нескольких сотен спятивших испанцев. Эрик Длинная Рука давно ожидал чего-то подобного. Ему требовалось распространить дальше свои торговые связи. Чем с большим числом народов он сможет заключить союзы, тем лучше станет его положение. И вот он решил послать свою труппу танцоров вверх по реке на судах, которые их всех вместят, и поглядеть, нельзя ли достичь каких-нибудь договоренностей с этими инками.
Он также охотно вручил Гонсало и прочим письма, милостиво дозволяя им владеть всем, что они смогут завоевать выше по Реке. Это именно Гонсало пришло в голову заполучить никчемную бумагу, ибо Гонсало хотел придерживаться строгой традиции и прикидывался, будто считает Эрика своим сувереном, которому обязан хранить верность как когда-то королю Испании (в тот раз он изменил присяге, но это ведь случилось давным-давно).
Русские считали весь план верхом безумия, но ехали с труппой, чтобы танцевать. Они не верили, что, когда дойдет до дела, испанцы действительно что-нибудь предпримут. Им представлялось нелепым, как можно драться за власть в варварском королевстве, когда в танцевальной труппе все настолько благополучно. Дягилев согласился участвовать в поездке и представить труппу индейцам. Он видел в этом новую возможность распространения культуры вверх по Реке. Нижинский, как обычно, сказал очень мало. До чего все-таки странный тип. Даже воскрешение в Мире Реки не избавило его от привычки к уединению. И не исцелило от обыкновения рассеянно глядеть в пространство. Он был не менее сумасшедшим в Мире Реки, нежели когда-то на Земле.
Мы, испанцы, собрали целый флот каноэ и плотов и начали путешествие вверх по Реке. Соседние государства, тянущиеся по берегам, пропустили нас. Нас не отпускало странное недоброе предчувствие. Сама по себе Река была спокойна, но необычные темные тучи беспрерывно сгущались во время пути. Казалось, сами небеса предрекают, что грядет нечто великое.
Несколько недель спустя мы пересекли границу страны инков. На сторожевом посту, где находилось несколько дозорных, нам предложили подождать, пока они не пошлют за разрешением для нас посетить Королевство Солнца, как называлась их империя.
Наконец, разрешение пришло, и мы двинулись дальше вверх по течению с несколькими их чиновниками на борту, исполнявшими обязанности проводников. Еще два дня спустя они велели нам высадиться на берег. Отсюда надлежало идти пешком.
Гонсало чувствовал себя крайне взвинченным, его прямо лихорадило. Его испанцы были вооружены настолько, насколько могли себе это позволить люди в Мире Реки. У них имелось несколько стальных мечей и множество деревянных с вставленными в наконечники кремниевыми остриями. Были также копья и ножи и один или два арбалета, сооруженные с большими усилиями и затратами. Индейцы, которых мы видели по дороге среди холмов, не представлялись вооруженными.
Наконец, мы достигли города Инков, который назывался Мачу Пикчу в честь их утраченной столицы на Земле. Город был воздвигнут на самом высоком хребте холмов перед самыми-самыми непреодолимыми горами.
Место выглядело довольно неприветливо. Почему они построили город здесь, а не на более благодатных низменностях? Никто не мог бы нам это сказать. Мачу Пикчу был сооружен преимущественно из бамбука, но оказался куда выше и великолепнее, нежели что-либо, виденное нами прежде, и уж всяко несравним с Оксенстьерной.
Многие здания насчитывали по три и даже четыре этажа, и здесь не сооружали, как в прочих местах, отдельных хижин, но дома соединялись один с другим и образовывали всего дюжину огромных домищ, которые тянулись на несколько акров.
Мы, танцоры, собрались на квадратной площадке на плоской вершине холма. Перед нами на фоне трехэтажных бамбуковых зданий восседал, окруженный свитой, великий Инка.
Индейцы были облачены в роскошные одеяния, сооруженные из вездесущих полотенец, и вооружены самыми разнообразными и невероятными бамбуковыми мечами, щитами, луками и стрелами. Свита бесстрастно взирала на приближающихся испанцев.
— Ваше Величество, — сказал Дягилев на великолепном испанском, на котором инки объяснялись с окружающим миром, хотя между собой они общались на языке, называемом кечуа. — Мы прибыли к вам из далекой страны ниже по Реке. — Дягилев оделся настолько официально, насколько ему удалось. Он не нашел, правда, заместителя моноклю, который нашивал на Земле. Надменный и крайне уверенный в себе, он поклонился Инке. Властитель кивнул.
— Начинайте представление.
И танцоры бурно двинулись с места. Пляску сопровождали барабаны различных размеров, флейты и несколько примитивных волынок, недавно пополнивших наш оркестр. То было красочное зрелище: танцоры фламенко, мужчины и женщины, топающие и вертящиеся перед Инкой, который, равно как и его вельможи позади него, любовался этим с непроницаемым лицом.
Испанские танцоры разошлись вовсю. Я слышал, как Дягилев говорит Нижинскому:
— Что это за танец они исполняют? Я не припомню ничего подобного.
— Наверное, они сами его придумали и отрепетировали, — ответил Нижинский. — Никогда прежде этого не видел.
Танец достиг пределов возможного. Прозвучала последняя нота, и танцоры замерли на полном ходу. И тогда Гонсало Писарро вскричал:
— Сантьяго! Во имя Господа, вперед!
Танцоры сорвали с себя костюмы. Под костюмами оказалась броня из рыбьей чешуи и готовое к бою оружие.
Я стоял близ Гурджиева, ошеломленный, в ужасе от их глупости, и все-таки от души жалея, что я не с ними — а они угрожающе приближались к Инке. Но Атауальпа не дрогнул и, когда испанцы достаточно приблизились, небрежно взмахнул правой рукой.
Передний ряд индейцев позади властителя преклонил колени. За ними стояли другие индейцы, и в руках они держали ружья. То было грубое огнестрельное оружие, больше напоминавшее аркебузы, чем винтовки, но самое настоящее — и стрелки явно прицелились, готовые открыть огонь.
Гонсало и его люди стали, как вкопанные. Атауальпа сказал:
— Итак, ты — Гонсало Писарро.
— Да, — подтвердил Гонсало, — это я.
— Я и прежде встречался с семьей Писарро, — заметил Инка.
— Итоги той встречи хорошо известны, — отозвался Гонсало.
— Но сегодня, — произнес Инка, — огнестрельное оружие — у нас. Вот и вся разница, верно?
На это у Гонсало не нашлось что ответить. Инка поднял руку. Одна из дверей отворилась, и два стража-индейца вывели оттуда какого-то человека. Он был высок и широкоплеч. Руки его были связаны за спиной, и вокруг шеи тоже виднелась веревка, за которую его вели индейцы. Я сразу узнал, кто это. Гонсало тоже.
Наконец, Гонсало удалось отдышаться.
— Франсиско! Это ты.
— Да, это я, — желчно подтвердил Франсиско Писарро, говоря с трудом, ибо мешала веревка.
Танцевавшие собрались вместе в кружок — спина к спине, с оружием наготове, собираясь подороже отдать свои жизни. Но Инка провозгласил:
— Стойте! У нас нет ссоры с вами, плясунами. Нет. И с испанцами тоже. Нам нужны только Писарро. Франсиско мы уже заполучили. Теперь сюда явился Гонсало, и здесь он должен остаться.
Танцоры что-то залопотали между собой, но их было лишь несколько сотен человек, а их окружали тысячи индейцев, у некоторых из которых имелись заряженные ружья.
Дягилев первым среди нас пришел в себя.
— Что вы собираетесь делать с братьями Писарро? — спросил он.
— Я поставил перед собой цель собрать их, — ответил Атауальпа. — Вот у меня уже двое, и еще двоих надлежит разыскать.
— И что станет со всеми этими Писарро? — Не унимался Дягилев.
— Это не твоя забота, — заметил Атауальпа.
— Мы — в новом мире.
Инка хмуро кивнул.
— Но от старого нам достались счеты, которые не оплачены. Тебе стоит вспомнить обо всем, что совершили Писарро со мной и с моим народом. Здесь самое худшее, что мы можем — это убить их, и они вернутся к жизни где-то в другом месте. Но если кто-либо из вас считает, что это несправедливо, я дозволяю любому из вас заменить любого из Писарро, и тогда мы отпустим одного.
Настало долгое молчание. Никто не вызвался.
И, разумеется, не предлагал себя Дягилев, которого это не касалось, и не вышел вперед я, более не конквистадор, но директор танцевальной труппы и помощник гения.
Инка рассмеялся.
— Ну, а теперь, все вы, сеньоры и сеньориты, убирайтесь отсюда, пока я не передумал.
Этим все и кончилось. Такая вот история, сеньоры, о том, как танцевальная труппа Дягилева во второй раз достигла успеха и развлекала человечество по всему Миру Реки. А заодно и история братьев ГІисарро и того, как они вторично встретили свой жребий в стране индейцев.
Роберт Сэмпсон
Тайные преступления
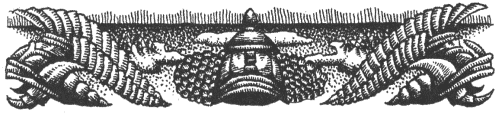
Ветер задул сильнее. Он налетал на серый борт ялика и разрывал туман в метр толщиной, который лежал надо всей поверхностью реки, точно белая глазировка на темном пироге.
Пинкертон еще больше ссутулился в своем ялике. Он с обидой вглядывался в ночное небо Мира Реки. Оно полыхало над головой обильнейшими звездными россыпями — да какими россыпями — толчеей солнц: зеленых, как яблоки, алых, топазовых и льдисто-голубых.
Он с неудовольствием подумал, что даже ночь в этом треклятом мирке не такая, как надо. Светло, слишком светло, слишком бурная иллюминация в небе. Он теперь находился против владений Нового Рима, места, где все начеку. Опасного края для одинокого путника.
Он скосил взгляд через плечо в сторону левого берега. На таком расстоянии часть его тела, видимая над туманом, может показаться просто дрейфующей корягой.
Еще несколько минут его могут не обнаружить. Но скоро требуется заявить о себе. Вот-вот возникнет в пределах видимости каменная пристань, крайняя точка, где ему будет дозволено высадиться. За пристанью, простираясь вниз по Реке, никому не ведомо насколько далеко, раскинулись Сады Тиберия, тайные и запретные, как предостерегли его датчане, непревзойденные в своей строгой красоте. Для неприглашенного посетителя — верная гибель.
Во время их последней встречи в датских владениях около сотни километров вверх по течению король Канут IV предупредил его не выказывать явного любопытства касательно садов. Ради своей безопасности, он должен в открытую подойти к пристани, плеснуть веслами, позволить увидеть лодку и громко приветствовать скрытых стражей.
То был единственный разумный способ явиться в Новый Рим. Честно и открыто. Не то, чтобы они поверили его честному лицу, каким бы невинным он ни казался. Они подозревали всех и каждого. Неплохая военная доктрина, пусть неудобная гражданская политика. Он не встретит никого, свободного от подозрений в Новом Риме Тиберия Юлия Цезаря Августа.
Холодный воздух омыл его лицо, оледенив лоб, волосы над которым уже начали подниматься ряд за рядом. Оставив ненадолго весла, он задрожал и плотнее натянул шаль на крепкие плечи.
Возможно, в полукилометре впереди он уловил неверное бледное мерцание у черного берега. Еще несколько минут дрейфа — и он различит каменную пристань, как ее описывали датчане. На некотором расстоянии позади пристани сгрудились бамбуковые хижины, их не рассмотреть в неверном свете. Стражей он не увидел. Но знал, что они здесь.
Он сплюнул, дабы избавиться от зловонного привкуса, и схватился за весла. Лодка наискось перерезала течение, нацелившись на темный берег. Мимо проскользнула неясная масса грейлстоуна. Он возбуждения у путника защекотало в горле — то же пряное удовольствие, которое он испытывал, когда пробирался замаскированный по территории конфедерации давным-давно, разнюхивая секреты мятежников для генерала Мак Клеллана.
Наконец, пристань выросла перед ним, бледная по контрасту с черной-пречерной водой. Он поднял весла, брызнувшие каплями. Ялик проскрежетал о камень. И тут же три человека материализовались в ночи там, где только что никого не было. Рысцой припустили к нему. Сияющее небо четко обрисовало их шлемы. Римские легионеры, вне сомнений. У каждого на левой руке — круглый щит. Острые копья, прославленные римские пилумы, в правой — наготове, внаклонку.
Он подумал, что это прямо, как если бы он попал на картинку в книжке. Громко и четко, на простом эсперанто, всеобщем языке Реки, Пинкертон воззвал:
— Добрый вечер. Я могу пристать здесь на ночь?
Внезапно стражи застыли на дальнем конце пристани. Один из них торопливо прокричал:
— Прочь из воды! Быстро! Быстрее же!
Пинкертон метнул швартовы к причальным столбам.
— Иду.
Двигаясь с нарочитой уверенностью, он вывалил на пристань свой вещмешок.
— Яйца Юпитера! — прорычал страж. — Да вылезай ты из лодки!
Он тяжело устремился к Пинкертону: правое плечо — вверх, словно для защиты от удара. Крепкие пальцы обхватили пинкертонову руку.
Он выволок американца на пристань и потащил к берегу. Второй страж подхватил вещмешок и швырнул через пристань на сушу. Он напряженно вглядывался в туманную воду. Римляне с вновь прибывшим, как безумные, пронеслись несколько ярдов вверх по травянистому склону. Выпустив руку Пинкертона, страж развернулся, чтобы обозреть Реку. Дыхание вырывалось у него изо рта. Он потер лицо мощной лапищей.
— Рыба-Дракон, — пояснил он. — Река ими кишит. Прибиться к берегу в такую темную пору значит спасти жизнь. Они бы и из воды высунулись, чтобы тебя цапнуть.
Рыба-Дракон! Пинкертон задумался. Он немало о них знал. И знания холодом скользнули вдоль костей. Речные Драконы дорастали до невероятных размеров и свирепости. Обычно — не всегда — они были падальщиками. Но также и нападали. Мене двух недель назад он видел одну такую тварь, взметывавшую пену на плаву в лучах солнца, пасть — прямо туннель, и у входа — частокол грязных белых зубов. Тот дракоша откусил корму у маленькой лодочки — с обеими сидевшими там ребятами. Американец тихо вздохнул.
— Рыба-Дракон, — повторил он и сплюнул. — Почему их тут вокруг столько развелось?
— Да кто знает. Дай-ка на тебя взглянуть.
Их руки принялись ловко обшаривать его на предмет оружия.
— Только нож, — сказал старший. — Я заберу его пока. Ну, пошли.
Они окружили его ловко и умело. По одному с каждой стороны и один сзади. Здоровенные, основательно сложенные, во впечатляющей броне.
— У вас тут всех пришельцев берут под стражу? — спросил Пинкертон.
Охранник справа ухмыльнулся.
— Тебе предстоит встреча с Богиней. Она разберет, кто ты такой.
— Гость или пища для Дракончика, — прогремел тот, что слева. Ему это казалось несколько забавным.
— Что за Богиня? — спросил Пинкертон. — Я думал, здесь правит Тиберий.
— Когда он здесь, то правит, — заметил страж. — Поблагодари своих домашних богов, если его сегодня не будет. Не то можешь получить приговор, который тебе не понравится.
Умолкнув на этой мрачной ноте, они зашагали к деревне по траве, которая пружинила под ногами, точно отменная проволока. По их приближении к скоплению хижин Пинкертон стал улавливать резкий запах сушащихся рыбьих шкур. Где-то в темноте женский голос выл от невыразимого горя.
Большое поселение, как подумал Пинкертон, когда они петляли среди зданий. Похоже, четыреста-пятьсот человек только здесь, поблизости. Возможно, столько же — в скоплении домишек по ту сторону грейлстоуна. Нет, — спохватился он. — Нет, рановато оценивать. — И опять накатил недавний стыд. Будучи офицером разведки Мак Келлана на Полуострове, он оценил численность войск Ли в двести тысяч. И прокололся. Изрядно прокололся. Здорово напортачил. То был самый жуткий момент в его карьере. Один из двух самых жутких. И о втором он сокрушался куда больше.
Лицо его помрачнело при воспоминаниях.
— Ах, Дингус, — подумал он, — мы тебя тогда упустили, дерзкий бесстыжий вор. Другие звали тебя Джессом Джеймсом, Робин Гудом или еще Бог знает как. Болваны. Для Пинкертона ты был Дингусом, позорным провалом сыскного агентства. Мы верили, что возьмем тебя наконец, уже окружали. Да только Боб Форд выстрелил первым. И послал Дингуса туда, где Пинкертонам его не достать.
Провал.
Он с усилием прогнал ненужные мысли. Жди и наблюдай, верь тому, что перед глазами. Будь терпелив. Скептичен. На Полуострове он полагался на сообщения дезертиров, шпионов, рабов. Двадцать лет спустя после гражданской войны бывшие конфедераты все еще издевались над ним и уничтожали его репутацию. Разумеется, его подсчеты не были столь откровенно неверны. Разумеется, нет.
Тусклый свет лился вверх из-за хижин, заливая бледно-желтым стены из расщепленного бамбука. Стражи вели Пинкертона вперед, к ярко озаренному широкому пространству. Примерно в двадцати метрах от них раскинулось основательное бамбуковое сооружение с деревянными столбами впереди, покрытыми искусной резьбой и окрашенными в розовый, голубой и зеленый. Лампы на рыбьем жире полыхали перед массивной дверью, на которой черной и красной красками был изображен некто - с посохом в египетском стиле.
У этой двери стояли по стойке смирно четыре стражника в шлемах. В руках они держали пилумы с остриями из расколотого кремния. Вдоль торцовой стены маячили в тени еще несколько воинов. Командир материализовался из тени, чтобы переговорить с охранниками. Один из них приоткрыл огромную дверь, откуда вырвался неожиданно аромат сандала, и пропал внутри.
Они ждали в молчании почти пятнадцать минут. В течение этого времени стражи у дверей не шелохнулись и даже не скосили глаза на Пинкертона. Но он сомневался, что мог бы пробежать пять шагов, прежде чем в его теле засядет несколько кремневых наконечников. Пока он стоял, разглядывая раскрашенную дверь, тонкое и протяжное причитание взнеслось к небу вдалеке среди хижин у него за спиной. Пинкертон резко оглянулся.
— Что это? — спросил он ближайшего из стражи.
С мгновение ему казалось, будто тот не обратил внимания на вопрос. Затем страж украдкой поглядел вбок. И, едва разняв губы, пробормотал:
— Одна из тибериевых вдов.
— Вдов?
— Тихо, эй там, — огрызнулся командир.
Последовало суровое молчание. Отдаленный вой позади возносился и угасал, точно бечева летела по ветру.
Наконец со скрипом распахнулась дверь. Страж поманил их внутрь. Они миновали небольшую, тускло освещенную прихожую и прошли по широкому коридору, увешанному цветными полотнищами и плетеными тростниковыми циновками. Было душно от благовоний. В конце коридора командир остановился и произнес что-то на тарабарском языке, которого Пинкертон не смог определить. Неожиданно голая женская рука протянулась из-за драпировок и откинула занавес. Наружу хлынул теплый желтый свет.
Пинкертона препроводили в ярко освещенное помещение, наполненное густыми ароматами, увешанное цветными тканями и населенное, насколько ему показалось, одними женщинами.
Перед ним, выпрямившись в кресле, гордо красовалась молодая особа в тонком до прозрачности платье. Ее веки были выкрашены в голубой цвет, а глаза казались огромными из-за густо подведенных ресниц. Лицо ее под изысканно уложенными темными волосами было тонким и удлиненным, с прямым, несколько заостренным носом и бледной кожей, ощутимо напудренной. Она подняла руку с маленькими пальчиками:
— Подойди, плавающий по ночам. — Ее мягкий голос звучал отстраненно.
Белый свет взорвался в глазах Пинкертона. Удар бросил его вперед. Он упал, осознавая лишь, что его ударили по загривку, и что ни в коем случае нельзя лишаться чувств. Миновал промежуток времени, который он не мог измерить, и чернота перед глазами рассеялась. Он обнаружил, что стоит на четвереньках, и во рту препогано.
Сзади прогремел голос командира:
— На колени перед Богиней.
Американец заморгал, чтобы зрение прояснилось, и гортанно проговорил:
— В моей стране не принято вставать на колени.
— Диковинная страна, — заметили особа на троне. — Можешь посмотреть на меня и назвать свое имя.
Откинувшись на корточки, он поднял голову, превозмогая боль и поглядел ей в лицо. Ее губы, густо-алые, как у гулящей девки, полыхали на белизне кожи. Она смахивала на раскрашенную куклу. Но холодная сталь звучала в ее голосе, а взгляд, умный и лишенный чувствительности, был темен от зрелости. Он сказал спокойно и отчетливо:
— Меня зовут Аллан Пинкертон. Основатель Национального Детективного Агентства Пинкертона в Чикаго, Иллинойс, Соединенные Штаты Америки.
Аллан Пинкертон, родился в Глазго, Шотландия, 1819 г., сын сержанта полиции. Эмигрировав в 1847 г. в Штаты с женой, он нашел, что правоохранительная деятельность ему больше по вкусу, чем его прежнее ремесло бондаря. Он стал помощником шерифа, затем получил назначение первым детективом в новом полицейском подразделении Чикаго. Но его мучило честолюбие. В 1850 г. он вышел в отставку, чтобы организовать, вместе с двумя сыновьями, частное детективное агентство.
— Детективное агентство, — произнесла молодая женщина. — И что это значит?
— Это организация, которая защищает от преступлений. Разыскивает преступников. Детектив разоблачает тайные преступления и добивается наказания за них.
За раскрашенным, точно маска, лицом, промелькнули какие-то чувства.
— Тайные преступления, — пробормотала она. — Красиво звучит, Аллан Пинкертон, детектив. И ты всегда добивался наказания за тайные преступления? И никогда не тратил сил впустую?
— Мы действовали успешно, — отрезал он. — Даже исключительно успешно. Но совершенство встречается только на Небесах, а не в делах человеческих.
— Или в делах богинь, — она рассмеялась, ее смех походил на белое сияние. — Даже у богинь случаются порой неудачи. Так, признаюсь, мне не удалось определить, почему одинокий мужчина является ночью по этим ужасным водам искать нашего гостеприимства.
Если уж лгать, надо сказать как можно больше правды. И он незамедлительно ответил:
— Я последовал совету датчан, что живут выше по течению. Они предостерегали от граалепоработителей на дальнем берегу. И сказали, что здесь безопасней странствовать ночью, пока я не окажусь вне угрозы. Они предложили мне попросить приюта в Новом Риме.
Каждое слово было правдой. Пусть это — не вся правда.
— Мы встречались прежде с граалепоработителями, — сказала женщина. — Они понимают язык клинков. А что понимают датчане? Их король, Канут IV, слывет святым. Я заметила, что из святых получаются неудобные соседи. Их превосходство в сфере духа ведет к неумению управлять делами в их временном обиталище.
Пинкертон покачал головой.
— Я ничего об этом не знаю. Они были со мной достаточно любезны.
Она была не столько красива, сколько невероятно женственна. Роскошная мягкость ее женских чар струилась вокруг, как если бы его овевал порывистый теплый ветер. В то же время он видел, насколько точно она его оценивает, и понимал, что ее разум спокоен, холоден и опасен. Богиня улыбнулась.
— Я открыла в тебе много такого, чего не понимаю. Просвети меня. Разве ты не нашел утешения у женщины, коли путешествуешь один?
— Я ищу своих, — сказал он. — Когда я пробудился… или воскрес… словом, как бы ни называлось то, что случилось с нами, я обнаружил, что я — не на Небесах, на которые я надеялся, но и не в Преисподней, которой страшился. Ничего не поймешь. — Он сделал паузу, зная, что большинству людей свойственно слишком много объяснять, и что их собственные языки доводят их до беды. Но играть в молчанку было в этом месте еще опасней. И он медленно продолжал. — Я проснулся среди чужих. То были дружелюбные, бесцельные люди. Им недоставало честолюбия и энергии. Они боготворили палки. И вдобавок — ни жены, ни сыновей, сама понимаешь. Моего дела больше не существует. Моя страна неизвестна. Я не в состоянии отказаться от семьи, своего дела и страны. Вот я их и ищу.
И Дингуса тоже, прошептала какая-то затаенная часть его существа. Когда-нибудь я отыщу Дингуса и наконец-то вычеркну этот провал из моего послужного списка.
Он заметил, что Богиня рассматривает его с лукавой снисходительностью, которая его тут же стала изрядно раздражать. Она сказала:
— Мудрецы говорят, вдоль Реки живет больше людей, чем песчинок в пустынях Египта. — Она медленно покачала головой, полусочувственно-полуигриво. — О делах столь значительных, никто из нас, как я подозреваю, не вправе утверждать что-либо наверняка. Я знаю только, что Ка вновь вернулся к каждому из нас. И что вновь священное солнце согревает нашу кровь. Мы вновь в объятиях жизни. Или для тебя недостаточно, Пинкертон, детектив, что жизнь снова раскинулась перед тобой?
— Не достаточно, — рявкнул он. — Я слишком многое оставил незавершенным.
— Смерть уничтожила все прежние обязательства, — сказала она. Он почувствовал себя так, как если бы его наставляла кукла. — В твои руки передана вторая жизнь, свежая и новая. Располагай ею, как пожелаешь.
— Обязательства, — произнес он, задержав глаза на алом изгибе ее рта, — никогда не уничтожаются. Мы обязаны завершать то, что оставили незаконченным.
Ее крохотная рука плавно взмыла в сторону, ему показалось, что так она выразила игривое презрение.
— Боюсь, мы никогда не сойдемся во мнениях, — заявила она, одаряя его призрачной улыбкой.
Под зыбкой тканью ее платья вздымались мягкие купола ее грудей. Он поспешил отвести глаза. Неприязнь к ее мягкости, ее благовониям и крикливой боевой раскраске, к ее неподобающему одеянию, к ее позерской отстраненности и смеху свысока, проплыла сквозь него, словно ядовитый дым.
Она согнула пальцы. Верзила командир вышел из-за спины Пинкертона и встал — весь внимание — у ее кресла.
— Марий, — распорядилась она, — предложи этому усталому страннику хижину для ночлега.
Она не взглянула прямо на Пинкертона. Он почувствовал, что в ее глазах мелькнула утонченная насмешка, как будто она почувствовала, что он пялится на ее грудки.
— И предложи ему воспользоваться грейлстоуном, — добавила она и наклонилась вперед, пробормотала несколько неразборчивых слов. Затем произнесла громче. — Возможно, мы с ним еще поговорим, если я почувствую к этому склонность.
Пинкертон с усилием встал на ноги, и его выпроводили из зала. Когда они проходили сквозь занавеси, он оглянулся и увидел, как ее маленькое, стройное, все в белом, тело, скользнуло и затерялось среди женщин. К своему удивлению, он внезапно проникся к ней мимолетным теплым чувством, как будто она была прелестным ребенком, требующим его заботы. Затем вернулась неприязнь. Какой позор, — с яростью подумал он. — Вдруг отозваться телом этому распущенному ребенку. Вечно Сатана смеется над мужчинами. Одолей адскую похоть дисциплиной и самоотречением.
Очутившись снаружи, он глубоко вздохнул, очищая легкие от ее липкого от благовоний воздуха. Стражи с любопытством глазели на него. Марий уронил лапищу на его плечи.
— Оказывается, у нас — почетный гость, ребята, — с удовольствием сообщил он. — Я проведу его в хижину для гостей. Флавий, а ну-ка быстро к Реке и смотри в оба. Богиня ожидает, чтобы ты нынче походил дозором во славу Нового Рима. Так позаботься о своей драгоценной шкуре. — Отвернувшись, он тяжело хлопнул Пинкертона по спине. — Ну что же, мой новый друг, идем со мной.
Они вышли из освещенного огороженного пространства и попали во вьющиеся среди темных хижин проходы. И снова раздался долгий скорбный вопль. Некоторое, время они шли молча. Марий стремительно шагал, все время поворачивая, и Пинкертон вдруг понял, что они описывают замкнутый круг. У него заныло под ложечкой. Богиня говорила со стражем еле слышно. Мозг Пинкертона лихорадочно перебирал возможные версии.
Задержка означала, что требуется время для приготовлений чего-то, что касается, несомненно, его. Но, желай они его смерти, как здраво подумал он, он бы уже был убит. В сущности, он их пленник. И, чего доброго, с ним играют, точно кошка с мышью, намереваясь цапнуть без предупреждения и, доведя до ужаса, заставить говорить начистоту. Вполне возможно. Он сверлил глазами могучие плечи шагавшего впереди римлянина и чувствовал, как кровь приливает к щекам и ко лбу. Он до головокружения жаждал действия.
Словно подслушав его мысли, Марий сказал:
— А ты удачлив. Беседа не закончилась тем, что с тебя спустили шкуру. — И он хихикнул себе под нос. — Это более, чем просто везение. Наверняка Богине понравилось твое рыло.
Пинкертон шумно втянул воздух.
— Я думал, в Новом Риме правит Тиберий. Кто она?
Он, скорее, почувствовал, чем увидел изумление Мария.
Верзила так и гоготнул.
— Клеопатра.
— Господи Боже, — поразился Пинкертон. — Этот ребенок?
— Она самая. Та Клеопатра. Клеопатра VII, Филадельф Филопатор Филопатрис. Та, которая когда-то ловко провела Цезаря и Марка Антония. Клянусь брюхом Марса, ты озадачен. Да, у нее не такая уж пышная грудь. Но она умеет мыслью разогнать в небе тучи. Возможно, как раз это привлекло к ней Юлия.
— Так кто она Тиберию? Императрица? Супруга?
— Да нет же. Совместное правление, так это можно назвать. Она заставляет Тиберия попотеть. Он не очень-то путается под ногами.
— Довольно странно.
— Она правит. Он веселится. — Марий издал резкий звук, слишком железный для смеха. — В своем веселом убежище. И не стоит слишком любопытствовать насчет Тиберия, и как он веселится.
Очевидно, они прошли немало. Марий остановился перед крохотной бамбуковой хижиной с крышей из тяжелой травы, кончики которой свисали, точно нестриженые лохмы. И сказал Пинкертону:
— Вот твоя хижина, милостью Богини, которая могла бы бросить тебя дракошкам так же запросто, как отправить спать со всеми здешними удобствами. Я велю кому-нибудь проводить тебя к грейлстоуну утром.
— Я бы хотел получить обратно нож.
— Терпение. Нельзя допустить, чтобы ты зарезался, пока ты наш гость.
Марий затопал прочь. Пинкертон задержался на миг в дверях хижины, вдыхая влажный ночной воздух. Аромат ее сандала все еще исходил от его одежды. Это безмозглые датчане не упомянули о Клеопатре. Небрежная, неумелая работа. Тут пришло тошнотворное ощущение, что они не удосужились объяснить и другие важные вещи. На какой-то жуткий миг ему почудилось, будто он бредет наощупь в высокой траве, где на каждом шагу — ядовитые змеи. Учуял бы он заранее их невежество, отказался бы от поручения Канута, хотя было оно, вроде, проще простого.
Он осторожно взмахнул рукой, выражая раздражение. Если он мог обшаривать Конфедерацию Южан, постигая их хитрости, сможет, разумеется, и добраться до силы Нового Рима. Это ему раз плюнуть.
Он нетерпеливо развернулся и вступил в хижину.
Внутри неярко горела на бамбуковом столе небольшая лампа на рыбьем жире, освещая блюдо с фруктами и холодным мясом.
У дальней стены стояла кровать, на которую был брошен его вещмешок. Близ нее — бамбуковый стул.
В тени у стула, наполовину видимый в колеблющемся свете, обозначился некто, укутанный в темно-серую ткань. Его сердце подскочило. Он приблизился.
— Я ждала тебя, — раздался вкрадчивый шепот. — Богиня желает, чтобы ты взялся за ее поручение.
С мгновение он стоял молча. Но с видом не столько застигнутым врасплох, сколько приводящего в порядок мысли. Внезапно он указал на стул.
— Добро пожаловать, Богиня, — сказал он. — Садись, пожалуйста. Здесь недостаточно великолепная обстановка для твоего положения. Но, как ты понимаешь, мне это лишь предоставлено.
Она вышла вперед на свет, сбрасывая свободный серый балахон.
— Меня раскусили, — сладко пролепетала Клеопатра.
Движением, плавным, точно струйка дыма, она присела.
Надушилась она пуще прежнего. Громадные глазищи сияли.
— Как это было ловко, — воскликнула она. — Ты узнал меня в один миг. Садись. — Она улыбнулась ему откровенно шаловливо. — Мы можем обойтись без таких утомительных формальностей, как коленопреклонение. Это — лишь официальная церемония, на которой мы настаиваем, собственно, чтобы прививать среди наших подданных привычку нас почитать.
Он осторожно сел. В неверном свете ее лицо, скрытое под яркими красками, казалось рожицей задиристого ребенка. Она сказала:
— Сегодня, когда ты описал свое привычное занятие, меня разобрало любопытство. Теперь, когда ты показал свое искусство, признаюсь, меня охватило восхищение. Ты вызываешь истину из всякой тени.
— Ты очень любезна.
— В Новом Риме, — сказала она ему, — одинокой женщине, сколь угодно высокородной и могущественной, нужно много друзей. Точно так же чужестранец в Новом Риме может, если желает, удостоиться благодарности высоких лиц. Учитывая эти взаимозависящие обстоятельства, я надеюсь, что ты согласишься стать моим другом.
Он сразу понял, что эта женщина избрала его орудием в какой-то личной интрижке. Его прибытие к хижине задержали так, чтобы она вошла первой. Ее тяжкие благовония обеспечивали уверенность, что он ее легко распознает. И это позволит ей восхититься им, обезоружить его и взять на службу.
Подавшись вперед, она подставила свое личико под свет лампы.
— Ты и догадаться не можешь, как срочно твоему другу нужно твое умение. Ты много лет раскрывал тайные преступления. Не так ли?
— Такова работа детектива.
— Значит, тебя, несомненно, привела к нам сама Исида. В этом месте, как ты увидишь, мы строим новый город, город, посвященный чистоте солнца. Солнце для большинства здесь — это египтянин, охваченный крепким металлом немногочисленных римлян. К сожалению, немногих, ибо они — упорные строители. Вместе мы возведем город, более дивный, чем Мемфис или Александрия, и более прославленный, нежели сам Рим. Этой цели мы посвятили нашу новую жизнь. И все-таки с самого начала самоотверженных трудов, у нас совершаются тайные преступления. Гнусные преступления, как подсказывает мне мое сердце. Ты слышал, как воют в ночи женщины?
— Да.
— Если бы мужчины сокрушались, как они, ты услышал бы и мужские голоса. Женщины горюют по исчезнувшим мужьям. Мужчины, вероятно, оплакивают своих жен. Кто знает? Мужчина и женщина вдруг исчезают среди ночи. И не возвращаются.
Он сдержанно заметил:
— Они могут и куда-нибудь переселиться.
— Бросив семью и все имущество? Вряд ли.
Он пораскинул мозгами.
— Ваши границы хорошо охраняются?
— Каждое государство обязано защитить свои рубежи от происков соседей. Стражи не сообщают, чтобы кто-то к нам проникал.
— Тогда все очень просто, видишь ли. Одно из двух. Либо стражи подкуплены, либо исчезнувшие люди по-прежнему в Новом Риме.
— Не так просто, Пинкертон, детектив. — Она опустила глаза, сомкнула колени, сжала над ними побелевшие руки: образ растерянной и перепуганной женщины. Он любовался ею с усмешкой, но не без восторга. Она умела устраивать представления. Она прошептала:
— Они все были мои сторонники, понимаешь ли. Мои друзья. Каждый получал особое приглашение в сады Цезаря.
Его лицо было непроницаемо.
— В Сады?
— В Сады Тиберия. Они лежат чуть южнее пристани, где ты высадился. Там император построил виллу и выкопал озеро. Он живет там в добровольном затворничестве. Его покой охраняют несколько преторианцев.
— Едва ли он может править оттуда.
— Он правит посредством меморандумов, — объяснила она. — Я их получаю предостаточно, можешь поверить. — Ее расширившиеся глаза впились в сыщика. — Ты должен понять. Тиберий умелый властитель. В нем есть гений семьи Юлиев, позволяющий выбирать в пределах возможного.
Она ждала, что он скажет. Наконец, сыщик спросил:
— И что еще?
— Он также, — сказала женщина, выговаривая слова с утонченной робостью, — склонен к помрачениям духа. Его способности, возможно, как мы можем сказать, встречают препятствия в виде взрывов ярости. Они начинаются ни с того, ни с сего, а потом проходят. Как буря, тревожащая небеса.
— Ты подозреваешь его в убийствах?
— Да кто знает. Кто знает. Есть одна трудность, друг детектив. Как соправительница, я должна знать. Я чувствую, он не мог умертвить этих людей в приступе безумия. Но я должна удостовериться. Я должна это узнать ради Нового Рима.
Он отклонился назад, закрыв глаза. Он чувствовал, что поддается ее женственности, ее смышлености, вкрадчивой мольбе в ее голосе. Она предположила:
— Ты никак обиделся? Я ошиблась, обратившись к тебе за советом?
Ее пластичность и проницательность обессиливали. Он покачал головой:
— Я пытаюсь понять, чего ты желаешь.
— Сегодня ночью он пригласил нескольких из тех, к кому я привязана и кому доверяю отобедать с ним в Садах. Если они почуют опасность, что они могут сделать? Кто из всех нас может отказаться от приглашения императора? Я желаю, чтобы ты проник в Сады незамеченным и проследил, если я права, как совершаются тайные преступления императора. Или, если я неправа, убедился в их отсутствии. Можешь сделать такое, как друг для друга?
— Ты сказала, что там охрана.
— Марий командует преторианцами, хотя назначен руководить моей верной египетской стражей. Он проведет тебя в Сады. Тебя не заметят.
— И когда я вернусь?
— Завтра ночью. Я приму твой доклад в этой хижине. — Так как он не ответил немедленно, она кротко добавила. — Есть такие, которые шепчутся, будто ты датский шпион, подосланный самим Канутом, чтобы разнюхать наши тайны. С какой радостью я по твоем возвращении опровергну эту клевету.
Подобные шелковые угрозы не нужны, подумалось ему. В конце концов, он не удержится и согласится ей помочь. А какой у него выбор?
Он изобразил пустую улыбку и потянулся, чтобы коснуться ее теплой руки. Если он потом расскажет, что прикоснулся к Клеопатре, это будет нечто.
— Дуракам везде мерещатся шпионы, — сказал он. — Я могу тебе помочь. Когда придет Марий?
— В течение часа. Поешь и отдохни. К сожалению, ночь тебе предстоит долгая.
— Детективу не привыкать, — заметил он и проводил ее до дверей.
После того, как она растаяла в ночи, он вернулся к столу и принялся подкрепляться. Хоть и здорово она ему не нравилась, его не могло не восхищать ее искусство. Какой бы из нее вышел оперативник!
Итак, в его распоряжении час, чтобы прикинуть, что все это значит. Тридцать лет работы детективом позволяли ему безошибочно угадывать, если клиент лжет. А она лгала. Господи, да к концу — вранье на вранье. И, по какой бы причине она его ни впутывала, это почти наверняка не имело ничего общего с тайными преступлениями Тиберия.
Кончив есть, он опорожнил на постель свой мешок. Из того, что смахивало на утолщенный шов вдоль нижнего края, он извлек узкую рогатку около двадцати сантиметров длиной. Она была сделана из драконьей шкуры и стянута обрывком полотна, а внутри лежала тщательно засыпанная песком шишечка из железного дерева. Он придирчиво оглядел оружие, хмурясь, заметил, что оно уже изрядно потерлось. Жалкая замена свинцу и плетеной коже. Но сойдет. Он подбросил рогатку на ладони, взвешивая. Что-то такое не вредно приберечь, если блуждаешь в ночи. Опустив рогатку за пояс, повязанный под свободной рубахой, он растянулся на постели и закрыл глаза.
Менее чем через час в дверь тихонько постучали. Он поднялся, зевая и протирая глаза, проклиная скверный привкус, который, похоже, никогда не уйдет изо рта. Тяжело топая, вывалился из хижины. Марий стоял и ждал, завернутый в тяжелый плащ. Не проронив ни слова, он подал Пинкертону знак: мол, следуй за мной, и двинулся куда-то. Воздух был пахучим, холодным и сырым.
За несколько минут они выбрались из лабиринта дорожек меж хижинами на ухабистую травянистую равнину, которая плавно сбегала к Реке. Марий шел впереди строевым шагом, неизменным, как барабанный бой. Его голова и плечи нечетко возвышались в невероятном мельтешении звезд.
После двадцати минут молчаливого марша верзила-легионер остановился. Впереди возникла простирающаяся в темноту направо высокая черная масса: стена или ограда. За ней, где-то в глубине, раздавался стук барабана и нестройный смех, звучавший слабее, чем удары сердца Пинкертона. Он взвинтился. Кожа стала тугой и сухой, руки онемели. Выводы из его рассуждений тревожили его. Не то, чтобы он располагал для этого достаточными сведениями. Но вообще-то, данных никогда не бывает достаточно. И пользуешься теми, которые можно заполучить, а затем прислушиваешься к двусмысленным нашептываньям интуиции. Марий сказал в ухо Пинкертону:
— Впереди бамбуковая чаща. Мы воспользуемся тропой для стражей. Сад — с той стороны.
Пинкертон ухватился сзади за пояс верзилы, и тот повел его в неясную мглу. Они петляли то вправо, то влево по кругу скоплений бамбука, посаженного, как заподозрил Пинкертон, чтобы замаскировать вход. Довольно долгое время они пробирались ощупью, совершенно без света, по предательски неровной почве, окруженные слабым горьковатым бамбуковым запахом. И внезапно вышли на открытое место. Перед ними раскинулась темная гладь искусственного озера почти в триста метров шириной. Какое-то каменное сооружение соединяло озеро с Рекой. Глубоко вдаваясь в сушу, озеро оканчивалось у празднично освещенной виллы. В каменном дворике между виллой и водой растянулась на ложах горстка мужчин и женщин. Перед ними под барабанный бой и блеяние рогов-раковин подскакивала кучка танцоров. Марий прыснул:
— И живут же эти патриции.
— Надо бы подойти ближе, — заметил Пинкертон.
Взвинченное состояние отступило. Теперь мозг его работал спокойно и быстро. Он последовал за Марием по краю бамбуковой заросли к месту, где озерный берег выгибался в сторону виллы. Оживление в каменном дворике было менее чем в сотне метров. Они присели на корточки, наблюдая.
— Который здесь Тиберий? — спросил Пинкертон.
— Сомневаюсь, что он вообще вышел, — Марий кивнул в сторону освещенного окна в ближайшем крыле виллы. — Он там, у себя. Подбивает счета. Он любит охотиться за медяками.
— Хотелось бы поглядеть, на что он похож.
— Старый зануда, весь в прыщах. Он тебе не обрадуется.
— Полагаю, что ты прав, — согласился Пинкертон.
Возбуждение пробежало по собравшимся во дворике. Несколько человек вскочило на ноги, уставившись на проход в освещенный внутренний двор, разделявший передние и задние помещения виллы. Оттуда начали выходить вооруженные стражи. Марий рывком поднялся. Скосив глаза назад, в сторону Реки, он шепнул: «Дозор идет!» — с явным изумлением. Пинкертон повернулся, чтобы взглянуть. И его глаза, ослепленные ярким светом, ничего не разглядели. Марий негромко огрызнулся:
— На этот час дозор не намечен. Они здесь все прочешут. Живо отсюда!
— Куда?
— На виллу. Больше некуда. И, возможно, ты все-таки увидишь нашего славного императора. Потопали. — Его жесткая, словно тиски, лапища схватила руку сыщика выше локтя. И они стали пробираться прочь, держась поближе к бамбуковой изгороди. Пинкертон бросил взгляд в сторону дворика. Вечеринка расстроилась. Двойная колонна легионеров затопала через двор. И среди них, точно самоцвет в дорогом венце, шагала Клеопатра с надменно вскинутой головой. Она была в белом, ткань держалась с помощью ярких шарфов, на голове — прихотливый золотой убор. Пинкертон оторопело воззрился на нее, в миг забыв обо всем на свете.
— Клеопатра!
Марий замер на ходу, оглянулся и что-то пробормотал на живой и сочной латыни, не требовавшей перевода. Он был до предела ошеломлен. Он опять вцепился в руку американца.
— Идем!
Теперь, очутившись против виллы, они метнулись через открытую лужайку к флигелю, затем проскользнули под освещенным окном, зарешеченным и затянутым чем-то прозрачным. Марий замедлил ход, прислушавшись, нырнул за угол вдоль отштукатуренной стены. Они тут же погрузились во тьму, густую, как тесто.
— Здесь дверь, — предупредил Марий. — Всегда запертая. Но если ты знаешь, как их открывать, попробуй.
Тепло возникло под ребрами сыщика и весело растеклось по всему телу. Лишь дисциплина помешала ему улыбнуться. Итак, несмотря на все сомнения, он рассуждал верно.
Задание было откровенным розыгрышем сверху донизу. Сплетением лжи. И не потому что глубокий скептицизм профессионала-детектива никогда не принял бы отсутствия часового, уединенную дверь и легкость доступа. Но прибытие Клеопатры озадачивало. Здесь обнаруживалась какая-то неувязка.
Металл перешепнулся с металлом. Мариус крякнул. Что-то резко звякнуло, и во мгле обозначилась полоса тусклого света. Пинкертон приготовил свою рогатку и последовал за Марием в длинный полусумрачный коридор, где крепко пахло сырой штукатуркой. В двадцати метрах впереди он пересекался с другим, более широким, мощеным красными плитками. Свет лампы дрожал на кремового цвета стенах. Марий знаком велел идти вперед. Никакого укрытия коридор не предполагал: голые стены, запертые двери — отменная ловушка. Когда они были на полпути, в освещенном коридоре отворилась со скрежетом невидимая дверь, выпустив наружу сумятицу голосов. Застучали приближающиеся шаги.
Марий куда-то метнулся наискось. Распахнул дверь в левой стене и втянул туда Пинкертона. Быстр закрыл дверь, оставив щелочку, и тут же прильнул к ней глазом. Сварливый голос проворчал;
— Да-да. Я приду, когда освобожусь. Спешки нет.
Пинкертон приложился спиной к стене. Шевеля в пальцах свое оружие, он проворно огляделся. Они стояли в длинном и широком помещении, где имелось изобилие столов, скамей без спинок, шкафов любых размеров, и царила гнетущая тьма. Для этого мира, как подумал сыщик, немалым благом оказалась бы керосиновая лампа. Коптилки на рыбьем жиру мерцали вдоль большого стола через весь зал, заваленного свитками и письменными принадлежностями. Пинкертон осмотрел тени позади стола, и его взгляд из-под тяжелых бровей казался отсутствующим. Сварливый голос вскричал из коридора:
— Держите эту бабу под пристальным наблюдением. Предложите ей чем-нибудь перекусить. Не допускайте их во дворик. И пусть те, кто у ворот, ждут моего знака. Или, клянусь сосцами Юноны, они тоже поплавают.
Загремели, приближаясь, шаги. Марий запер дверь и отпрянул к середине зала. Он о чем-то озабоченно размышлял. Пинкертон подошел к нему. И сказал приглушенно:
— Здесь полно солдатни. Не прикасайся к мечу.
Изумление полыхнуло в глазах Мария. Его тело слегка колыхнулось, словно он получил удар дубиной в грудь.
— Насчет убийства и думать забудь, — с наслаждением предупредил его американец. И поспешил спрятать свою рогатку. Марий не дотронулся до меча и не посмел взглянуть ни на что, кроме лица Пинкертона. И, пока пялился на него, дверь с глухим шумом распахнулась. В зал вступил Цезарь Тиберий.
Император был высоким мужчиной с внушительными плечами и суровым худощавым телом. Двигался он так, как будто у него ныли суставы, почти не размахивая руками и чуть наклонив вперед голову. На его лбу и подбородке гноились россыпи темно-красных прыщей. Шрамы от уже исчезнувшей сыпи пятнали щеки. Он хмуро воззрился на двух посторонних, как если бы у него был полон желудок скорпионов. Мариус поднял руку в приветствии.
— Аве, Цезарь!
Тиберий, пылая гневом, резко заметил:
— Ты опоздал. Это нетерпимо. — Затем пронзительнее.
— А это и есть человек Канута?
Марий украдкой поглядел вбок на Пинкертона. И не без затруднения произнес:
— Это человек, которого ты приказал сюда привести.
Тиберий прорычал:
— Эта цаца, Клеопатра, это царственное чудо в перьях, за которой ты ходишь по пятам днем и ночью, Марий, соблаговолила известить меня не далее, как час назад, что некий тип прибыл с поручением от Канута, или она так утверждает. — Он озирал Пинкертона с мрачным подозрением. — Тьма сладких слов, вне сомнений. Тьма легковесных обещаний, не стоящих отрыжки. Явился болтать да болтать, а заодно шпионить и шпионить.
Пинкертон флегматично произнес:
— Исключительно болтать.
Застигнутый врасплох. Слепой, ошеломленный, ничего не понимающий. Уцепившийся за слова Тиберия. Выжимающий каждое слово в поисках смысла. Тиберий неприветливо изучал его.
— Твой друг Канут дурак, и ты тоже, коли служишь ему.
От гнева лицо Пинкертона напряглось, а в глазах потемнело. Он кротко заметил:
— Канут не друг мне и не хозяин.
Насмешка искривила лицо Тиберия.
— Мне известно о каждом твоем разговоре с ним. Втайне. Мне известно, когда ты отбыл из датских владений. Втайне. Мне известно, когда ты высадился в Новом Риме. Все втайне, но тайны-то никакой.
Римский шпион при датском дворе. Или шпионы. Клеопатра тоже знала.
— Заговоры, — сказал Тиберий. — Лжецы. Красивые слова. — Он желчно осмотрел Пинкертона. — Нынче ночью разговора не будет. Раз пришел без предупреждения, на внимание рассчитывать не приходится. Можешь поприсутствовать на нынешних увеселениях. Возможно, завтра или послезавтра… Время дорого. Стража!
Из тени в глубине выступило четверо вооруженных стражей, безмолвных, точно приход смерти. Ничто не дрогнуло на вышколенном лице Мария. Тиберий распорядился:
— Препроводите этих двоих к Озеру. Они могут полюбоваться зрелищем вместе с остальными гостями. И с Этой Женщиной.
Стражи вывели Пинкертона из зала по коридору во внутренний двор и оставили на краю двора внешнего. После того, как они удалились, Марий мимоходом огляделся. В пределах слышимости — никого. Он пробормотал Пинкертону:
— Значит, Владычица Нила не полностью тебя провела?
Пинкертон ответил:
— Убийство было единственным, что имело смысл. Ей нужен был труп, на который можно все свалить. И нет иных причин, по которым я здесь. Ей не нужен доклад о преступлениях Императора. Да кто бы здесь поверил на слово чужаку?
Марий сдержанно ухмыльнулся.
— Что же, ты оказал мне услугу-другую. Я даже не учуял тех стражей.
— Ты действительно убил бы Тиберия?
Ухмылка угасла. Глаза Мария заблуждали. Он безразлично сказал:
— Не знаю.
Они молча зашагали к полукругу лож. Самоупреки раздирали ум Пинкертона, точно когтистые звери. До чего он был уверен в себе. Так спокоен. Настолько не догадывался, как поверхностно он проник в суть вещей. Среди этих людей с их опытом в искусстве измены неряшливость умственной работы может оказаться роковой. Они его на кусочки разорвут. Он сплюнул, чтобы очистить рот. Он уже умер однажды, и такой смертью, какая выпала немногим. Не хочется снова умереть. Да еще и так скоро.
Они приблизились к озеру. В нескольких метрах от воды на обеденном ложе томно простерлась Клеопатра. Вокруг нее судачили две женщины и с полдюжины мужчин. Она выглядела предельно соскучившейся. Золотой головой убор покоился близ нее на ложе.
Пинкертон спросил:
— Почему Клеопатра сказала Тиберию, что я посланец датчан?
— Кто знает, что на уме у царицы? — Марий пожал плечами и остановился на полушаге. — Здесь мы расстанемся. Вы, посланцы, имеете право сидеть близ владычиц. Простые солдаты терпеливо стоят позади. — Он бесшумно отступил.
Когда Пинкертон приблизился к ложам, Клеопатра взглянула в его сторону, улыбаясь, точно лезвие ножа.
— А, детектив.
— Блистательный посланец, — уточнил он.
Искорка непринужденного веселья пробежала по ее лицу.
— А я и не подозревала, что ты остроумен. — Тем, кто ее окружал, она сказала: — Это так утомительно, но государственные дела постоянно требуют заботы. Я должна поговорить с этим человеком. Вы не будете слишком возражать? Кажется, у воды происходит что-то любопытное.
Этот мягкий намек был понят, и тараторящие гости переместились поближе к озеру. Молодые женщины зажгли скопления свечей, установленные на восьми маленьких плотах. Надето на этих особах явно было очень немного. Клеопатра коснулась соседнего ложа.
— Можешь устроиться здесь. Тиберий явно получил мое послание. Я только что узнала, что он приказал немедленно доставить тебя к нему. Его осведомители наводнили двор Канута. Не объяви я тебя тайным послом, тебя бы зарезали как шпиона.
— Твоя весть вызвала у него раздражение, — сказал сыщик.
— А он вечно чем-то раздражен. Итак, высокий посланец, чем ты отблагодаришь меня за спасение от Тиберия?
Гнев накатил на него без предупреждения и, отхлынув, на время лишил голоса. Он тлеющим взглядом воззрился на воду, где молодые женщины прилаживали поверх пылающих свечек нечто из бамбука и непрозрачных плоскостей. А, фонари, догадался он. Овалы розового, голубого, золотого и зеленого весело засветились на фоне черной воды.
— Ты послала меня на смерть, — проворчал он. — И еще ожидаешь благодарности?
— Я тебя послала. Я тебя спасла. Ты жив моей милостью.
Он сказал:
— У каждого есть друзья или враги. Одно или другое. Кто-то лжет мне, морочит меня. Это враг. Враг. Только одно. Ничего другого. На веки вечные.
Молодые женщины рассмеялись, входя в озерную воду. Развивая шнуры, лежащие на плотах, они тихонько отплыли от берега, толкая перед собой фонари. Мужчины с берега одобрительно закричали.
— Следи за своим голосом, — кротко посоветовала Клеопатра. — Слова далеко разносятся в приозерном воздухе.
— Она с любопытством изучила его острым взглядом из-под арочек подведенных бровей. — Не стоит негодовать, мой бедный детектив, столь суровый и несгибаемый. Ты, разумеется, знаешь, что все союзы — дело временное. Предложено — прими, когда это сулит тебе преимущества. Такова мудрость управления деревнями или империями. И ей научил меня Божественный Юлий.
Чинно выпрямившись, держась от нее на расстоянии, он прорычал:
— Я все меряю иной меркой.
Мужчины расхохотались и завопили вслед плывущим женщинам. Двое или трое бросились в озеро и, плеща, устремились к фонарям.
— Я не насмехаюсь над твоими привычками. Но мы далеки от твоей Америки и всего, что там принято.
— Далеки! Мы все умерли. Куда уж дальше.
— Тогда прими то, что мы — живем. Почему или где — не так уж важно.
Он не ответил ей сразу, а сидел, сердито оглядывая свои квадратные ладони, неподатливая мыслящая колода, перебирающая скверные воспоминания. В воздухе повисли ее благовония. Наконец, он промолвил:
— Я умер отвратительной смертью. От гангрены — гангрены языка. К тому моменту я был полностью парализован. В течение нескольких лет, Боже правый. Когда умираешь подобным образом, ни этот вкус, ни этот запах не оставляют. Даже под наркотиком. Даже во сне. Лежишь и чуешь, как гниешь заживо. Этот запах и ныне у меня во рту.
Еще несколько мужчин кинулось в озеро, чтобы доплыть до фонарей. Другие мужчины и женщины носились вдоль берега, криками подбадривая пловцов. Клеопатра сказала:
— Смерть когда-то была смертью. Но не теперь, и не в этом загадочном месте. Я это наверняка знаю: когда умираешь здесь, опять приходишь в себя в другом месте у Реки. И твое тело возвращается к тебе без единого порока, как бы ты ни умер.
— Но разум остается неизменным, — сказал он. — И помнишь все. Забывать не дозволено. Я помню слишком многое. О неудачах, смерти, о всяческих мерзостях. Невыносимо!
— Мы в Древнем Египте считали, что душа совершает восхождение от жизни к жизни, проходя через бесчисленный цикл и все более очищаясь.
— Мы не в Древнем Египте и не в Америке, — заметил он. — Мы в самой Преисподней.
Она не ответила ему. С озера донесся восторженный женский вопль. Неистово раскачивался ослепительно-зеленый фонарь.
Наконец, он сказал тяжелым голосом:
— То место охранялось нынче ночью.
— Тиберий очень осторожен, — она махнула рукой в сторону озера. — Даже здесь.
Он уже заметил часовых, расставленных с промежутками вдоль берегов. Наблюдая за ее лицом, он сказал:
— Они находились там не для того, чтобы защищать Тиберия от меня. Они должны были защитить его от Мария. Полагаю, он считает, что Марий больше не надежен.
— Таково и мое заключение, — веско изрекла она. — И этим подтвердила, что целью ее записки Тиберию было отвлечь подозрение от Мария на вновь прибывшего. Она добавила: — К нам приближается Тиберий. Ты мне еще что-то собираешься сказать?
Он повернулся к ней, весь в исступлении:
— Зови своих солдат. Спасайся, если можешь. Похоже, нынче ночью он перебьет всех нас.
— Мои солдаты хорошо обучены и верны. Я приняла кое-какие меры. А, Цезарь, наконец-то. Как очаровательно смотрятся фонари на воде.
Тиберий навис над ними с воспаленным и раздраженным лицом. Тяжелый темный плащ окутывал его от шеи до лодыжек.
— Эти молодые дурни погасят все огни, брызгаясь, как сумасшедшие.
Он поднял свою властную руку и взмахнул ею. У водной кромки часовой прикоснулся пламенем к длинному факелу и, засветив его, стал им размахивать, описывая ослепительные дуги.
— Довольно! Довольно! — прокричал Тиберий. — Ты хочешь выжечь нам глаза? — Он простерся на ближайшем ложе. — Как они могут купаться? Воздух словно лед. Этот плащ слишком легок.
Факельщик погрузил пламя в воду. Оно с шипением угасло. Он быстро отступил на берег, бросив острый внимательный взгляд за спину. Наблюдая за происходящим, Пинкертон почувствовал, что воспоминания замерцали в глубине его я, точно блуждающие огоньки.
Клеопатра сказала Тиберию:
— Поскольку ты позабавил меня фонарями, я принесла несколько огненных безделушечек, чтобы развлечь тебя. — И протянула томную руку к трем грубым мешкам, громоздящимся у самой воды.
— Эти вонючие греческие выдумки. От них столько дыму, что и задохнуться недолго. Фу, мерзость.
— Они совершенно особенные, — возразила Клеопатра.
— Их приготовили в твою честь.
А, стража у Реки, — вспомнилось Пинкертону. Они, как безумные, рванули вверх по берегу, едва поглядели на воду. И его словно окатили холодной водой. Резко выпрямившись на ложе, он искоса поглядел на дальний край озера. Под ослепительным небом на воде точно шкура светилось сероватое пятно. Рябь от плещущихся пловцов тревожила поверхность. Больше ничего.
— …такая грязь в стойлах, — говорил Тиберий, — что Геркулес отвел реку, чтобы их очистить. Ты знаешь об этом его подвиге. Здесь содержится глубокая мораль. Божественный Август выл от бешенства, когда моя мамаша, эта ведьма Ливия, лезла к нему, чтобы он все это читал и об этом думал. Я тоже выл. Но она не позволяла мне от них отмахиваться.
Со стороны реки по поверхности озера, удлиняясь, побежали тонкие линии. Пинкертон не мог их ясно разглядеть. Его сердце забилось гулко и жестко. Клеопатра игриво полюбопытствовала:
— И какую мораль, мой император, вынудила тебя извлечь отсюда твоя матушка?
На озерной поверхности возникли новые линии. Они быстро распространялись в длину, образовали сеть, и эта сеть подступала все ближе к фонарям на плотах и визжащим пловцам.
А, вот оно что: Тиберий дал знак своим людям открыть шлюз между озером и Рекой. Рыбы-драконы, коварные ночные охотники, целой стаей входили в озеро.
— Мораль очевидна. Что бы ни надлежало очистить, очищай как следует. Используй все необходимое для этой работы и проделай ее основательно, без слабости и сожаления.
— Будь то конюшни или, если продолжить сравнение, империя?
— Верно, — вскричал Тиберий, перекатившись на ложе, чтобы оказаться к ней лицом. Казалось, он любезен и весел.
— Сметай грязь, врагов, осложнения, все двусмысленное одним решающим ударом. Один раз применить насилие сполна менее отвратительно, чем много раз по капле.
Близ золотого фонаря пловец, лениво барахтавшийся на спине, вдруг исчез в чавкнувшей воде. Пинкертон сорвался с ложа.
— Рыба-Дракон? — проревел он.
— А, да, — с удовлетворением произнес Тиберий. — Похоже, они нынче довольно ленивы.
Поверхность озера возмутилась, закачав легкие плоты с огнями. Кто-то исступленно завопил. Вода вспенилась, и скользкая черная масса высунулась на поверхность, а затем с шумом нырнула обратно. Взбаламученная вода забила по пловцам. Их белые руки замолотили по ней. Розовый фонарь взметнулся в воздух и пропал. Раздавались все новые и новые крики, перекрывавшие тяжелые всплески, признаки того, что в толще воды продвигаются какие-то массивные туши. Длинные тела проскальзывали между пляшущими фонарями и темновато светились под звездами. Они бились и метались. И набрасывались на купающихся.
Двое мужчин мощными гребками устремились к берегу. Один исчез в забурлившей воде, и нечто сомкнулось над ним, точно клыкастая пасть. Второй достиг берега. И как только вылез из воды, часовой кинулся вперед и ударил его тупым концом копья. Купальщик рухнул обратно в озеро, и его увлекло под воду, лишь забили в воздухе бледные ноги. Клеопатра сказала:
— Мой император, я не могу понять страсть римлян к зрелищам с убийствами.
— Это возбуждает, — расплылся в улыбке Тиберий. Он стал похож на кота. — Очищение. Восхищение отвагой. Смотри, смотри…
На дальнем берегу преторианцы позади чащи копий гнали остальных гостей Тиберия к воде. Двое воспротивившихся получили уколы остриями и были оттеснены в толпу. Еще один бросился на кремниевый наконечник. Его тело со всплеском упало меж тех, кого уже загнали в озеро. Они вопили и колотили по воде ногами. И повсюду выныривали Рыбы-Драконы, бившие безжалостно и наверняка. Вопли звучали недолго.
— Так много смертей подряд — одно занудство, — заметила Клеопатра. — Едва ли я могу одобрить твой вкус, Тиберий.
— Не пройтись ли нам по берегу? — спросил он, взмахнув могучей рукой. — Эти рыбы славные убийцы, на них стоит полюбоваться.
— Удовольствие представляется сомнительным. Посиди лучше со мной и порассуждай с присущим тебе очарованием о Риме после Цезаря.
— Я настаиваю на прогулке, — сказал он, и нечто новое возникло у него на лице, исказив его; лицо задрожало, задергалось, поистине ужасно — от уголков рта. Снисходительно тряхнув головой, Клеопатра соскользнула с ложа.
— А, ну что поделаешь… Но доставь мне удовольствие, дозволь гулять с тобой под руку при свете моих хорошеньких огонечков. Я сама их для тебя засвечу. Или я не чту твое величество, Тиберий?
Взяв свечу, она упорхнула к мешкам, выстроенным вдоль края воды. Тиберий обернулся к Пинкертону.
— Присоединяйся. Я не могу пренебречь посланцем восхитительного Канута Датского. — Он с хлопком водрузил мощную руку на плечи детектива, и в этот миг ножны меча, скрытого под плащом, стукнули американца по ногам. — Тебе по вкусу наше скромное развлечение?
— Боже мой! — вскричал Пинкертон. — Убийцы!
— Надо очистить конюшни, — откликнулся Тиберий, показывая большие квадратные зубы.
И тут вспыхнул яркий свет. Он полыхнул по ним, внезапный, как удар, слишком сильный, чтобы его могли вынести их глаза. От изумления у Тиберия отвисла челюсть. С неожиданным проворством он отскочил от Пинкертона, и одна его рука нырнула под плащ. Клеопатра бежала к ним, защищая голову трепещущей тканью. Вокруг нее каскадом бушевали искры. Позади ее стройного тела подрагивали толстые столбы белого и алого пламени.
— Красиво, правда? — вскричала она, едва дыша.
Со стороны виллы раздались смятенные возгласы и тяжкий топот бегущих. Не сбавляя шагу, Клеопатра выхватила длинный нож и полоснула им Тиберия поперек горла. Неглубоко. Император шарахнулся. Взревев, он вырвал из ножен свой короткий меч. Кровь обрызгала его тогу. Клеопатра снова взмахнула ножом. Удар пришелся по его незащищенному запястью; он отшатнулся, спотыкаясь. Просвистел его меч. Пинкертон сделал шаг вперед и пальнул в голову императора из рогатки. Он промазал, но все-таки его снаряд ударил Тиберия в плечо у самой шеи. Тиберий закачался и едва не выронил меч. Клеопатра бросилась на него с безмятежным лицом и громадными, в черных обводках туши, глазищами. Изящным движением она всадила нож в шею Тиберия сбоку. Безумный вой вырвался изо рта императора. Лезвие, вспоров ему шею слева, нанесло рану, кровавую, но не смертельную. Он рубанул Клеопатру, промахнулся, взял под козырек, защищая глаза от бешеного света. Она метнулась прочь к самому краю озера. Пинкертон дважды пальнул из рогатки в висок императору. Тот ринулся вперед, с неимоверными усилиями держась прямо. Упал на одно колено. Оперся на руку.
Со стороны виллы послышался смятенный рев, крики и резкий звон клинков. Пинкертон увидел толпу солдат, бившихся между собой. Эти вспышки, подумал он, все еще занятый поисками решений, — эти вспышки послужили знаком для людей Клеопатры, которые теперь завязали бой с преторианцами. Его взгляд вновь сосредоточился. К его ужасу, он увидел, что император через силу поднимается. Клеопатра стояла у самой воды, как статуя. И держась за левую руку кистью правой. Сквозь пальцы струилась кровь. Позади нее в неспокойной воде шуршало нечто длинное и черное. Увидев это, Пинкертон нечленораздельно завопил и опять нацелился в голову Тиберия из рогатки. Ничего не произошло. А затем — без всякого соприкосновения, без всякого удара, от которого задрожала бы рука, его оружие раскололось по всей длине. Песок высыпался. Все распалось на кусочки. В пальцах осталось только несколько обмякших клочьев.
Тиберий всадил меч в тело Клеопатры. Она упала набок, ухватившись руками за клинок. Тиберий вырвал меч и упал на колени рядом с ней. И принялся рубить ее яростными ударами, вкладывая в каждый всю силу от плеча. И крякал, словно дрова колол.
Пинкертон побежал вперед. Сомкнул пальцы под императорским подбородком и запрокинул ему голову назад. С мгновение он смотрел сверху в это жуткое, искаженное, окровавленное лицо. А затем сломал Тиберию шею. Немного погодя высвободил бьющееся в конвульсиях тело. Оно лежало, подергиваясь и смердя поверх неподвижной белой массы, которая недавно была Клеопатрой.
Пинкертон зарыдал пересохшим ртом и заставил себя выпрямиться. И можно было подумать, это движение призвало дьявола. Водная поверхность взорвалась у края. Жуткая громадина вздыбилась над водой, блестящая черная башня. Пена брызнула сыщику на лицо. Сквозь пену угадывался нечеткий образ белой, как яйцо, пасти с острыми клыками, устремившейся к нему. В следующий миг он катался и вопил, лягая влажные камни. Поблизости тяжело шлепнулось здоровенное тело, заслонив освещенный двор виллы. В слепом ужасе он пополз прочь. Что-то обхватило его. Он повалился, яростно лягаясь, убежденный, что его настигла все-таки Рыба-Дракон. Но нет, на него навалился какой-то тяжелый человек. Он сопротивлялся.
— Да прекрати ты, — прокричали ему. — Все в порядке.
И перед его взглядом возникло искаженное лицо Мария.
Пинкертон выдохнул:
— Клеопатра, — и попытался вскочить на ноги. Он тут же едва не рухнул снова. Повиснув на шее у Мария, он вприпрыжку засеменил к озеру. Остановился.
На каменных плитах вперед лежал лишь короткий меч. Тел не осталось. За краем дворика что-то толстое шарило в воде.
— Я не мог прийти вовремя, — объяснил Марий, медленно и неестественным голосом. — Бился с преторианцами. Со своими. Не успел прорубиться.
К ним бежали люди. Обернувшись, они оказались лицом к острым кремниевым наконечникам полудюжины копий. Лица позади древков оцепенели от возбуждения.
Ноги у Пинкертона сделались как ватные. Он почувствовал, что не в состоянии думать. Вновь сплюнув гниль изо рта, он проорал этим рожам:
— Император мертв. Вы ничего не можете изменить.
У них у всех потемнели глаза. Линия копий зашаталась и расстроилась. Пинкертон спросил:
— Чьи вы люди?
— Стражи Клеопатры, господин. Мы явились на световой сигнал, как было приказано. Мы сразу пришли.
Пинкертон произнес:
— Клеопатра мертва. Они оба мертвы. Их уволокла Рыба-Дракон. Любимчики императора вышли из воды и пожрали своего хозяина.
Марий шагнул вперед рядом с Пинкертоном. Поддерживая американца одной рукой, он прогудел:
— Вы знаете меня, центуриона Мария Домиция, начальника стражи Клеопатры. Все эти месяцы мы защищали ее. И вы, и я. Нынче ночью мы не смогли ее защитить. Ни против Тиберия, ни против его рыбок. Что же, для вас в этом нет позора. Никто не мог бы такое предотвратить. И помните: сегодня ночью вы крепко высекли тибериевых мальчишек. Вы и я, щит к щиту. Вы можете этим гордиться. А теперь надо пойти рассказать обо всем остальным. Мы потеряли императора. И поступим, как принято у солдат в таком скорбном случае: изберем своего императора, и пусть гражданские нас одобрят. Выборы состоятся завтра. Все понятно?
Он хмуро, но с теплотой воззрился на них, и Пинкертон ощутил, как жутко и твердо взыграли мускулы в могучем теле верзилы.
— И давайте вести себя дисциплинированно. Как вы держите оружие? Оно вихляет, точно бедра храмовых шлюх. Пилумы оземь!
Тупые концы древков сухо стукнули о каменные плиты.
— Артелий, отведи их на виллу и там распусти.
Они наблюдали, как солдаты шагают прочь. Когда те были за пределами слышимости, плечи Мария обмякли. Страдание прорвалось в его взгляд. Он жалобно сказал Пинкертону:
— Я любил ее, может, ты это знал, может и нет. Я римлянин, я верен моему императору, и все-таки я любил ее. Ты бы мог примирить одно с другим?
Пинкертон покачал головой.
— Вот и я не мог, — вздохнул Марий. И медленно двинулся прочь. Его шаги застучали через каменный дворик.
Ну вот, — подумал сыщик. — Было у меня два провала, стало три. Голова у него ныла от позора и презрения к себе. Три, чтобы размышлять о них каждые сутки днем и ночью. Три. И невозможно умереть. И невозможно очиститься.
— Я в самом брюхе преисподней, — прошептал он.
Он нетвердо зашагал к краю дворика. Не обращая внимание на темную воду, он наклонился и поднял меч, валявшийся в луже крови. Снял с заточенного края пучок темных волос, крепко пахнущий сандалом.
— Любовь, — сказал он. — Господи, меня тоже настигла любовь?
Он отшвырнул меч. Задержал ненадолго в руке душистые волосы, потер их меж пальцами. А затем бросил в озеро — со всего размаху, точно что-то смертельно опасное. После чего повернулся и зашагал в сторону виллы.

