Книга: Имя Зверя. Ересиарх. История жизни Франсуа Вийона, или Деяния поэта и убийцы
Назад: 4. Danse Macabre
Дальше: Примечания
Море и монастырь
Сир, вечный уготовь ему покой,
Пусть свет над ним вовек пребудет ясный,
Он и петрушки не жевал, несчастный,
И даже миски не имел простой.
Безбровый, лысый, с бритой бородой,
Был к репе чищеной лицом причастный,—
Сир, вечный уготовь ему покой.Франсуа Вийон. Версет. Рондо
1. Секста
Монастырь был велик, словно гора, с которой Иисус призывал верных к молитве, черен, будто капюшон кающегося монаха – и горделив и раскидист, как налитый салом загривок сельского настоятеля. Укрепленный, будто цитадель, посажен он был на вершине, над скалистыми клифами Бретани, что тысячами растрескавшихся гранитных плит, разбитых волнами, надщербленных зубами времени, выглаженных ветром спадали к голубому морю.
Худой покорный монах в рваной сутане бенедиктинца, который с трудом вел наверх нагруженного сумками мула, постучал в ворота монастыря. С удивлением поднял голову, поскольку издали те выглядели торжественно, как триумфальная арка Цезаря, вблизи же оказались на удивление слабы. Из щелей в оковке сыпалась пыль, железные головки гвоздей были ржавыми, словно старый якорь, поднятый с морского дна.
– Во имя Отца и Сына, отворяйте, братья! – крикнул он хриплым фальцетом. – Это я, Франсуа из Нарбонны, слуга его преосвященства епископа, явился к его преподобию брату аббату. Се стою у двери и стучу! Отворите, прошу вас, милые ягнятки, не вводите меня в дьявольское искушение, а не то…
– Хватит, брате, – рявкнул чей-то голос. Сверху, между щербатых бланков стены, выглянуло пожелтевшее лицо. Как видно, смотрины закончились успешно, поскольку бенедиктинец исчез, а через время столь долгое, что за него можно было проговорить и пять «отченашей», вволю зевая после каждой фразы, за стеной раздался стук отворяемых засовов, и ворота раскрылись, открывая узкий проход на подворье.
– Приветствую вас, братья, – новоприбывший склонился униженно. – Прибыл я сюда с миссией. От его преосвященства епископа.
– Это ты уже говорил, – привратник монастыря бенедиктинцев Мон-Сен-Морис был стариком с бледными глазами. – Есть ли у вас при себе какие письма? Слишком много нынче волочится по бретонским дорогам шельм, чтобы я приводил к нашему аббату всякого приблуду, который отыщет в навозной куче рясу нашего собрата.
Брат Франсуа сделал короткий решительный жест, проведя мизинцем от одной брови к другой. Это на бенедиктинском языке знаков означало: «Слава Святейшей Деве Марии».
А потом достал из-за пазухи бумажный свиток и подал его привратнику.
Одаренный им, тот даже не попытался прочесть бумагу. Только глянул на епископскую печать, оттиснутую на толстом, в палец, куске воска, и поспешно отдал ее брату Франсуа, будто письмо обжигало как раскаленные уголья.
– Приветствую на наших скромных порогах, брате.
Врата распахнулись шире, поскольку письмо его преосвященства Гийома де Малеструа открывало врата любого монастыря или собора скорее, чем английские орудия или тараны. И что интересно, рекомендательное письмо было столь же истинно, как и девичество Орлеанской девы, а к тому же – и вправду вышло оно из-под руки скрибы в епископском скриптории. И кажется, только благодаря его силе брат Франсуа сумел перетянуть упрямого мула через монастырский порог.
Внутри монастырь выглядел еще солидней. Сама церковь была возведена из бурого местного камня, а в точке схождения трансепта и нефа венчалась высокой трехэтажной, восьмигранной башней. Дормиторий и бесформенная глыба капитулярия, таращившая на чужака огромные двойные бифории, имели контрфорсы столь мощные, что, казалось, они могли бы пережить не только новое падение Римской империи, но и закат династии Валуа, новую высадку английских дьяволов по эту сторону Канала и приход всадников Апокалипсиса.
Привратник указал брату Франсуа на деревянную конюшню, помог провести туда упрямого мула. А потом повел его в дормиторий по трем каменным лестницам, через широкие двери, скрытые в глубине лестничного проема, из которого взирала на них фигура святого Маврикия, патрона горы и размещающегося на ней монастырского хозяйства.
Франсуа удивился, что они не направились прямиком в дом аббата, но протестовать не стал. Быстро пересек прихожую, что прорезала поперек глыбу строения, а когда пришлец уже полагал, что вот-вот окажется в виридарии, его проводник стукнул в низкую дверку, вошел, подавая монаху знак, чтобы тот подождал, а потом, побыв минутку внутри, снова вынырнул под дневной свет.
– Его преподобие Яков де Монтей, наш новый аббат, приглашает тебя.
Франсуа набожно поклонился и вошел внутрь. Полагал, что окажется в капитулярии или в скриптории, где аббат уделит ему толику времени, выкроив его среди множества трудов, всякий из которых посвящен был набожной работе над Opus Dei. Тем временем в нос ему ударил смрад гнилого дерева, сам же он, как ни странно, оказался в небольшом тесном зале, напоминавшем – к оскорблению Господнему – преддверие парижского борделя. Стояла тут tabula plicata, лавка, стеллаж с несколькими порченными временем книжками, жбан, ведро для нечистот, а еще серая, источенная древоточцами постель под балдахином.
Погодите-ка… Что-то тут было не так. Аббат столь богатого монастыря, как Мон-Сен-Морис, не мог обитать в эдакой норе. Разве что был исключительно набожным и честным аббатом и отдал свой дом под приют для, например, раскаявшихся шлюх. Что – говоря искренне, и Боже избавь от наветов, коими лгут на церковь, – среди аббатов Бретани было делом столь же редким, как и находка жемчужины в городском шале.
– Стало быть, ты прибыл из Нанта? От епископа Гийома, брат? – аббат был молодым монахом с мягкими чертами лица, заставляющими вспомнить скорее лицо Святейшей Девы Марии, чем обросшую морду попа, уже долгие годы сидящего на жирном куске десятин. – Наконец-то! – произнес он с облегчением в голосе. – И что же пожелал молвить его преосвященство о нашем несчастном деле?
Франсуа поклонился, перекрестившись, и подал аббату письмо. Яков де Монтей молча принял его, развернул, приблизил к свече и пробежал глазами строки, написанные ровным, размашистым почерком епископского скрибы.
А потом нахмурился и смял бумагу.
– Молитвы за наши души и за души наших умерших братьев, наших основателей и всех монахов, какие со времен Людовика Святого славили Господа в наших стенах, – сказал он с горечью. – Молитвы во всех церквях города, каждый четверг, начиная с Несения Креста и заканчивая кануном святого Луки Евангелиста. Не имея ничего против благонамеренных интенций Его Преосвященства, это, боюсь, мало изменит нашу отчаянную ситуацию. Слишком большие мы грешники, чтобы наши молитвы и слова могли двигать скалы и камни, сброшенные на нас справедливым гневом Господа! Нам нужна иная помощь! Люди, каменщики! А возможно, и просто чудо Господне!
Франсуа склонился еще ниже.
– Со всех сторон одолевают нас страдания, но мы не поддаемся сомнениям; терпим потери, но не отчаиваемся; сносим преследования, но не чувствуем себя осиротевшими; валят нас на землю, но не гибнем мы, – булькал он тише горного ручейка. – Согласно приказаниям Его Преосвященства, я должен списать из ваших кодексов и свитков имена всех ваших мертвецов, чтоб братья смогли поминать их в церквях в соответствующее время и пору, во время молитв…
– Да к черту молитвы! – рявкнул аббат, тем самым продемонстрировав набожность, достойную наемного солдафона, и сильнее смял лист в руке. – Мы надеялись на что-то большее от его преосвященства, чем произнесение скольких-то там здравиц по нашему поводу. Взгляни, брате, глазами и узри волю Господню! В любой миг наш монастырь может перестать существовать, а Господь награждает нас не за добрые намерения, которыми вымощен путь в ад, но за горячую веру и решительные поступки! Пойдем, – сказал, хватая брата Франсуа за левую руку. Пальцы его впились в тело монаха, словно костистая лапа смерти, той, которая если уж сцапает, то уже не выпускает…
Они вместе прошли в прихожую. А потом в монастырский виридарий. Франсуа склонил голову; когда же поднял ее, протер глаза правой, свободной рукой, поскольку левый бицепс аббат продолжал сжимать хваткой, сравнимой с клещами палача.
– Смотри, – прохрипел Яков де Монтей, – что осталось от нашего монастыря.
Франсуа смотрел. Глядел на истину, которая открылась пред ним, словно тело старой сводни, что, сбросив разноцветное платье, выставляет кожу, покрутую язвами, обтягивающую старые кости. Понял, что сила аббатства Мон-Сен-Морис была лишь фасадом, не более настоящим, чем деревянные декорации, возведенные для масленичной комедии на ярмарочной площади.
Монастырь сползал в море. Валился камень за камнем, кирпич за кирпичом, колонна за колонной, поглощаемый жадной стихией, подмывавшей каменный клиф, атакующей валуны и пики, отнимающей все новые стены и галереи. Так гордо выглядевший снаружи, внутри виридарий был настоящей развалиной. Вместо северного крыла виднелся свежий скол обрыва, а треснувшие колонны и капители, меж которых по залу когда-то прохаживались монахи, сейчас лежали уже в царстве Нептуна. Боковые галереи растрескались, приходя в упадок. Северное плечо трансепта церкви рухнуло, открыв внутренности нефа, растрескавшиеся и уничтоженные надгробия монахов или, быть может, основателей и дарителей Мон-Сен-Морис. Схожим образом разрушен был и рефекторий – лишь по накренившейся трубе, что возвышалась над останками пола у единственной уцелевшей стены, можно было узнать, что некогда именно тут подкреплялись в часы, свободные от работ и молитв. Шум волн шел почти из-под ног аббата и Франсуа; крики чаек стали резкими, настырными, словно предвещая дальнейшее победное наступление океана и окончательную погибель монастыря.
– Море обезумело! – крикнул аббат. – Господи, благодарим Тебя за то, что испытываешь нас, но чем же провинились пред Тобою старые стены Мон-Сен-Морис?! С тех пор как умер прошлый аббат, святой памяти Бенедикт Гиссо – то есть вот уже два года, – проклятая стихия беспрестанно угрожает нам. Не проходит и дня, чтобы не упала стена, не бывает ночи, чтобы не свалился контрфорс. Мы словно потерпевшие кораблекрушение на остатках лодки – то и дело отступаем в новые комнаты, унося жалкие остатки добра, которые у нас еще есть. Где же слава этого аббатства?! И в час тот наступило великое сотрясение земли и рухнула десятая часть города, говорит святой Иоанн. Прав был аббат Гиссо, приказав похоронить себя в южной части крипты и в южном трансепте установить свое надгробие. Он хотел быть подальше от проклятой стихии.
Аббат замолчал. А море шумело все гневливей. Дул мокрый ветер, обдавая их влагой и холодом.
– Под крестом поклади мой посох купно с власяницей, – сказал наконец аббат. – Я не был монахом этого монастыря. Назначили меня аббатом и прислали из Иль-де-Франс в эти далекие места для того лишь, похоже, чтобы сделался я свидетелем, как власть моя падет, словно башня, источенная стремниной времени. Прости, брате, мою выспренность, но что же мне делать, когда его преподобие отказывает нам в помощи, предлагая лишь духовное утешение, которого мы, простые грешники, недостойны.
– Ora et labora, – коротко произнес Франсуа. – Ждите, и дано вам будет. Его Преосвященство прислал меня, чтобы я выписал имена ваших умерших монахов и монастырских патронов, а потому позвольте же мне поскорее приступить к делу. Может, дьявол, скрытый в морских волнах, перестанет сеять разрушения, когда услышит звон колоколов, бьющих в церкви Святого Креста? Когда раздастся хор из собора, хотя еще не законченного, но уже возносящего хвалу Господу? Дьявольские голоса не поднимаются к небесам, так, может, Господь услышит наши молитвы и отвратит несчастья?
– Делай, что хочешь, – пробормотал аббат. – Ступай в скрипторий и пиши. А если выяснишь, что может быть причиной нашего несчастья, – дай мне знать.
– Покорно благодарю, ваше преподобие.
2. Нона
Ветер, долетающий с бесконечных морских просторов, выл, будто дьявол, отгоняемый святой водой от врат рая, протискивался меж каменными колоннами и стенами аббатства. В бессильном гневе он подхватывал сухую листву в виридарии, метался меж каменных стен и зловеще постукивал старыми ставнями, в то время как Франсуа засел в скриптории над фолиантами, кодексами и манускриптами, в которых должен был прочесть историю аббатства и выписать имена монахов, вереницей черных призраков проходящих над порогами Мон-Сен-Морис. Брат сбросил капюшон, открывая все еще довольно молодое, худощавое и испещренное шрамами лицо, а также выбритую на голове тонзуру, которая не одного вора, шельму и преступника вытянула из деревянных объятий виселицы, перенося под куда более милостивую юрисдикцию епископского суда. И превращая вечное и неуверенное раскачивание между небом и землей в безопасное пребывание во глубине монастырских стен.
Вийон улыбнулся, просматривая свитки умерших, надгробные эпитафии и вздохи. В противоположность аббату Якову де Монтею и его набожным монахам, он прекрасно понимал, что задание, представленное в письме епископа, было лишь поводом, чтобы он сумел добраться до монастырских фолиантов. Истинная миссия брата Франсуа таилась куда глубже. К тому же у нее были имя и фамилия.
Гаспар де Бриквель.
Монах из Мон-Сен-Морис, носящий орденское имя Фаустин, интересовал Вийона по причинам столь же важным, сколь и неинтересным ему лично. Любовь? Быть может. Невозвращенные долги? Это тоже могло оказаться правдой. Епископский ублюдок? Брат Франсуа не исключал и такой возможности. Как бы там ни было, причина епископского интереса была для него важна не более чем столетний покойник. Двести золотых эскудо за то, чтобы отыскать в монастыре место его захоронения. И еще сто – за похищение и доставку в Нант его останков, поскольку человек, который был истинной целью паломничества Вийона, вот уже два года как мертв. По крайней мере, так утверждал его преосвященство Гийом де Малеструа в приватной доверительной беседе с известнейшим вором среди поэтов. Вийон знал латынь. Вийон знал молитвы. Вийон был бакалавром свободных искусств. И кто, как не разбойник, шельма и висельник, убегающий от закона, мог лучше прочих изобразить монаха и раствориться в черной толпе бенедиктинских ряс? Поэтому выбор епископа был совершенно очевиден, и брат Франсуа делал теперь все, чтобы случайно не подвести его преосвященство.
Увы, пока что нигде в кодексах, списках или свитках умерших Вийон не находил ни имени Фаустина, ни – что логично – никаких упоминаний о нем.
Сто возов траханых дьяволиц! Как так могло получиться? Неужели епископ ошибался? А может, Гаспар де Бриквель на самом деле взял другое имя?
Он машинально выписывал на бумажный листок имена очередных монахов, которые были, жили и умерли, не оставив после себя ни малейшего следа, кроме короткой молитвы за умершего и забытого черепа, лежащего где-то под хорами, в оссуарии. Вскоре эта работа ему надоела. Он сразу отбросил идею выписывать имена простых работников, которых направляли на труды в поле и саду, обитавших отдельно в дормитории, давно уже поглощенном морем. Поэтому он сконцентрировался на поисках монахов, которые, несомненно, относились к первому хору.
Но нигде, совершенно нигде не мог он обнаружить Фаустина.
Он как раз просматривал изукрашенный кодекс времен короля Иоанна, прозванного Добрым, – пожалуй, прозванным так лишь несколькими жополизами при дворе Его Королевского Величества, поскольку, как знал Вийон, во времена правления этого короля с королевством Франция не случилось ничего доброго, даже напротив: пэры, графы и герцоги одинаково получали английской плеткой по жопе, подобно жакам, на ложе наказаний, – и тут глухой звук колокола вызвал его на вечерню.
– Брат Реньяр, – сказал он, опустив глаза в притворной покорности, – могу ли я оставить все здесь, пока не вернусь? – он указал на разложенные на столе бумаги, чернильницы, пучок гусиных перьев и монастырские кодексы.
Библиотекарь аббатства Мон-Сен-Морис нисколько не походил на сухого старикана с близорукими глазами и согбенной от многолетнего сидения над книгами спиной. Был это черствый, рослый, старый человечина, казавшийся крестьянином, которого монастырское призвание оторвало от плуга. В нем не было заметно ни следа усталости, хотя с утра он переписывал кодекс толщиной в пол-локтя. На самом деле это как раз Вийон, после того как переписал малую толику имен монахов, мог бы сказать, подобно некоему монаху из Фландрии, чьи комментарии сохранились в книгах Наваррского коллежа: «Не знаете вы, что значит писать! Это мучительный труд!»
– Пускай остается! – сказал, соглашаясь, библиотекарь. Во время работы он почти не обращался к Вийону, и поэта это совершенно устраивало. По крайней мере, некоторое время он мог побыть наедине со своими мыслями.
Он быстро покинул скрипторий и направился к разрушенному виридарию. Колокол зазвенел снова – наверняка, чтобы подогнать тех, кто еще не добрался до церкви, а может, и чтобы разбудить немногочисленных спящих, впавших в полуденную дрему.
Вскоре Вийон смешался с толпой старых бенедиктинцев, бредущих на вечерню по протоптанным дорожкам и аллейкам виридария. Склонил голову пред порталом Святейшей Девы Марии и перекрестился, переступая порог храма. Внутри было темно, лучи клонящегося к горизонту светила врывались сквозь разрушенное северное крыло трансепта, ложились пятнами на белые надгробия приоров и аббатов и наверняка прочих доброжелателей монастыря.
Монахи выходили из арок и галерей. Вставали с четками в руках под колоннами, поддерживающими исчезающий во тьме свод. Глядя на их лица, поэт с удивлением отметил, что были тут одни старики или люди в силе возраста, причем сила эта давно перешла из плеч и лядвий в округлые животы, толстые подбородки, синие мешки под глазами и морщины, глубокие, словно борозды, оставляемые плугом в высохшей почве. Вийон осматривал всех украдкой со своего места в самом темном углу бокового нефа, но не заметил ни одного новичка или постуланта – буквально ни одного молодого лица, кроме сурового лица аббата, который, казалось, был его, Вийона, ровесником. Монастырские стены были столь же стары, как и люди, в них обитавшие. Стары и годами, и умом.
– Господь Вечный, помоги мне в делах моих, – начал вечерню Яков де Монтей звучным, раскатистым голосом. Монахи крестились в молчании, а потом по всему монастырю разошлись их покашливание и шепот:
– Господи, поспеши ко спасению моему.
Ветер с моря завыл громче, до Вийона донесся шум гигантских волн, разбивающихся о скалы в сотне футов внизу под обрывом скалы, на вершине которой стоял монастырь.
– Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Ныне и присно, и во веки веков…
Море становилось все более грозным, словно любая фраза, произнесенная бенедиктинцами, сильнее злила дьявола, скрытого в морских волнах.
– Аминь.
Что-то заскрипело, затрещало под фундаментом церкви. Порыв влажного морского ветра прошелестел по просторному нефу, в котором некогда, во времена славы аббатства, могли поместиться сотни монахов и их слуг. Нынче же было их едва ли две дюжины – жалкие остатки огромной толпы бенедиктинцев, обитавших в скриптории, складах, библиотеке, дормитории и рефектории Мон-Сен-Морис.
Аббат начал гимн.
И тогда раздался треск. Глухой гром ударил в уши, разнесся эхом по огромному нефу. Вийон увидел, как рушатся стены северного трансепта, как по огромным стенам здания идут трещины и щели, а стеклянные витражи превращаются в дождь разноцветных осколков. Ненасытное море снова отхватило кусок аббатства. Среди монахов раздались ропот и крики.
– На стены, братья! – крикнул аббат.
– Ad libros! Ad libros, агнцы! – гремел библиотекарь.
Бенедиктинцы кинулись к дверям, ведущим в северный трансепт, помчались по склону горы, чтобы подпереть падающие стены жердями. Кто-то кричал о растворе, другой – о подпорных камнях, и за считаные мгновения церковь опустела… Почти опустела, так как Вийон, укрытый в тени мощной колонны, даже не пошевелился. Осторожно вышел из укрытия и осмотрелся. Глядел на вереницу барельефов, представляющих архангелов, кланялся фигурам святых. Шел и осматривался, стараясь ничего не пропустить.
Пока наконец не добрался до хоров. Слева был обрыв скалы, остатки стен трансепта, треснувшие, кривые, повисшие над пропастью, над бьющимися внизу волнами. Справа виднелось длинное крыло здания, освещенное солнцем, которое все сильнее уходило к синей бездне моря, покрытого белыми барашками волн.
Вийон повернул туда, куда вели его солнечные лучи. Миновал надгробия основателей монастыря – Жане де Петервиля и его супруги. Прошел мимо каменных стел на могилах аббатов, монахов и приоров, ища место упокоения предыдущего аббата, который приказал похоронить себя как можно дальше от морской стихии, о чем Вийон узнал в разговоре с Яковом де Монтеем.
Бенедикт Гиссо!
Это имя и фамилия привлекли его взгляд, словно толстый кошель, висящий на поясе глупца, погруженного в пьяную дрему в городской канаве.
Надгробье предыдущего аббата было скромным, грубо вытесанным из песчаника, украшенным выступами по углам, как на могилах первых христиан. Стенки его покрывали инскрипции и надписи, глубоко вырезанные в мягком камне.
Вийон присел и задумался, почему аббат так сильно опасался морской воды, что приказал похоронить себя подальше от моря? Все же в годы его правления море не сделалось еще дикой яростной бездной, не уничтожало аббатство, а волны, пенистые, словно фламандское пиво, спокойно бились о камни ниже монастыря. Поэт очень хорошо помнил, как Яков де Монтей сказал, что все несчастья начались только после смерти старого аббата. Выходит, Гиссо был с этим как-то связан?
Он проводил пальцами по инскрипциям – обычным пожеланиям всего хорошего умершему от старости аббату. И вдруг замер. Надпись, вырезанная почти у основания плиты, гласила:
«Boni Faustini Memoriae».
Вийон улыбнулся широко и так лучезарно, что могло показаться: еще миг – и южное крыло трансепта осияет свет столь яркий, будто сошел туда архангел с пылающим мечом.
– Значит, ты все же существовал, Фаустин… – прошептал Вийон. – Я тебя нашел!
3. Некоторое время по вечерне
– Закончил ли ты, брат? – нетерпеливо спросил Яков де Монтей. – Еще два-три дня, и будешь писать на дне моря, потому что скрипторий провалится в бездну.
– Я трудился в поте лица своего, – сказал брат Франсуа, покорно склоняя чело пред Яковом де Монтеем. – Но прежде чем я двинусь назад в Нант отвезти его преосвященству епископу списки ваших монахов, хотел бы задать вам еще один вопрос.
– Всякий вопрошающий находит ответ, – проворчал аббат. – Потому спрашивай, брат, и не ошибешься, поскольку ответ будет тебе дан.
– Все ли монахи, что славили Господа в этих стенах, были записаны в монастырские кодексы и свитки умерших? Это очень важно, поскольку, как я уже вспоминал, Его Преосвященство не хочет обойти в своих молитвах ни одного из орденских братьев. А ошибка в поминовении может привести к тому, что его молитвы не будут иметь для вашего монастыря никаких последствий.
Аббат нахмурился. Вийон украдкой присматривался к его лицу, выискивая признаки гнева или беспокойства. Но ничего такого не приметил. Аббат был всего лишь бледным и уставшим.
– И отчего же кого-то из них может тут не хватать? – спросил он. – Тут должны быть все наши братья. Если перед смертью они не ушли из монастыря или не перебрались в другой.
– Тогда почему, преподобный, – Вийон рискнул задать очередной вопрос, – нет среди них некоего Фаустина? Его имя вырезано на надгробии преподобного аббата Гиссо. «Доброму Фаустину», – написал неизвестный каменщик, что позволяет думать, что старый аббат питал к оному монаху большое доверие…
– Фаустин? – ни один мускул не дрогнул на лице аббата. – Я не слышал ни о каком Фаустине. Поэтому не знаю ничего, что может быть тебе полезным. Но, если помнишь, я тут недавно и не знаю, что происходило в годы правления моего предшественника. Может, этот таинственный Фаустин, о котором ты спрашиваешь, оказался черной овцой в нашей отаре, недостойной упоминания после смерти?
– Но разве не удивляет вас, – Вийон теперь рисковал куда больше, чем во время азартной игры в карты, – что некто столь дорогой вашему предшественнику, что имя его оказалось на надгробии оного, был совершенно обойден памятью в книгах вашего аббатства? А если это как-то связано с несчастьем, которое свалилось на вас, словно глас трубы Судного дня?
– Если оный Фаустин и правда умер в нашем аббатстве, тогда он похоронен в нашей крипте. В церкви нет оссуария, потому что тела в здешних скалах разлагаются медленно. Монахов складывают в гробы с таблицами, на которых выписаны их имена в ордене и место в монастыре. Тела их ты найдешь в проходе под хорами и в часовне, куда ведет второй коридор.
– Я могу проверить, нет ли среди них Фаустина? Ваше преподобие дает на это согласие?
– Конечно, – аббат махнул рукою, словно гоня надоедливую муху. – Расспроси других монахов, брат. Быть может, кто-то из них поможет тебе раскрыть эту загадку.
Вийон кивнул, не упомянув, что никто из опрошенных им ничего не смог сказать о том, что его интересовало. Все, конечно же, униженно кивали. Увы, как правило, не в ту сторону, где лежало объяснение тайны.
– Спасибо, брат.
Он уже был подле дверей, когда остановил его тихий, меланхолический голос аббата.
– Брат Франсуа…
– Да, ваше преподобие?
– Если ты случайно откроешь нечто… что наведет тебя на след, откуда взялось наше несчастье… Приди и скажи об этом мне. Прошу… Очень прошу.
4. Цена
Крипта, лежавшая под хорами и трансептом церкви Святого Маврикия, была чуть ли не самой старой частью аббатства. Покрытый паутиной и плесенью, по щиколотку – а порой и по колено – в воде, Вийон, сгорбившись, продвигался вперед, обходя распадающиеся гробы, спотыкаясь о черепа и присвечивая себе коптящим факелом.
Со всех сторон его окружали простые четырехугольные гробы, грубо тесанный камень, пожелтевшие черепа и берцовые кости, обтянутые высохшей, желтоватой, словно пергамент, кожей. А единственными точками для ориентира оставались очередные гробы, ниши, колонны и подземные молельни.
Мокрый и злой, он медленно шел вперед, порой нащупывая дорогу руками, иной раз отбрасывая ногой расколотые гробы, выпавшие из стенных ниш, – останки их хозяев разбросаны были по каменному полу. Вскоре он убедился, что в хорошем состоянии пребывают лишь недавно захороненные домовины. Гробы времен минувших просто гнили и рассыпались, а на поверх их обломков ставили новые. Порой он натыкался на ниши, наполненные костями и останками, – как видно, аккуратные бенедиктинцы время от времени упорядочивали кладбище, собирая с пола кости постарше.
Он читал медные, позеленевшие таблички на крышках. Не все были различимы – по некоторым он водил пальцами, как слепец, пытаясь прочесть вырезанные в мягком металле буквы. Увы, ни одна из надписей не складывалась в имя Фаустина.
Прошло немало минут, часов, а может, и дней – потому что время в крипте, казалось, текло, как кровь из разбитого носа шлюхи, – пока он наконец не присел на одном из гробов, сердитый и замерзший. Обошел все проходы, молельни и два малых зала, полные разбросанных, тонущих в воде костей меж прогнившими, разваливающимися гробами, небрежно поставленными один на другом. Он не только нигде не нашел следов таинственного любимца аббата, но и так и не понял ни цели, ни смысла этого поручения. Существовал ли Фаустин на самом деле? Отчего епископу так необходимы были его останки? Пока что это были загадки без ответа.
Откуда в катакомбах взялась вода? Это было интересно, так как вода доходила ему до щиколоток и выше, однако окрестности не выглядели болотистыми. Он машинально сунул в воду пальцы и осторожно лизнул. Почувствовал соленый вкус. Морская вода в крипте? Но ведь катакомбы лежали намного выше уровня моря!
Интересно, откуда она подтекала? Сверху? Через одну из могил? А может, из места, которого он пока не нашел?
Он вслушивался в тишину и вскоре услышал легкий плеск, доносящийся из-за прямоугольного саркофага. Пошел туда, подсвечивая себе факелом и внимательно вглядываясь в щели в стене.
И вскоре встал перед низкими, окованными дверьми, ведущими в дальнюю часть подземелья. Казалось, их старательно врезали в стену. Но сквозь щели просачивались струйки морской воды.
Дернул за ручку, но безрезультатно. Любопытно, что на двери не было ржавчины: казалось, еще несколько дней назад крипта была не залита. А поскольку Вийон так и не справился с дверью путем уговоров, то сунул факел в щель в стене, а потом добыл из сумы Царя Давида и атаковал замок коварством. Ему даже не пришлось напрягаться. Достаточно было сконцентрироваться на минуту, и замок уступил, послушный, словно девица.
Полный нетерпения, он ухватился за ручку, потянул – и тогда дверь отскочила с такой силой, словно изнутри ударил в нее осадный таран. Из темноты хлынула вода, неся на своем хребте водоросли и снулую рыбу. Поэт отлетел назад, рухнул на прогнивший гроб, развалил его в щепки, раздавил скелет, моментально вымок с головы до ног. Отчаянно рванул наверх, царапая руки о кости и ребра. Но мог больше не спешить – вода уже опала. Поднялся, тяжело дыша, к счастью, неожиданный потоп не намочил факел, воткнутый в щель в стене. Вийон подхватил его и осмотрелся.
За железной дверью находился небольшой восьмиугольный ораторий. Комнатка буквально пять на пять шагов, заставленная старыми гробами. Каменный пол все еще покрывал тонкий слой воды, и Вийон наклонился, рассматривая колышущиеся водоросли и рыбу. Опустил факел и по серому брюху, покрытому мелкими коричневыми точечками, узнал лосося, морскую рыбу.
Откуда, ради рогатого дьявола, она взялась в этой крипте?
Он осмотрел стены, но нигде не нашел дыры или щели. Напротив: стены выглядели мощными, а камни соединены были раствором исключительно крепко.
Он так и не нашел бы решения загадки Фаустина, если бы не присмотрелся к гробам. Все они были целыми, за исключением одного, разбитого и частично разваленного. Внутри он увидел прогнивший до костей труп человека, одетого в обрывки бенедиктинской сутаны и митры. А рядом с телом Вийон заметил треснувший пастораль.
Поэт отыскал медную табличку. Когда посветил факелом, буквы почти резанули глаза. Преподобный Бенедикт Гиссо. Предыдущий аббат монастыря Мон-Сен-Морис.
– Аббат Гиссо спрятался в южном крыле трансепта, – выдохнул ему в ухо голос Якова де Монтея. – Хотел быть подальше от моря…
Подальше от моря. Пока выглядело так, что море само пришло к его преподобию. Ведь что еще все это могло значить?
Он заглянул в развалившийся гроб. Покойник скалил ему зубы в жестокой ухмылке. Какая тайна соединяла его с Фаустином? Что же такого он сделал, что так боялся воды? Потому что, проклятие, он ведь не выбрал этого места для отдохновения только потому, что не умел плавать!
Что-то лежало на груди аббата. Кожаный тубус, сжатый костистыми руками покойника. Вийон дернулся за тубусом, освободил из мертвой хватки, поскольку мертвец до конца оборонял свои тайны. А когда распорол ножом кожу, глазам его предстал свиток пергаментных листов.
Листов, исписанных ровным мелким почерком, покрытых короткими строками знаков и букв, образующими длинные колонки.
Это были стихи аббата!
Несколькими минутами позже, грязный, воняющий трупами, мокрый, он осматривал листки в маленькой келье, которую выделил ему аббат. Едва он начал читать стихи, как холодная улыбка растянула его губы. Монастырь Мон-Сен-Морис уж никак не был святым местом, а аббат Гиссо вовсе не отличался от многочисленных духовных отцов и наставников Вийона.
Начиналось все неплохо:
O admirabile Veneris ydolum,
Cuius materiae nihil est frivolum;
Archos te protegat, qui stellas et pollum
Fecit et maria condidit et solum.
Furis ingenio non sentias dolum;
Cloto te diligat, quae baiulat colum.
О, образ Венеры-богини прекрасный,
Чье тело изъяна не знает и страстно!
Пусть опекает тебя Древний, животворен,
Создавший небеса, солнце, звезды и море.
Пусть смерти нужда не ввергнет тебя во прах,
Клото пусть любит тебя, с нитью жизни в руках.
«Все интересней, – подумал Вийон. – Вот же проклятущий господин настоятель! Пожалуй, это даже складнее, чем мои собственные вирши!»
Дальше было еще лучше:
Я же молю и к Лахезис молитвы направлю,
Фаустина жизнь сбереги – и вас я восславлю!
Атропос, сестра! Нептун, а с ним купно Тефида
Пусть тебя стерегут, юноша, пока верткая Адига
Уносит прочь лодку твою и жизнь молодую.
Как можешь бежать ты, когда я тобой любуюсь,
И не видя тебя, жалость чувствую всеблагую!
Материя суровая такими уж людей создавала,
Что кости матери их – камни – вокруг разбросала.
Из них, Фаустин, и ты, потому не дивлюсь, что холоден,
И что плачем я совести твоей не трону колодец.
Должен вчерашним наслаждением епископ насытиться,
Мне ж вопль лишь остался как брошенной оленице.
«Однако! – подумал Вийон. – Фаустин, похоже, был любовником и поверенным аббата Гиссо. Но вскоре отобрал его епископ Норбонны. Потому-то и хочет он теперь, чтобы я выкрал для него останки этого монашка… Ищите, и обрящете, стучите, и откроют вам. Почитаю дальше», – решил Вийон.
Дальше было признание. Поэма, в которой аббат славил совершенные пропорции и чудесную красоту юношеского тела Фаустина.
А потом Вийон нашел то, что искал.
Блуждала душа моя, и с ней я, желания жаром палим…
Кто оку моему был дороже: Бог? Или же Фаустин?
Теперь прочь, парень! В Затопленную крипту поведу тебя!
Нет для тебя в этом доме более места!
Стало быть, когда аббат убедился, что Фаустин желает уйти к епископу, впал в ярость и приказал отправить его в… Затопленную крипту! Постепенно все становилось ясным.
Вийон держал в руках плод грешной одержимости аббата Гиссо. Нет, он не был поражен и не испытывал отвращения. Франсуа закончил Наваррский коллеж, а потому издавна был знаком с фактом, что содомия купно с симонией, обжорством и пьянством расцветала в монастырях столь же буйно, как цветы в королевских садах Лувра. Во время своей карьеры бакалавра поэт узнал множество честных и мудрых людей из духовного сословия и уже привык, что ученик не всегда получал от своего мастера знание об Аристотелевых толкованиях и правилах Альберта Магнуса. Порой это было знание, касающееся вещей куда более мистических, чем таинственные трансмутации Демокрита, сиречь – любовные связи между людьми. А Вийон начал свою преступную карьеру как раз с того, что отверг исключительно навязчивые авансы некоего священника, в чем весьма помогли ему несколько точных ударов кинжалом, поэтому и пришлось ему бежать из Парижа.
Эти священники всегда были невыносимы со своими ласками, приставаниями и заигрываниями. Наверняка именно поэтому Вийон решительно ставил любовь к женскому телу куда выше монастырской содомии. Хотя иногда попадались священники, выглядящие словно ангелы, а большинство из них ходило в баню раз в десять чаще, чем шлюхи, поэт все же предпочитал округлости женского тела гибким тельцам молодых мальчиков. Милее ему были луга и рощица Розалии, возвышенные купола Цецилии, гибкие члены соблазнительной в танце швеи Вильгельмины или же красота и притягательность Марии, которую он брал купно с вином и сыром «Под Толстушкой Марго» на парижском Сите, чем задняя норка монастырского новиция. И уж наверняка он предпочел бы и самую толстую и вонючую парижскую торговку объятиям аббата Гиссо.
И все же мужская содомия в одном превосходила обычный, милый Господу трах. Вийон прекрасно понимал, что все эти Маргариты, Юлии, Рифки, Марианы, Генриетты, большие и маленькие, сисястые и жопастые, прекрасно подходили, чтобы пронзать их восставшим капуцином на ложе Венеры, но… что же делать с ними далее, успокоив свою жажду? Разве что только сказать: отвернись же к стене, душа моя. Или: ступай за вином и сыром, милейшая моя подружка. Или просто-напросто захрапеть, возложив голову меж ее соблазнительными пригорками. Поскольку, коротко говоря, все оные женки, пусть вкус свой, как рыба, носили внутри, были, сказать честно, безмерно и пугающе глупы в делах, касающихся поэзии и всяческих муз. Конечно, они слушали с благодарностью стихи и рифмы, но понимали что-то, лишь когда Вийон говорил с ними по-французски. Когда же, после всех трудов, доходило до произведений Овидия или грека Лонга, то даже если они притворялись, что восторгаются, поэт прекрасно понимал, что с тем же успехом он мог бы оглашать стихи с ars amandi старой кобыле или жерди в заборе.
он мог бы оглашать стихи с ars amandi старой кобыле или жерди в заборе.
Конечно, и среди женщин попадались горделивые и высокомерные дамы. Но чем древо раскидистей, тем сложнее взойти на него. Были эдакие Сафо, как Кристина де Пизан, Алиенора Аквитанская либо Аньес Сорель – вот только, увы, порог этот был слишком высок для бедного Вийона. Потому что каждую из этих дам, фехтующих поэтическим словом столь же легко, как и латынью, окружала свита из герцогов, графов и князей подлиннее, чем вереница верных на ежегодную исповедь перед Вознесением.
А между тем у настоятелей, монахов и аббатов всегда имелись полюбовники, с которыми можно было вести диспуты или обмениваться тезисами. И, наигравшись на ложе, решив дела телесные, они могли сколько угодно беседовать о делах духовных, свободные от всяческой жажды. Однако хватит о содомии. Теперь пришло время Затопленной крипты.
Вийон ощутил дрожь. Не нравилась ему эта мысль – возвращаться в катакомбы под хорами.
5. Задолго до повечерия
– Брат Реньяр, слышал ли ты когда-нибудь о Затопленной крипте?
Библиотекарь поднял взор от кодекса, который он как раз переплетал в мягкую телячью кожу. Вийон почти согнулся под внимательным взглядом красных его глаз.
Он до сих пор не нашел ни одного упоминания об этом месте. Монахи, которых он расспрашивал, опускали глаза, качали головами или спокойно просили на языке жестов, чтобы он позволил закончить им молитву. Реньяр был единственным, кто не стал качать головой и уходить от ответа. Просто смотрел на Вийона проницательным взглядом.
– Отчего же вы спрашиваете об этом месте, брат?
– Поскольку не все ваши монахи, умершие в этом монастыре, упомянуты в списках умерших. Я же хотел списать их имена с гробовых таблиц, чтобы не пропустить никого, кто заслуживает упоминания. Иначе молитвы, которые Его Преосвященство собирается произносить в Нанте, не достигнут престола Господня. Ведь поминальные молитвы должны быть произнесены, чтобы умиротворить ошалевшее море и спасти монастырь.
Реньяр молчал.
– Я прибыл, чтобы вам помочь, брат библиотекарь, – добавил поэт. – А потому окажите мне любезность.
– В крипте этой никто не бывал со времен Людовика Святого.
– То есть это место все же существует?
– Над самым берегом моря, чуть ниже катакомб. – Библиотекарь задумался на миг, поглядывая налитым кровью взглядом куда-то в пространство. – Но найдете вы там немного. Гробы и кости, коим больше двух веков. Останки нескольких монахов, позабытых даже в наших книгах.
– Брат, я настаиваю. И униженно об этом прошу.
– Вход расположен за каменной плитой, в северном конце прохода. Не потому, что это тайна, а потому, что когда строили монастырь, крипту предназначали для рефугии братьям в случае нападения врагов – англичан или французов. Ты найдешь ее легко, это большая плита в северной стене: достаточно крепко подпереть ее с одной стороны – и она легко, словно страница этой книги, развернется. – Реньяр захлопнул кодекс с таким звуком, что пламя свечи, горевшей на подставке, затрепыхалось от дыхания ветра.
– Спасибо тебе, брат.
– За плитой коридор ведет отвесно вниз. Но не бойся, брат, ступай смело, ничего не бойся: он приведет тебя прямиком в Затопленную крипту. Она вырезана в таких скалах, что сомневаюсь, чтобы до нее сумело добраться море. Ты можешь даже не брать с собой фонарь – хотя в коридоре темно, наверху в крипте есть щели, сквозь которые внутрь проникают лучи света.
– Я до гроба благодарен тебе, брат, – сказал Вийон.
– Это вовсе не тайна, – проворчал в ответ Реньяр. – В этом монастыре нет никаких тайн. Кроме тайны явления Пресвятой Девы Марии, – добавил с улыбкой.
Вийон кивнул и сделал вид, что внимательно изучает жизнеописание набожной и скромной жизни святого Сульпиция, затерявшееся меж страницами монастырских хроник.
Но всего тремя здравицами позже он уже спускался в катакомбы…
На полу крипты морской воды все так же было по щиколотку, как он и запомнил со времени предыдущего своего визита. Он спешил: хотел спуститься в крипту до повечерия, прежде чем солнце погрузится в море и над аббатством распрострет свои крыла темная, словно чернила, ночь. Прихватил с собой веревку и фонарь. А под черной бенедиктинской рясой спрятал свою верную подругу – острую словно бритва чинкуэду, которая не раз и не два уже выручала его в сложных ситуациях.
Легко отыскал плиту, о которой говорил Реньяр. Плита как плита, была она пористой и выщербленной, раньше он не обращал на это внимания. Нажал плечом на одну ее грань – сначала не происходило ничего, потом он услышал тихое похрустывание, и камень поддался, проворачиваясь вокруг собственной оси. Потом дверь заклинило, и Вийону пришлось использовать чинкуэду, чтобы расширить щель; он с трудом протолкнул плиту дальше – пламя фонаря затрепетало, а поэт явственно почувствовал влажную прохладу, просачивающуюся сквозь щели в нижней части казематов. Будто обезумев, он толкнул влажный блок, упершись пятками в воде, словно Сизиф, толкающий камень наверх. И в конце концов, когда непривыкшему к тяжелой работе поэту казалось уже, что на его утружденной спине вот-вот вырастет верблюжий горб, упрямая плита провернулась настолько, что он сумел пробраться по другую сторону.
Дальше был коридор – низкий, мокрый, темный, довольно резко идущий вниз. Помня слова брата Реньяра, что ведет он прямиком в Затопленную крипту, поэт быстро зашагал, спускаясь все ниже и ниже. Влажный сквозняк раздувал его рясу, холодил распаленное лицо. Коридор вел строго вниз. Вийон примечал, что вокруг делается светлее – свет шел спереди, наверняка из крипты, которая, согласно словам библиотекаря, соединялась с миром.
Коридор свернул внезапно. Сделалось светлее. Вийон шагнул за поворот и…
Вдруг остановился с криком.
Земля ушла у него из-под ног, несколько камней сорвались с края обрыва, полетели вниз, скрылись в гребнях волн, разбивающихся у подножия обрыва! Там не было части коридора, не было Затопленной крипты! Не было ничего! Проход обрывался, открываясь на скалистый, подмытый морем клиф. Все, что находилось за поворотом, теперь пребывало во владениях Нептуна – море приняло в вековечное владение остатки монастырских подземелий.
Поэт с трудом удержался на краю пропасти. Ветер свистел в ушах, а неспокойное море накатывало все выше на скалы. Солнце скрылось за покровом темно-синих туч. Вийон прищурился, ему показалось, будто далеко на юге что-то блеснуло. Быть может, вместе с сумерками на едва живые монастырские стены обрушится гроза?
Значит, вот как выглядит конец миссии Вийона. Вода забрала крипту с телом Фаустина и вместе с ней погребла надежду поэта на неплохой заработок. И что теперь? Что делать? Будь он птицей – слетел бы вниз, чтобы в прозрачной воде высмотреть останки молодого монаха. А если бы выросли у него рыбий хвост и жабры, он мог бы нырнуть в водоросли и гривастые волны, чтобы поднять со дна труп любовника аббата Гиссо.
Увы, поскольку Господь в милости своей призвал его к жизни в человеском обличье, нечем было ему тут заняться.
– Что, все еще не нашел Затопленную крипту?! – зарычал чей-то неприятный голос. – Так она прямо перед тобой, вот уже почти сто лет!
Вийон обернулся, хватаясь за рукоять чинкуэды. Позади поэта стоял брат Реньяр, а выражение лица его не имело ничего общего с прирожденной скромностью библиотекаря. Монах скалил зубы словно волк, а глаза его буравили Франсуа со злостью и презрением.
– Ты разнюхивал в монастыре, как гончий пес епископа, – рявкнул Реньяр. – А я ведь сказал: в этом монастыре нет никаких тайн! И впредь не будет, так как последняя из них упокоится с тобой на дне моря.
Вийон догадался уже, зачем брат из скриптория так настойчиво повторял, чтобы он не боялся ничего, спускаясь по коридору. Реньяр надеялся, что несчастный посланник епископа свалится с клифа и закончит жизнь на скалах у подножия монастыря. Как мило, что он ошибся!
– Ты искал останков проклятого Фаустина?! – крикнул Реньяр. – Этого безбожного шельмы, дьявольского отродья, который пробуждал в аббате Гиссо нечистые желания, а нас всех водил за нос, будто прирученных медведей?! Откуда ты узнал, что мы отнесли его в Затопленную крипту? И что бросили в море еще при жизни старого аббата так ловко, что он не всплыл наверх? Пусть теперь соборует сирен на морском дне! Впрочем, через миг ты и сам узнаешь от него обо всем. Уж поболтаете там себе спокойно, не вспоминая больше о том, чтобы заняться мужской содомией.
Реньяр выставил правую руку из-под полы рясы, а в ответ Вийон чуть не засиял улыбкой. В руке монаха он увидел широкий мясницкий нож – наверняка подходящий, чтобы резать на четверти телятину или свинину, но неудобный, чтобы порубить на куски парижского вора и шельму.
– Я не знал, – бормотал он, пытаясь убедить Реньяра, будто вот-вот наделает в штаны. – Я вам вовсе не враг. И не знаю никакого Фаустина. Да, это правда… Епископ заплатил мне, но я не позволю себя четвертовать за его сребреники… А хотите – так и вам отдам… четверть… половину… – он затрясся так, что защелкали зубы.
Он заметил, что Реньяр уже не так внимателен, как поначалу, что он то опускает, то снова поднимает руку с ножом.
И тогда он напал.
Ударил с полуоборота, вырывая чинкуэду из-за пояса, хлестнул бенедиктинца поперек брюха, с одного удара пропоров черную рясу, сорочку и кожу, развернулся в пируэте вокруг собственной оси…
Реньяр завыл, хватаясь за кровоточащий живот, но не свалился с ног, Вийон мгновенно понял, что не сумел пробить одним ударом все слои сала, а потому клинок чинкуэды не добрался – даже не коснулся – требухи. Монах ударил ножом снизу, метя в подбрюшье поэта, но вор отбил удар левой рукой в сторону – нож прошел в пальце от его бедра и одновременно достал монаха, простым тычком справа, воткнув чинкуэду под левую подмышку и сразу ее вынув.
Библиотекарь захрипел, обрушился на Вийона всей своей тяжестью. Схватил его за руку, ударил головой в лоб поэта. Вийон согнулся, отлетел назад, ударился спиной о скалу, раскинул руки, не выпуская кинжала. Реньяр был словно атакующий бугай: рана, казавшаяся смертельной для сельского парубка, была для него не опасней, чем укол шпилькой для волос. Он схватил поэта, сомкнул руки, стремясь смять его ребра в медвежьей хватке.
Вийон завыл. Вдруг раздался короткий треск, камень ушел у него из-под ног. Пол коридора треснул поперек, тонкая трещина прошла по обеим стенам. А потом огромный кусок скалы откололся, и они полетели вниз – прямо на мокрые от воды камни и обломки скал, на высокие нагромождения битого булыжника внизу клифа.
А когда падали, словно низвергнутые на землю ангелы, рука поэта сама описала крюк за спиной Реньяра. И воткнула чинкуэду туда, где заканчивалась спина монаха, – прямо в левую почку.
Они рухнули с огромной высоты на наклонную скальную плиту. Поэт вскрикнул, понимая, что ничто их уже не спасет. Но всего за миг до того, как он ударился о камни, высокая волна, серая, как валун, ударила в основу клифа. Море, обычно такое убийственное, на этот раз протянуло ему руку помощи.
Вийон ударился спиной о воду, сразу ушел на дно, захлебнулся, захрипел от нехватки воздуха. С усилием оттолкнул в сторону тело Реньяра, а почувствовав под локтем твердое дно, оттолкнулся от него изо всех сил.
Волна откатилась, волоча его следом, дергая за мокрые полы рясы. Давясь и кашляя, поэт вскочил на ноги. Знал, что нужно бежать отсюда, уходить как можно скорее, прежде чем новый вал смоет его в море и разобьет о встающую над ним гранитную стену.
Прыгнул в сторону – туда, где высилась осыпь камней и обломков подмытого обрыва. У него почти вышло: очередная волна добралась до него, когда он наполовину уже взобрался на очередную плиту, и подбросила его вверх, потащив в бессильном гневе.
Вийон замер, стоя на коленях. Где-то там, на западе, умирало за грозовыми тучами солнце, а на сморщенную, гневную поверхность океана легла тень близкой грозы. Поэт встал и, согнувшись, откашлялся. Поднял голову и понял, что не сумеет вернуться в монастырь через катакомбы – ему пришлось бы обходить обрыв, у подножия которого он оказался. И нужно было уйти отсюда как можно скорее, пока шторм не набрал силу.
Далекий гром грянул, словно приближающееся войско – в барабаны. Вийон прыгал по камням, оскальзывался на каменных осыпях. Спешил.
Но вдруг спешка его вмиг улетучилась. Поэт остановился. В скальной щели пятью шагами ниже заметил он продолговатый черный предмет, выброшенный волнами.
Еще не до конца понимал, что это, но уже бежал туда. Упал, тяжело дыша, на колени и онемел. Это был гроб. Деревянный, прогнивший от долгого пребывания в морской воде, опутанный железной, проржавевшей цепью.
Но зачем опутывать гроб цепями?
Разве что для того, чтобы то, что внутри, не вышло наружу.
Это ли имел в виду Бенедикт Гиссо, когда писал: «В Затопленную крипту отведу тебя?!» Неужели аббат говорил об этом?
Гроб был полуразрушенный, дырявый. Вийон глянул внутрь, но там было пусто. Зато он заметил кое-что другое. Доски были проломлены внутрь. Поэт понял, что тот, кто был заперт в опутанном цепью гробу, не имел никаких шансов выбраться из ловушки. И что вбитые внутрь доски свидетельствуют о чем-то противоположном: а именно, что некто посвятил немало труда и усилий извне, чтобы достать из ящика его содержимое.
Он отер морскую воду со лба. И понял, что настал самый подходящий момент, чтобы поговорить с новым аббатом.
6. Незадолго до вечерни
– В аббатстве совершено убийство, – сказал измученный, трясущийся Вийон, стоя перед Яковом де Монтеем. – Ваш предшественник, преподобный Бенедикт Гиссо, приказал сбросить в море своего любовника, некоего Фаустина – молодого монаха, к которому он воспылал содомитским чувством. Сделал он это, когда узнал, что его ученик и конфидент заинтересовал епископа Гийома де Малеструа. Ваше преподобие, над этим монастырем тяготеет грех, и именно это может оказаться причиной, по которой море отбирает от Мон-Сен-Морис кусок за куском.
Аббат поднял бледный взор от молитвенника. Глаза его были измучены и печальны.
– Доказательства, брат? Есть ли у тебя какое-то доказательство твоих слов?
– Имя Фаустина вырезано на надгробии предыдущего аббата. – Вийон не дал сбить себя с толку. – А прежде всего, – он вложил в руки аббата свернутые пергаментные страницы, – стихи, которые я нашел в гробу аббата Гиссо и в которых он описывает свою нечестивую любовь к Фаустину. Остальное, преподобный, вы узнаете от собственных монахов, потому что я готов голову дать на отсечение, что они скрывают правду.
Аббат взглянул на бумаги. Просматривал их в молчании. Из-за плотно запертых ставен доносился скулеж рассерженного вихря, шум моря напоминал шипение тысячи разъяренных змей, время от времени ему вторил глухой гром. Вийон почти чувствовал, как скалы, на которых возведен был монастырь, шатались от напора адской бури.
Яков де Монтей молча прочел стихи Гиссо. Сложил руки, словно для молитвы.
– Что… мне делать с этим, брат Франсуа? Это страшно… Я ничего не знал. Никто мне ничего не сказал.
– Все станет ясно, когда я расскажу вам, с каким заданием на самом деле прислал меня сюда его преосвященство епископ Нанта. – Вийон рисковал, но, по сути, терять-то ему было нечего. К тому же аббат казался человеком, достойным доверия. – Он приказал мне ни больше, ни меньше – отыскать в вашем монастыре останки некоего Гаспара де Бриквеля, известного под орденским именем Фаустин. Это был любовник епископа, который никогда так и не смог соединиться со своим мастером. Не смог, потому что был жестоко и подло убит в Мон-Сен-Морис! Моя миссия по переписыванию имен монахов была только поводом.
– И что же дальше? – прошептал аббат. – Как все это исправить?
– Прежде всего вы должны, господин, расспросить ваших монахов, кто еще замешан в этом убийстве. Может, наказание виновного усмирит гнев моря, или душа Фаустина найдет покой.
Аббат некоторое время горячо и беззвучно молился. Вийон терпеливо ждал.
– Хорошо, – сказал аббат. – Через минуту начинается вечерня. Я созову всех монахов в церковь и произнесу речь, обращаясь к их разуму. Потребую, чтобы они открыли все, что знают, или чтобы выдали виновных. Пусть бьют в колокол! Пойдемте!
7. Вечерня
Звук колокола созвал всех монахов в церковь. Они собрались в нефе, где гулял ветер, а сквозь разрушенное северное крыло трансепта залетал дождь – доставая почти до хоров, где возвышался аббат.
Стояли они плотно, плечом к плечу, покорно склоняя отмеченные тонзурами головы. Свечей не зажигали, так как ветер, врывающийся сквозь дыры и щели, тут же гасил все огни. Поэтому быстро зажгли несколько фонарей, но они не разогнали тьмы, задавленные мрачной глыбой церковного нефа.
Яков де Монтей спокойно подождал, пока все монахи обнажат головы, пока утихнет шум разговоров и перешептывания, а все взоры обратятся к нему. Гроза набирала силу. Ветер гнал с моря дождь и молнии, огромные волны бились о скалы с такой силой, что даже фундамент монастыря содрогался. Вийону, который то и дело поглядывал в сторону обрыва за разрушенным трансептом, казалось, что разыгравшееся море вот-вот ворвется внутрь церкви, тем более что время от времени он замечал взлетающие кверху брызги соленой воды, когда волны ударяли в основание клифа.
– Мои милые братья! – сказал аббат. – Милейшие мои агнцы. Верные слуги Господа и нашего монастыря. Прежде чем мы проведем вечернюю мессу, я хочу созвать чрезвычайный Капитул Вины, так как только что узнал, что в этом святом месте случилось дело неслыханное и взывающее к небу о мести, то, из-за которого, возможно, и пал на нас гнев Божий. Ведь неисповедимы пути Провидения, а Господь, испытывая нас, словно Иова, требует признания грехов и покаяния.
– …Я обладаю доказательствами того, что в нашем аббатстве было совершено преступление. Виновен в нем мой предшественник, Бенедикт Гиссо, да смилостивится Господь над его грешной душой: он, воспылав грешной страстью, приказал убить брата Фаустина. Кровь убитого запятнала весь монастырь и все наше сообщество, тем паче что у меня есть основания полагать, что замешано в это было куда больше людей. Поэтому во имя Господа нашего Иисуса Христа я хочу, чтобы вы открыли мне все, что знаете об этом деле. А если есть меж вами виновные или скрывающие что-то, то пусть выступят вперед и признаются в своих грехах, и им будет назначено искупление и, возможно, они получат прощение. Давайте, братья, отворите сердца пред своим аббатом. Кто виновен – пусть выйдет вперед.
Установилась тишина. Ветер бушевал вокруг церкви, море с глухим гробовым стуком билось в берег. Когда церковь содрогнулась, затряслась, все вздрогнули, а потом до них донесся отдаленный гул обрушившихся вниз скал. Море же становилось все ближе.
Никто не пошевелился. Ни один из монахов не вышел вперед.
– Вы и правда скрываете некую тайну, – сказал Вийон негромко, водя взглядом по лицам старцев. – Отчего я не вижу среди вас ни одного молодого лица? Где новиции? Где постуланты? Кто из вас виновен в смерти Фаустина?
Вдруг один из монахов вздрогнул. Бородатый седовласый старец выступил из толпы. Медленно прошел в сторону хоров, остановился перед лестницей и преклонил колени, словно придавленный тяжестью злых деяний. Это был келарь, монастырский управляющий.
Вслед за ним поднялся худой монах с сединой в бороде и лысым черепом. Встал на колени перед приором и перекрестился трясущимися руками. Камерарий.
А потом присоединились к ним и другие. Некоторые шли горбясь, склонившись, другие ползли на коленях, с четками в руках. Одни всхлипывали, у других выражение лица было как у собаки, о спину которой только что кто-то сломал палку. Выходили по очереди: согласно монастырским своим должностям: кантор, канцелярий, пономарь, инфирмарий, ялмужник, привратник, официалы, а в самом конце – сгрудившаяся, словно перепуганные овцы, серая толпа рядовых монахов.
Весь конвент, все собрание, весь монастырь собрался вокруг аббата и Вийона. Их окружало тесное кольцо бледных лиц и выбритых голов.
– Все? – прошептал побледневший аббат. – Вы все… виновны? В смерти Фаустина?
– Это было дьявольское семя, отче! – прохрипел келарь. – Он околдовал старого, бедного отца Гиссо, смущал наши умы и возбуждал дьявольское желание. А потом ушел от него прямо в объятия епископа.
– Что вы с ним сделали?
– Бросили в море в гробу, оплетенном цепью, – ответил монах. – Попал он туда, где ему самое место, потому что, как говорит наш патрон святой Бенедикт, каждому дается по нужде его. Бросили мы его туда, где была Затопленная крипта. Заперев живым в гробу, опутанном цепями, чтобы он не сумел выйти. Попал он туда, где пребывает Проклятый и ангелы его. На самое дно!
– Пришли ли вы молить о прощении?
– Мы пришли упокоить нашу тайну рядом с телом Фаустина.
Монахи встали – все как один. Вийон и аббат оказались вдруг в центре бури, что была куда опасней, чем та гроза, что безумствовала вокруг монастыря. Та несла молнии, ветер и дождь, эта же состояла из воздетых и падающих рук монахов, их решительных, бледных лиц и тел, покрытых черными рясами.
– Братья, что вы делаете?! – крикнул аббат. – Помилуйте, во имя Господа…
Не помиловали. Вийон почувствовал, как его хватают десятки рук, огрубевших от четок, пера, работы в поле и саду, воняющих гессо, которым склеивали страницы книг. Он дернулся, потянулся за чинкуэдой, но ему не дали ее вынуть. Не успел он произнести ни одной строки «Pater noster», как был уже схвачен, обездвижен, с выкрученными за спину руками. Минуту-другую он еще дергался, раздавая пинки, но вскоре его лишили и этой возможности выражения неудовольствия.
– Это бунт! – кричал аббат. – Пойдете в тюрьму, братья! Под епископский трибунал!
Никто не обращал внимания на его слова. Из-за спины бенедиктинцев вынырнуло четверо монахов, несущих простой гроб, четыре могильщика аббата и поэта.
Вийон прекрасно понимал, что их ждет. Кричал, дергался в руках бенедиктинцев, но с тем же успехом мог бы он толкать скалы, на которых выстроен был монастырь.
– Давайте их сюда! – скомандовал келарь. – Связать им руки за спиной!
– Боже живый, что же вы делаете, братья! – рыдал аббат. – В чем же моя вина, милые вы агнцы? Отдайте сперва меня под суд…
– Заткните ему рот, братья, – проворчал пономарь. – Зачем нам выслушивать еще и проклятия аббата.
Кто-то из монахов сунул Якову в рот его собственный капюшон, оторванный от сутаны. Другой придержал его руки, а келарь связал их ремнем.
Вийон стонал. Гроб был рядом, у его ног. Он почувствовал, как его подхватывают мощные руки.
– Это вопиющее насилие и бесправие! – зарычал он так, словно всю жизнь свою был богобоязненным христианином, что всякий день, от заката до рассвета, придерживался права Божьего и человеческого. – Я не под вашей юрисдикцией! Прочь, козлины, от меня! Прочь, попы, лбы бритые!
Крики помогли ему только в том, что он тотчас же получил локтем в ребра, а потом кулаком в морду. Его кинули в гроб с такой силой, что загудели доски, а потом, словно Божье наказание, свалили ему на голову аббата де Монтея. Вийон зарычал, придавленный ко дну, хотя аббат, сказать честно, весил не больше, чем обычная шлюха, объезжающая полюбовника методом святого Франциска. Но, как легко можно было догадаться, поэт не пришел от этого в восторг.
Крышка опала со стуком, приглушив вопли Вийона и крики аббата. Они дергались, стиснутые в узком, душном гробу, тщетно лупя в доски. Поэт услышал звон цепи, почти почувствовал, как обматывают ее вокруг их тюрьмы, словно железную змею. И тогда понял, что это конец. И только вмешательство святого или архангела поможет им выбраться из этой ловушки.
– Что делать?! Что делать?! – стонал аббат. – Брат, помоги! Смилуйся!
– Молись, а я стану думать! – крикнул паникующий Вийон, чувствуя, что еще миг – и он наделает в штаны.
Увы, пока что единственным способом спасения, что приходил ему в голову, была предсмертная исповедь…
Он почувствовал, как монахи подняли гроб и понесли его вглубь хоров. Вийон чуть ли не всхлипывал, чувствуя, как они спускаются вниз. Направление движения не оставляло никаких сомнений: двигались они в катакомбы, в Затопленную крипту.
Они бессильно метались в гробу, пинались, сдирали до крови кожу на кулаках, колотя в стенки и крышку. Железная цепь в зародыше давила все попытки освободиться из ловушки, прижимала крышку, словно королевскую сокровищницу, опутывала гроб так тесно, что даже не звенела, когда они с яростью напирали на стенки деревянного узилища.
А потом гроб накренился и затрясся. Вийон почувствовал, что их снова понесли куда-то вниз, наверняка по коридору, что вел на край скального обрыва. Он уже и сам не понимал, что делает: начал, кажется, молиться, взывать о помощи патрона – святого Франциска…
Тщетно! Снесли их в самый низ, они слышали грохот волн, разбивающихся о камни в нескольких десятках футов ниже, вой ветра и шум обезумевшего моря. Гроб заколыхался, когда монахи размахнулись, а потом…
Вийону казалось, что он лишился рассудка.
Потом они полетели вниз.
Сперва они падали ровно, горизонтально. Потом гроб перевернулся вокруг оси, развернулся так, что ноги их оказались над головой. Последнее, что Вийон сумел сделать, это крикнуть. Орал хрипло, словно одержимый из адских глубин, хотя ожидало его путешествие в совершенно другую стихию. Аббат молился, путая слова, рыдая и моля Господа о милосердии.
Полет продолжался недолго. Они почувствовали сотрясение, гроб дрогнул и вдруг встал горизонтально. Почувствовали, как волна возносит их вверх, а потом – как погружаются они в морские глубины. Гроб тонул, и не могли изменить этого ни слова псалмов, которые шептал аббат, ни проклятия и богохульства, выкрикиваемые Вийоном.
Они шли на дно. Все звуки вокруг стихали, а потом зазвучали низко, словно глас органов, играющих траурный реквием. Из щелей потекла вода, Вийон чувствовал, как сотни ручейков орошают его тело, из-за чего деревянная их тюрьма становится все тяжелее и еще быстрее идет на дно. Вдохнул побольше воздуха, с отчаянной надеждой бился в стены и пол, все слабее, все медленнее, одолеваемый бессилием…
Гроб легонько заколыхался и замер – как видно, упокоился на морском дне. Уровень воды поднялся, дошел до губ и носа Вийона. Тот дернулся вверх, но тело аббата блокировало ему дорогу, поэтому он принялся дергаться в отчаянной попытке освободиться от Якова, ударяя головой в его бок, крича и вопя…
Конец, это был конец. Тишина морского дна. И в отличие от бури на поверхности, мертвое спокойствие до конца дней.
Что-то ударило в крышку гроба. Раз, другой, третий и десятый. Доски с треском уступили, поток воды полился внутрь и затопил бьющихся, сплетенных в схватке мужчин, наполнил до краев деревянное корыто. Вийон затрясся, вжатый телом священника в дно. Почувствовал, как крышка распадается от мощного удара снаружи…
А потом чья-то ладонь сжалась на его предплечье. Чья-то костлявая рука вытянула его наружу, подняла в воде, освещенной странным бледным проблеском, словно кто-то зажег вдалеке большой фонарь.
Вийон выплыл из гроба вместе с аббатом, и глаза его расширились от удивления. Стояли они, окруженные многочисленными монахами в черных бенедиктинских рясах. Видели молодые лица, бледные, неподвижные глаза, полы ряс, реющие в воде. Он взглянул на дно и различил завалы прогнивших, обмотанных цепями гробов. А когда снова поднял взгляд на бледных призраков молодых монахов, что раскачивались перед ним в морской воде, понял: то, что сделали с Фаустином, не было ни первым, ни последним преступлением. И понял, отчего в Мон-Сен-Морис он не увидел ни одного молодого лица.
Призраки скалили зубы в улыбках. Все пальцы указывали направление. Вийон поклонился, ухватил за руку онемевшего аббата, а потом принялся послушно подниматься наверх, молясь, чтобы в груди его хватило дыхания…
…Огромная волна выбросила их на каменистый берег на краю обрыва. Ветер дул с моря, резал их лица пеной. Хрипя, кашляя и втягивая в грудь холодный воздух, они брели, поддерживая друг друга – аббат поэта, а поэт аббата. Пока наконец не вползли на каменную полку, не замерли, задыхаясь, не в силах поверить в свое спасение.
Взгляд Вийона прошелся вдоль каменного обрыва высоко над их головой, туда, где вставал Мон-Сен-Морис.
– Смотри, брат! – крикнул. – Превысилась мера!
Море с дикой яростью било в скалистый берег. Огромные волны обрушивались на скальные колонны и подпорки, подмывали их, крошили. Тяжелые плиты падали вниз, постепенно разрушая монастырь и площадь при виридарии. Вийон увидел высоко на скалах фигуры монахов в черных рясах, что тщетно пытались усилить стены и сдержать разрушительную стихию.
С громогласным грохотом и треском в море свалилась абсида церкви, потянув за собой восьмиугольную колокольню. Беснующееся море подмыло берег клифа, и тот сполз – медленно, словно рушилась гора, пораженная молнией с небес. Он забрал с собой виридарий, капитулярий и остатки рефектария. А потом молния ударила в вершину дормитория, а безумные волны сокрушили скальное ребро, которое до этого оберегало жилище монахов от гнева океана. Дормиторий вместе со склоном рухнул в воду словно карточный домик – прямо в Левиафанову пасть.
– И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба. И ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастения земли… – сказал мрачно аббат Яков.
Монастырь перестал существовать. Рушился в море, которое вспомнило о своих правах, по воле Божественной и человеческой.
Де Монтей положил Вийону руку на плечо и медленно притянул его к себе.
– Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом…
– И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления.
– Именно так, – усмехнулся бледно аббат. – Ступай сюда, брат.
Вийон отвернулся от бушующего моря, которое поглощало остатки аббатства, купно с его похотью и содомскими секретами.
– Вот так я и утратил свое аббатство, власть и уважение, – сказал печально Яков де Монтей. – А что получил? Сам не знаю, что именно…
– Nil desperandum, – сказал весело Вийон и похлопал аббата по спине. – Радуйся, что живешь, поскольку все, кроме жизни, суета сует. Но выйдем же, друг, на шлях. Нам предстоит долгая дорога, а я хотел бы еще до Вознесения Креста увидеть Лангедок и оказаться как можно дальше отсюда…
Он двинулся, насвистывая, за священником. А потом принялся декламировать:
Когда же я пришел в сознанье
И вновь обрел былые силы,
Решив кончать предуказанья,
Заметил – стали льдом чернила,
Свеча потухла, печь остыла,
И нечем вздуть мне огонек.
Я, завернувшись в то, что было,
В потемках нацарапать смог:
Под сим и подпись проставляю —
Достопочтенный мэтр Вийон.
По виду как метла живая,
Инжира, фиг не ведал он,
Как и шатров, так и знамен.
Своим друзьям он завещает
Зажатый в кулаке биллон,
И этот грош вот-вот растает.
– Аминь, – сказал аббат Яков де Монтей. И едва заметно улыбнулся.
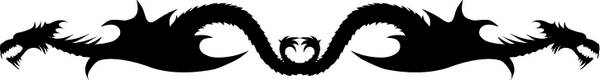
notes
Назад: 4. Danse Macabre
Дальше: Примечания

