Книга: Вторая жизнь (Иллюстрации П. Зальцмана, Ю. Мингазитдинова)
Назад: В ГЕРОНТОЛОГИЧСКОМ ИНСТИТУТЕ
Дальше: МАНЕКЕНЫ
БОЛЬШИХ ГОРОДОВ ОДИНОЧЕСТВО
Даниил Романович вышел на площадь. По ту сторону ее выси лось белое с синеватым отливом здание штаба ОВОК. Вправо и влево ущельями прорезались улицы, громады домов стояли утесами. Многомиллионный город днем выглядел величественным и мрачным. Лучи солнца не попадали в узкие и глубокие улицы. Машины мчались безмолвным потоком, временами сбивались на перекрестках перед светофором, потом разом срывались и мчались дальше с прежней скоростью.
Посередине площади нет движения автомашин, белые ленты отграничили с двух сторон дорогу для пешеходов. Тут можно идти спокойно, можно даже на ходу заглянуть в газету. Даниил Романович шел не спеша, слегка прихрамывая (после ранения), прислушивался, о чем говорят сегодня атланты. За год он хорошо изучил их язык — свободно читал газеты, понимал их речь, но сам говорил плохо: ему не удавалось произношение очень трудных звукосочетаний.
Он услышал, что «воскресение из мертвых» — сплошное вранье, цены на сыр и масло опять повысились, что сборная футбольная команда Атлансдама состоит из увальней, не способных бегать и ударить как следует по мячу, и что у знаменитой Юв Мэй на левой щеке появилась родинка.
— Ты не заметил этого? — спросил молодой человек в пестрой рубашке и желтых кожаных трусах у своего спутника — в такой же рубашке, но в брюках.
— Нет. У Мэй родинка?
— А какой у тебя телевизор?
— «Луна».
Парень в трусах расхохотался.
— Чудак, что ты увидишь в свою «Луну». Такие телевизоры выпускает мебельно-стекольная фабрика. Ты купи «Юпитер», как у меня. Это — вещь! А в свою «Луну», если Мэй выйдет даже нагая, ты не увидишь…
Хохоча, молодые люди прибавили шагу.
Даниил Романович перешел площадь и свернул в улицу. Он жил в двадцати минутах ходьбы от института и редко пользовался автомашиной. Путь утром в институт, а вечером из института он считал утренней и вечерней прогулкой.
Правда, иногда хотелось проехаться по городу, и в гараже при институте всегда можно было найти свободный автомобиль, но Галактионов не умел управлять машиной. А учиться не было времени.
Даниил Романович никак не мог привыкнуть к огромному городу. Ему казалось, что в нем нет ни одного уголка тихой размеренной жизни, нет и не может быть человеческой жизни с ее радостями в семье, в кругу друзей. Все здесь — в гонке сверкающих автомашин. Люди, ухватившись за руль, куда-то несутся, досадуют на задержку у светофоров, снова мчатся с еще большей скоростью.
Ему нравилось быть среди пешеходов, тут видишь живых людей, слышишь их голос. И думаешь о своем…
Мысли сегодня были невеселые. Если Доминак уйдет, даже только откажется от поста директора, это вызовет раздор и — Шельба прав — может кончиться плохо для института. Доминак считается выдающимся ученым Атлантии, все здесь будут на его стороне, и в первую очередь церковь — она тут всесильна. Странно — ученый и в то же время верующий. Кто же поддержит его, Галактионова, в институте? Шельба всегда настроен дружески, но он ненадежен, как всякий человек без принципов. Мартинсон — лауреат Нобелевской премии, человек очень гордый, способный отрешиться от всего ради науки, ради служения человечеству. Поддержка его многое значила бы. Но он ограничится лишь тем, что пожмет руку.
Галактионов за год работы хорошо узнал Мартинсона. Этот человек с редкой силой воли сам пробил себе дорогу. К советским ученым он относится с болезненной завистью: они выросли с помощью государства. Эта зависть часто в разговоре доводит его до угрюмою озлобления: «Сколько сил тратилось ради куска хлеба! А вам-то было легко…» Галактионову не всегда было легко, но он не возражал.
Мартинсон сторонился общественной жизни, ничего не читал, кроме медицинских журналов и специальной литературы. Он считал, что нет таких правительств, учреждений и органов печати, которые служили бы только интересам народа, и, значит, не стоит к ним апеллировать.
А научные сотрудники будут молчать, как молчали сегодня… «Но уйти мне нельзя, — решил твердо Галактионов, — надо закончить работу. Не обратиться ли в посольство? Нет, это не годится: это вызовет подозрение, недоверие…»
Он не дошел до своей квартиры, увидел маленькую вывеску кафе и вспомнил, что сутра ничего не ел. Зашел и заказал обед.
— Но прежде всего лимонад, — сказал он официанту. — Сегодня очень жарко.
— О, да! — последовал ответ.
В Атлансдаме не подают лимонада в бутылках. Принесут на тарелках лимон, колотый лед и порцию сахара, и клиент сам приготовит себе напиток по своему вкусу, добавляя содовую воду из сифончика.
После обеда Галактионов почувствовал себя лучше. Идти на квартиру не хотелось, Даниил Романович взял такси и поехал в клинику института навестить Гуго — единственного своего пациента.
Когда Галактионов вошел в палату, дежурная сестра-монашенка смутилась и не поднимала глаз на профессора. Даниил Романович схватил руку больного — пульс еле прощупывался. Гуго лежал с закрытыми глазами, мертвенно-бледный.
— В чем дело? — круто повернулся он к сестре. — Да раз бинтуйте же скорее…
У Гуго была перебита сонная артерия. При операции ее соединили. Сейчас Гуго умирал от внутреннего кровоизлияния: видимо, в артерии на месте шва образовался разрыв.
— Вызвать операционную сестру. Приготовить кровь для переливания.
У сестры дрожали руки, она не знала, куда их деть.
— Я не могу выполнить вашего приказания.
— Это что еще такое! Почему?
— Директор сказал: если я выдам кровь, буду уволена с ра боты.
— Профессор Доминак видел больного?
— Да, полчаса назад.
— Что он сказал?
— Он сказал, что это опасный преступник, и я буду отвечать… перед церковью, перед судом.
— В клинике бывают только больные — запомните это, и мы обязаны их лечить, — внушительно сказал Галактионов. — Выполняйте!
— Не могу… — сестра заплакала. — Я потеряю работу.
— Тогда уволю вас я, — не сдержался Галактионов. — Ведь больной умирает на наших глазах!
Сестра умоляюще протянула руки:
— Вы не сделаете этого…
— Сделаю, — Галактионов, засучив рукава, стал мыть руки. Сестра молча всхлипывала. В клинике стояла тишина. Больной тут был один — Гуго; остальные палаты занимали древние старики-пациенты профессора Доминака, они большую часть времени проводили лежа.
Тишину нарушил шум у входных дверей, потом послышался стук и грубый мужской голос. Сестра вышла и тут же вернулась.
— Вас спрашивают, — сказала она.
В коридоре Галактионова ожидал рослый мужчина в отличном светлом костюме; не снимая шляпы, он стоял, засунув руки в карманы. У него были разные глаза: один налившийся кровью, другой белел, как фарфор, — искусственный глаз.

— Вы профессор? — спросил бесцеремонно мужчина.
— Да. Снимите шляпу.
Посетитель постоял с минуту в раздумье, затем вынул руки из карманов, снял шляпу и спросил:
— Русский?
— Русский.
— Вас-то мне и надо. Есть разговор один на один, — посетитель подмигнул фарфоровым глазом.
— Мы одни, можете говорить, — Даниил Романович насторожился. — Только я очень занят…
Мужчина вытащил из кармана газету.
— Я по поводу вот этой статьи. Правда ли это? Правда ли, что тут лежит наш мальчик?
Перед Галактионовым, несомненно, стоял бандит, может быть, главарь шайки. Стало не по себе.
— А вы кто будете?
— Отец, — не моргнул тот.
— Ну и что?
— Ага, значит, он здесь! — обрадовался фарфоровый глаз. — Значит, все это правда… Слушайте, профессор! Если вы спасете нашего мальчика, вы получите пару-другую чистым золотом… Какой дьявол — пару тысяч! Вы получите столько, сколько скажете. Ну?
— Послушайте, — нахмурился Галактионов. — У меня нет ни желания, ни времени разговаривать на эту тему. Не отрывайте меня от работы, не мешайте. — И с огорчением подумал: «Вот с кем приходится иметь дело…»
Посетитель придвинулся и заговорил тихо, с доверительностью:
— Ладно. Вы не верите, что я отец. Скажу правду. Я Кайзер. Слышали?
Галактионов знал из газет кличку главаря столичной банды; много писалось о его характере, только портретов не помещали. И он подумал, что просто так Кайзера не выпроводить из клиники: словами не отделаешься.
И сказал:
— Я не знаю, что будет с вашим «мальчиком» через час, через полчаса. У нас не оказалось крови для переливания, нужной крови…
Кайзер мигом скинул пиджак, сорвав золотую с камнем запонку, засучил рукав рубашки. — Берите. У меня первая группа — в армии проверено. Цедите сколько надо. Мало будет, пятеро таких придут, каждый день будут приходить — берите!
— Идемте, — кивнул Галактионов.
Поздно вечером усталый, с головной болью и горечью во рту от курения Даниил Романович поднялся к себе. В его квартире было только то, что нужно для отдыха — кровать и диван, и то, что требовалось для работы — письменный стол, книги, аппаратура, инструменты. Гостей он не принимал, да никто к нему и не ходил.
Правда, Галактионов встречался с атташе по вопросам науки и культуры, молодым человеком из советского посольства, но эти встречи бывали чаще всего не в квартире.
Галактионов приехал в Атлансдам вместе с женой. Она про жила тут только два месяца и решительно заявила, что не может больше оставаться без дела, положение домашней хозяйки ей не по душе. Она любила преподавательскую работу, говорила, что никто не в праве отнять ее, чувствовала себя здесь чуть ли не ссыльной, и Галактионов согласился на отъезд жены. В институте удивлялись такому поступку супруги советского профессора: странная женщина, ей не нравится спокойная, обеспеченная жизнь в великолепном городе!
Сейчас Даниил Романович пожалел, что отпустил Марию. Скучно было одному. Квартира казалась необитаемой.
В гостиной висела единственная картина — «Нерон в цирке» Г. Семирадского. Домовладелец, юркий старикашка, желая польстить русскому профессору, повесил не абстракционистскую мазню, а «Нерона», сказав, что это-картина известного русского художника. И еще сказал, что является поклонником искусства и науки: в его доме живут исключительно «художники, артисты, ученые.
Галактионов прилег на диван, тотчас же зазвонил телефон.
«Кто бы это мог быть? — подумал он: уж очень редко раздавался звонок в его квартире. — Мартинсон? Нет, он никогда не звонил. Если Шельба, то позовет в ресторан…»
Голос был тонкий и далекий.
— Это я, Эрика Зильтон. Что же мне делать, господин профессор? Спасибо вам за помощь — за деньги, но… ведь живые каждый день хотят есть. Мне нужна работа, а ее нет. Мне не к кому больше обратиться — ведь вы все равно как отец…
«Да, это верно, — думал Даниил Романович, — как отец… Я дал ей вторую жизнь. Но что я могу сделать для нее? Снова предложить деньги?»
— Не подумайте, что я прошу у вас помощи, — говорила Эри ка. — Все равно это не может продолжаться без конца. Мне нужна работа. Я могу работать. Ко мне пристают корреспонденты, но я вижу, что их нисколько не интересует моя судьба. Они сами хотят заработать. О, я отлично их понимаю…
«Можно бы взять ее в клинику вместо той сестры-монашенки, — подумал Галактионов. — Но помимо Доминака этого сделать нельзя — а он ни за что не согласится».
— Что же мне делать, господин профессор? Снова умереть? У меня уже не хватит сил и решимости…
— Что вы, что вы, Эрика! — воскликнул Даниил Романович. — Выбросьте из головы эти мысли. Надо что-то придумать… Вам не предлагали выступить, ну хотя бы по телевидению?
— Предлагал один корреспондент. Но я не хочу иметь дела с корреспондентами. Еще предлагали выступать в варьете…
— Нет, в варьете вы не ходите, Эрика. Нужно что-то другое.
— Я как раз хотела спросить у вас совета насчет варьете, — продолжала Эрика.
— Я бы не советовал…
— Но что же мне делать?
«Что же я могу сказать ей? — мучительно раздумывал Даниил Романович. — Надо посоветоваться хотя бы с Шельбой, человек он бойкий».
— Лучше подождать, Эрика, — сказал он в трубку. — Еще немного. А пока возьмите у меня денег.
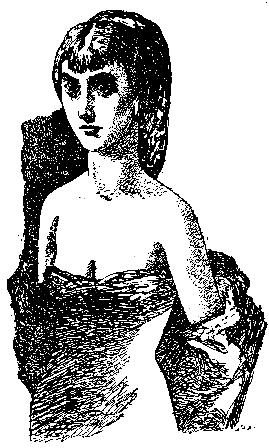
— Нет-нет, не могу! — вскрикнула Эрика. — Это оскорбительно, я начинаю ненавидеть себя.
— Но я же как отец. Разве оскорбительно брать деньги у отца?
Она, видимо, задумалась. Помолчав, вздохнула:
— Не знаю. Я никогда не брала денег у отца. Я не знала отца.
— Ну вот видите… А говорите: оскорбительно. Возьмите, Эрика.
— Нет-нет! — снова закричала она. — Не надо, не буду… Никогда! Я уже решила все. И больше не позвоню.
— Эрика!
— Прощайте! — Трубка монотонно загудела.
Даниил Романович подошел к окну. В темноте метались рекламные огни, приглашали, звали, уговаривали, манили. Он повалился на диван, достал первую попавшуюся книгу, открыл ее так, как открылось, стал читать.
Читал и не понимал, что читает. Перед глазами стоял Доминак. Его слова: «Не счастье принесете вы людям, а горе», — мешались с прочитанным в книге. И еще доносился далекий, полный растерянности голос Эрики. Он подвинулся к настольной лампе, чтобы лучше различать буквы. «И вот она приняла фосфор. Но судьба — против нее… На сцену является доктор, и она спасена.
Для чего спасена? Для такой же жизни, полной позора и мучений, которой она предпочитает смерть?
Согласитесь, что это чрезмерно, по-инквизиторски жестоко — изломать, исковеркать человеку жизнь, оскорбить, опозорить, выпачкать его и, когда он после всех пережитых пыток предпочтет им смерть, лишить его права на это, вылечить и снова пытать».
Галактионов закрыл книгой лицо.
«Согласитесь…
Но неужели я поступил, как инквизитор? Неужели Доминак прав? Во время войны я работал в полевом госпитале, спас тысячи жизней, ощущал радость спасителя. И вот, оказывается, сейчас стал инквизитором! Кто же это написал, как попала ко мне эта книга?»
Он посмотрел на переплет и удивился: Горький! Не может быть! Это попали страницы из другой книги…
Даниил Романович внимательно перелистал книгу. Сомнений не оставалось-то слова Максима Горького. Странно: гуманист Горький так резко осудил не убийц, а тех, кто спас человеку жизнь, и осудил, как палачей — они казнили молодую рабыню при жизни, а когда она отравилась, спасли ее, чтобы опять казнить. «Ничего странного нет. То было давно. Я вернулся в эту жизнь, И, видимо, моя работа здесь не нужна, — думал Даниил Романович. — И Доминак по-своему прав. Но я работаю не для него. Поэтому Шельба тоже прав — надо найти согласие, чтобы продолжать опыты, работать до конгресса, а потом — домой».
Спать не хотелось. Он достал другую книгу и, так же не взглянув, кто ее автор, открыл наугад. Это оказались стихи.
Тот, с кем ты говоришь, — не тот, кто тебе нужен.
Ты ищешь твердого слева, не зная, куда идти.
Верно! В этом огромном городе-муравейнике, кажется, есть хорошие люди, а человека, который бы поддержал, нет.
А тот, кто ищет тебя, не может тебя найти
В водовороте людей на улицах, после пяти.
И жжет твое сердце тоска, и сам ты словно контужен.
А верно ли это? Кто может здесь искать тебя, чужого чело века? Семья, товарищи — далеко. Друзья из посольства не станут, не имеют права вмешиваться в дела института, а тебе именно там нужна поддержка. На газетную шумиху надо махнуть рукой — Шельба прав. Но встанет ли он на твою сторону? Кому ты нужен в этом огромном чужом городе? Кто до сих пор искал тебя? Кайзер! Но лучше бы не знать его. Эрика звонила и сказала: «Прощайте!»
…И жжет твое сердце тоска, и сам ты словно контужен. Право, хуже всего — больших городов одиночество.
Назад: В ГЕРОНТОЛОГИЧСКОМ ИНСТИТУТЕ
Дальше: МАНЕКЕНЫ

