Глава 5
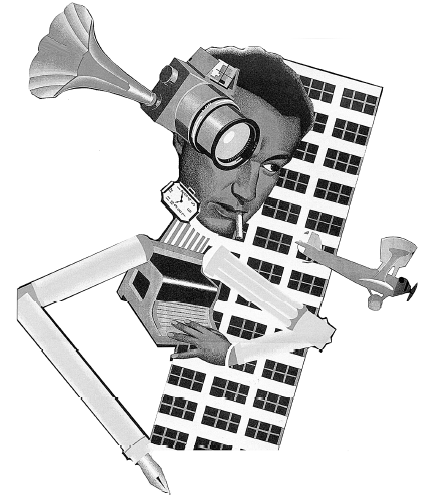
Пиджак оказался на спинке кресла. Сложенный пополам, с завернутыми внутрь рукавами. Ровно так, как он его вчера бросил.
Так и должно быть, когда живешь один. Все вещи находишь там и так, как их сам же оставил.
Но это-то и было странно. Потому что каждое утро Зайцев – где бы ни бросил вечером – находил пиджак на стуле. Проветренным, расправленным, выбитым и вычищенным либо «моей нянькой», либо «моей кухаркой». Бросал мятым, заляпанным, пыльным. А находил – Самый Чистый Пиджак Советского Союза.
Вчерашний хлеб тоже не был нарезан. А лежал там, где выложил его Зайцев, – в газете на столе. И это была вторая странность. Хозяйства у Зайцева не было, и «нянька» с «кухаркой» остервенело набрасывались на то немногое, что могли сделать: брать у него деньги просто так, задаром спать у Паши в углу им было совестно.
А теперь пиджак и хлеб лежали нетронутыми.
На сердце у Зайцева сразу стало так тошно, точно через минуту предстояло умереть. «Соседи стукнули – и ночью забрали».
Вышел на общую кухню за кипятком. Соседки пожелали «доброго утра». Одна вешала белье. Другая варила кашу. Третья караулила кастрюльку с бигуди. За развешанными простынями слышалось «вжик-вжик-вжик» – кто-то чистил обувь. «Не насри мне тут смотри. Ваксой-то. Брызги вон летят», – пробурчала невидимой щетке соседка: не злобно – устало. Зайцев посторонился: пропустил соседа с дровами. «Добренькое утречко». Отозвался: «Доброе». И подумал: «Кто-то из них – стукнул». И двух женщин, сбежавших из голодающей деревни в город, все-таки настигла злая доля. А мальчик? Взяли с матерью и в детдом теперь… Не пожалели, с отвращением глядел он на хлопочущих соседок. С виду человек. Но только с виду. Тронь – ощерится. Полезет из человеческой оболочки чудище.
– Ты чего, товарищ Зайцев? – сердобольно удивилась соседка с пустым тазом в руках.
– Что?
– Больной какой-то на вид. Выпимши вчера был, что ли?
Он еле сумел выдавить:
– Нет.
«Кто-то из них – донес». Написал донос, погубил двух женщин, ребенка. И живет дальше, как ни в чем не бывало. Здоровьем моим интересуется. «И я никогда не узнаю кто». Он прислонился лбом к дверному косяку. Желудок схватило ледяной коркой. «А Паша?!» Обе крестьянки и мальчик спали в ее дворницкой комнатке. Если взяли ночью, то у Паши. А если и ее…
– Вы хорошо себя чувствуете? – тут же отозвалась другая. И даже «вжик-вжик» прекратилось: сосед показал из-за простыней красную рожу и оказался слесарем Курочкиным. Васильковые глаза его тоже глядели сочувственно:
– Ты чегой, Василий, правда, што ль?
– Вот прицепились. Устал человек, – отозвалась соседка, помешивая бигуди. – Не в конторе штаны просиживает.
– Не обижайся, товарищ Зайцев. Но что-то ты правда зеленый.
– Отлично себя чувствую. Лучше не бывает.
И вышел, забыв, что собирался греть воду.
Хлопотать? Звонить? Куда?
Пройдусь пешком, решил он, спускаясь по ступеням. Мойка с ее неровной и одновременно стройной набережной всегда успокаивала, проясняла мысли… Или наоборот – поступить, как он сам совсем недавно советовал бывшему военному ветеринару? – бросить всё, не заходить больше в квартиру – сесть на первый попавшийся поезд, и…
Толкнул дверь – в утренний свет, в воздушный простор набережной. Поодаль, высоко над крышами сверкал на солнце бронзовый шлем Исаакиевского собора.
Паша нашлась у парадной. В дворницком фартуке, при бляхе. Стуча по дну, вытряхивала ведро в бак. Зайцев так удивился, что даже не смог обрадоваться.
– Привет, Паша.
– Здорово. На службу чешешь?
– Не. Бросил я ее, Паша. Скучно.
Ведро остановилось.
– Чего я там хорошего, красивого вижу?
Недоверчивый взгляд – ждет продолжения.
– В цирк решил поступить.
Паша усмехнулась. Покачала неодобрительно головой:
– Треплешься.
И не дожидаясь ответа:
– Да они тя допоздна ждали. Подосвиданькаться чтобы. Я им: не надо. Последний день, што ль? Служба у него: он, может, сегодня в ночь ушел. Не поминайте лихом. Идите уже с богом.
– Куда?
На сердце отлегло. Паша волокла бак, рассказывая на ходу:
– Да место приискали. Семья с детками. На Петроградке. А у других старуха лежачая, в Озерках. Им сиделка нужна была, и мальчишка не помеха.
От сердца разлилось тепло. И оно сразу перемешалось с жаром стыда: а думал на соседей.
Паша остановилась, вытерла руки о фартук. Запустила руку в карман, выудила:
– На вот те. Передать велели. На вечную добрую память.
На большой грязной ладони был корявый, слегка смявшийся в Пашином кармане пластилиновый слоник, весь в маленьких отпечатках пальцев. Точнее, слониха – знаменитая ленинградская Бетти: Сашка с матерью успели побывать в зоосаде, доселе невиданный зверь поразил мальчишку.
Зайцев взял.
– Ну что ж. Конец Самому Чистому Пиджаку Советского Союза. Эх, недолго ходил я женихом. А, Паша? …Только ты вот что: больше так не делай. Предупреждай.
Паша помолчала. Потом поняла, что он имел в виду. Ей не впервой было отпирать ворота ночному автомобилю, показывать, где нужная квартира, выступать свидетельницей при обыске. А потом вешать на опустевшую комнату замок.
– Вел, – сказала она. Подхватила бак и потопала по своим дворницким делам дальше.
* * *
В кабинете все так же садились раз и навсегда заведенным порядком. Крачкин – всегда на диван, в одном и том же углу, так что Зайцев невольно гадал, не образовалась ли там лунка по форме крачкинского зада. Серафимов тоже облюбовал диван, но сиденье было табу, зато подлокотники годились оба. Но сейчас он сидел подальше от Крачкина. Самойлов плюхнулся на привычный стул. Нефедов влился в бригаду последним – и получил подоконник. Зайцев вдруг подумал: а ведь если что, Нефедов выскользнет через окно и уйдет по карнизу, белкой сползет по водосточной трубе, кошкой удерет в чердачный лаз. Нефедов глядел обычным сонным взглядом – на всех и в никуда, но Зайцев видел: тело собрано. Отогнал эти мысли, заговорил:
– Так. Значит, из сухих фактов у нас пока только время смерти и орудие убийства. Это ровно на два факта больше, чем безнадежно.
– Цацки фукнули – тоже факт.
– А вот это, Самойлов, – повернулся к нему Зайцев, – пока еще не факт! Их нет там, где показала свидетельница, они должны были быть. Но украли их или Варя сама перепрятала, мы не знаем. Может, она их вообще кому-то подарила!
– Племяннице из Бобруйска, ага, – не удержался Самойлов.
– Кстати, билет, – отозвался из своего угла Крачкин.
Расправленный пинцетом трамвайный билетик Крачкин уже пропустил через пары йода, чтобы нарисовались «пальчики». Но довольным не выглядел.
– Ничего? – все же уточнил Зайцев.
– Смазанные.
Прежде чем выбросить или обронить, билетец скатали в твердый шарик.
– Вот если бы он его просто смял и бросил, – размечтался Крачкин.
– Или она, – подал голос Самойлов.
– Женщина? – пробормотал Зайцев. – Маловероятно. Чтобы так нож вогнать, сила нужна.
– Или страсть, – не сдавался Самойлов. – Бабы баб чаще всего пыряют. Или травят.
– А с чего мы вообще решили, что билетик этот преступник, а не честный гражданин обронил?
– Мы ничего не решили, – задребезжал Крачкин: он нашел билет, он обратил на него внимание и потому принял экивоки на свой личный счет. – Проверяем все попавшие в поле зрения факты. Наука покажет: честный там гражданин или преступник.
– …преступница, – веско поправил опять Самойлов.
Зайцев это отметил:
– Ты что-то сегодня свирепо против прекрасного пола настроен. Что у тебя на уме, Самойлов, рассказывай.
– Не у меня, а у нас. И не на уме, а в коридоре. Профессорша сидит. Которая маникюрша. Любопытный кадр.
– Понял, Самойлов. Сейчас закончим здесь и вместе с профессоршей-маникюршей побеседуем.
Самойлов кивнул и с виду потерял интерес к совещанию: вытащил из-под задницы газету, тряхнул листы, отгородился. Неприятности в германском рейхстаге, похоже, продолжались, успел заметить на первой странице Зайцев. Заметил и отмел.
– А какие маршруты трамвайные поблизости дома убитой проходят, мы уже знаем? – продолжал он.
Никто не ответил, не повернул головы. Зайцев понял, кто имелся в виду. Посмотрел на Нефедова, тот зашуршал своей бальной книжечкой для записи танцев и кавалеров.
– Двойка, тройка…
– И туз? – перебил Крачкин, искушение сострить было слишком велико. Нефедов ухом не повел:
– …и тридцать первый.
– Отлично. Выясни, Нефедов, как эти маршруты идут. Да обрати внимание на торгсины и комиссионки по этим маршрутам. Возьми списочек пропавших цацок, который соседка Синицына составила, да ориентировочку в торгсинах и комиссионках дай. Маршрутами этими не ограничивайся. Но с маршрутов начни.
– Думаешь, он дурак такой…
– Или дура, – подал голос из-за газеты Самойлов.
– Не обязательно дурак. Но и не профессор тоже. Или профессорша… Тьфу, Самойлов, из-за тебя теперь и я про бабу думать стал.
Самойлов отвел от лица газетный лист и показал довольную ухмылку.
– Если только… – уже размышлял вслух Зайцев. – Если только сразу в частные руки не уплыли побрякушки.
– Быстро больно. Вещи, судя по описанию, крупные, броские. Не дешевые. Покупателей на такое найти…
Зайцев не дал Серафимову договорить:
– Постой. Мне на ум сразу пришло – ты про «быстро» совершенно прав. И про покупателей тоже. И про то, что вещицы – броские. Вот я и думаю: не нашел ли злоумышленник наш… Или, Самойлов, злоумышленница. …Не нашел ли он сперва – интересанта. Покупателя. Или покупатель – его нашел.
– То есть?
– Что, если Варины цацки под заказ красть наметили? А саму Варю шлепнули только потому, что дома оказалась. Сказали же соседи: из квартиры не выходила.
– А нож? – подал голос Крачкин.
Четыре пары глаз внимательно смотрели на него. Цепко, внимательно: охота началась. Зайцев ощутил нечто вроде нежности: «Мы можем ненавидеть друг друга, подозревать, презирать. Но вместе работать – это сильнее страсти, больше, чем любовь».
– Меня, как всегда, занимает психология.
– Давай, Крачкин.
– В преступной жизни имеется элемент профессии. Легко решается на убийство тот, кто уже убивал. А грабитель, вор, тот с малой вероятностью расширит свое амплуа. Он скорее сбежит, а не убьет, если операция пошла не по плану.
– Да, ты прав, – согласился Зайцев. – Соседи нож не опознали. Вполне вероятно, что преступник принес его с собой. Если принес, то был готов к убийству, а значит, не первый раз убивал.
Он заметил, что при этих словах Нефедова слегка передернуло. А Крачкин скептически вскинул брови.
– …Знаю, Крачкин, не сходится! – заключил Зайцев.
– Это почему это?
Ответил Крачкин:
– Потому что, Самойлов, ты лясы точил, пока мы там с товарищами мебель двигали.
– При чем здесь мамины галоши? – обиделся тот. – Я, между прочим, тоже работал.
Зайцев пропустил их пикировку мимо ушей:
– Видишь ли, Самойлов, срач, там, конечно, неописуемый. Но по-своему упорядоченный. Если бы борьба была… Там бороться-то негде. Мы сами с трудом втиснулись. Места живого нет. Да и лежала убитая больно смирно – будто во сне ее смерть застала.
– А если была борьба? И мебеля раскидали? А только потом кто-то все поставил на место? А что? Ведь прикрыла Наталья убитую шалью и разбитое яйцо прибрала. Может, и убитую поприличнее положила – тоже она.
– Молодец, Сима. Всегда все подвергай сомнению. Смотри с разных сторон. И сопоставляй. Только мой ответ: нет. Шалью, может, и прикрыла, яйцо прибрала, позочку хозяйке поправила, – мы об этом с ней еще потолкуем. Но мебель – никто не трогал. Ты вспомни, какая пылища на всем лежала. Махрами свисала. Нет, эти вещи давно никто с места не сдвигал.
Все помолчали. «Ангел родился», как говорили в Питере, и первым ожил Серафимов:
– Кто ж это цацки ее так страстно захотел, что человека за них порешил?
– А это, Сима, очень большой, хороший и насущный вопрос, – поддержал Зайцев. – Но это кошка рыбу всегда с головы ест. А мы начнем не с головы, которая это затеяла, а с рук, которые преступление совершили. Посмотри-ка наших старых знакомых: кто в картотеке числится, но в настоящий момент на свободе временно гуляет. Пошли, Самойлов, к профессорше маникюр делать.
Все поднялись. Сполз с подоконника Нефедов.
– А знаешь, Сима, – спохватился Зайцев, когда тот уже показал затылок. – Может, и ты тоже прав.
– Я часто прав, – проворчал он. – Ты что сейчас имеешь в виду?
Крачкин бросил выразительный взгляд, поднял перед ним большой палец: мол, браво, моя школа. Серафимов хлопнул его по руке, убирая: мол, нечего пальцами тыкать.
– Кошки, они тоже не дуры, когда с головы начинают. Верно, по описаниям цацки броские…
– Если только мадам Синицына не преувеличила, – встрял Крачкин. – Что простой бабе царские уборы, то работнику торгсина – дутое колечко.
– Психология, да, Крачкин. Но допустим, Синицына не преувеличила. Может такое быть? Может. Если она не врет, она эти цацки часто видела, присмотрелась, пообвыклась – уже не ослепляли они ее красотой своей и богатством. А судя по описаниям подробным, не врет. Хорошо рассмотрела, хорошо знала. …Не всегда же убитая затворницей была. Что, если помнил ее кто по прошлой жизни? Как она в уборах своих тогда фигуряла.
– Театр, ресторан… – начал перечислять Крачкин. – Только так полгорода в подозреваемые записать можно.
– Ты, Крачкин, меня нарочно стращаешь, – пихнул его локтем Серафимов. – Что ж теперь, пол-Ленинграда проверять?
– А ты, Сима, учись, – наставительно перебил Зайцев. – Мы с тобой на горшке сидели, когда Крачкин уже за бандитами бегал. И старую жизнь он получше нас знает.
– Разумеется, – надменно процедил Крачкин.
– Не пол-Ленинграда, – продолжал Зайцев. – Кокнуть Варю мог кто угодно. А вот позволить себе такие финтифлюшки и сейчас может не любой. Может, он их коллекционирует. Может, бабенка его в комиссионки чаще обычного наведывается и без покупок не уходит. На все это деньги нужны. Поводи носом, Сима. Вдруг золотой песочек нас куда приведет.
– Господи, – зарокотал из коридора Самойлов. – Как же я это ненавижу. Еврейские проводы. Уже встали все, польты натянули. Приветы передали, попрощались. А все в дверях стоят – и лалалалала.
– Договорились, Сима? Ура. Удачи. А ты Нефедов – на трамваях кататься… Всё, разбежались. Самойлов, лечу на крыльях любви. Где там маникюрша твоя? Веди.
– А я? – крякнуло вслед.
– Крачкин! Да тебе ж самое сложное! – Зайцев хлопнул себя по лбу. На самом деле, для старого сыщика предназначалось дело, для которого не требовалось бегать, ходить, толкаться в душном вагоне. – Надо установить круг знакомств нашей затворницы. Так что тебе – самое интересное: читать чужие письма. Которые Сима в панталонах у актрисы нашей отрыл.
– Ни за что! – донеслось ему вслед. – Я джентльмен.
Донеслось – и утонуло в гоготе Самойлова.

