ГЛАВА 4
Все утро Ностромо, даже находясь в самой гуще схватки у таможни, где страсти разыгрались сильнее всего, то и дело поглядывал на Каса Виола. «Если оттуда повалит дым, — думал он, — значит — они погибли». Поэтому, едва разогнав тех, кто пытался прорваться к таможне, он с небольшой группой рабочих итальянцев ринулся вдогонку за бандитами, бежавшими к гостинице, поскольку проселок, у которого она стояла, был кратчайшим путем из порта в город. Негодяи, за которыми он гнался, казалось, решили обороняться, притаившись за углом гостиницы; их обратил в бегство залп — соратники Ностромо выстрелили одновременно из-за колючих зарослей алоэ. В просвете среди зарослей, где должна была пройти ведущая в гавань колея железной дороги, появился Ностромо верхом на серебристо-серой кобыле. Он с криком выстрелил вслед беглецам и галопом подскакал к окну столовой. Он догадывался, что старый Джорджо выберет в качестве убежища именно эту часть дома.
До них донесся его голос, задыхающийся, торопливый:
— Hola! Vecchio! O, vecchio! Как там у вас, все в порядке?
— Ты слышишь?.. — негромко обратился старик Виола к жене.
Но синьора Тереза молчала. Ностромо засмеялся.
— Сдается мне, хозяйка осталась в живых!
— Уж ты-то сделал все, чтобы я померла со страху, — крикнула в ответ синьора Тереза. Она хотела еще что-то добавить, но голос изменил ей.
Линда вскинула на мать укоризненный взгляд, но старый Джорджо тут же извинился за жену:
— Она немного расстроена, вот в чем дело.
Ностромо снова захохотал:
— Зато меня она не расстроит.
Тут синьора Тереза вновь обрела голос:
— А я что говорю? У тебя нет сердца… да и совести у тебя нет, Джан Батиста…
Они услышали, как он повернул лошадь. Его спутники намеревались продолжать погоню и возбужденно тараторили между собой на испанском и итальянском, подстрекая друг друга. Он выехал вперед с криком: «Avanti!»
— Не так-то долго он у нас пробыл. Еще бы, мы не иностранцы, от нас награды не дождешься, — усмехнувшись, произнесла синьора Тереза. — Avanti! Как же! Ему только этого и нужно. Быть первым где угодно… как угодно… всегда быть первым у своих англичан. А они показывают его друг дружке. «Вот наш Ностромо!» — Она недобро рассмеялась. — Ну и имечко! Да что оно значит? Ностромо! Дали человеку кличку, ведь у них даже и слова-то такого нет.
Старый Джорджо тем временем спокойно и неторопливо отворил дверь; в комнату хлынул поток света и озарил синьору Терезу с тесно прижавшимися к ней дочерьми; она была живописна — красивая женщина, охваченная порывом материнской любви. А сзади ослепительно белая стена и литография, кричащие краски которой поблекли, залитые ярким светом солнца.

Старый Виола, стоя у дверей, поднял вверх руки, словно адресуя все мысли, сумбурно проносящиеся у него в мозгу, портрету вождя на стене. Даже стряпая для «signori inglesi» — инженеров (он был отменный повар, хотя работать ему приходилось в полутемной кухне), он ощущал на себе взгляд великого человека, того, под чьим командованием когда-то участвовал в славной битве, где чуть не рухнула навеки тирания, если бы не проклятые пьемонтцы, привыкшие к владычеству королей и попов. Если во время ответственнейшей операции с нарезанным луком вдруг загоралась сковородка и старый Джорджо с бранью выскакивал из кухни, задыхаясь от кашля в едком облаке дыма, имя Кавура — подлого интригана, продавшегося тиранам и королям, — упоминалось вперемежку с проклятиями, извергаемыми на головы китаянок-подручных, кулинарии вообще и омерзительной страны, где он вынужден жить, так как любит всей душой задавленную предателем свободу.
В таких случаях синьора Тереза, красивая, чернобровая, вся в черном, возникала из других дверей, приближалась к мужу, осанистая и встревоженная, склонив голову, раскинув руки и проникновенно восклицая:
— Джорджо! Необузданных ты страстей человек! Милость господня! На таком солнце! Он доведет себя до болезни!
Оказавшиеся у ее ног куры бросались врассыпную; а если в это время в город приезжали по делам инженеры с железной дороги, из окна бильярдной выглядывало лицо, явно принадлежащее молодому англичанину, а иногда и два таких лица; зато в другой части гостиницы, в столовой, мулат Луис прилагал все старания, чтобы остаться незамеченным. Молодые индианки, чья одежда состояла из сорочки и короткой юбки, а густые волосы напоминали струящуюся черную гриву, тупо таращились на хозяйку из-под квадратных челок, закрывавших весь лоб до бровей; но вот кипящий жир переставал скворчать, вредоносные пары, пронизанные светом солнца, устремлялись кверху, оставляя за собой только запах пережаренного лука, резкий и настолько стойкий, что он надолго застревал в горячем сонном воздухе у гостиницы; а вокруг неоглядные просторы прерий, протянувшиеся на запад так далеко, что казалось, огромная равнина между грядами гор, в пределы которой попадал и Сулако, и все побережье до бухты Эсмеральда , занимает полмира.
После внушительной паузы синьора Тереза укоризненно произносила:
— Ох, Джорджо, Джорджо! Забудь про Кавура да подумай лучше о себе, мы здесь такие одинокие, в чужой стране с двумя детишками, а все потому, что ты не можешь жить там, где правит король.
И, глядя на мужа, она иногда торопливо хваталась рукою за бок, ее тонкие губы сжимались в этот миг, и хмурились прямые черные брови — то ли боль, боль гнева, то ли гневная мысль тенью пробегала по красивым правильным чертам.
Это была боль; усилием воли она подавляла ее приступ. Впервые боль кольнула ее через несколько лет после того, как, покинув Италию, они эмигрировали в Америку и устроились наконец в Сулако, а сперва долго-долго кочевали из города в город, в надежде открыть где-нибудь лавку; попробовали также как-то в Мальдонадо заняться рыболовством, ибо Джорджо, подобно великому Гарибальди, был в свое время моряком.
Иногда синьоре Терезе казалось, она не в силах вынести эту боль. Ведь сколько лет она ее донимает, и уже как бы неотделима от местного ландшафта: равнины и сверкающего залива, обрамленного лесистыми отрогами гор; даже солнце светит тускло, тяжко, эта тяжесть — тоже боль, — совсем не так оно светило в годы ее девичества, когда на берегу залива Специя немолодой уже Джорджо ухаживал за ней с угрюмой страстностью поздней любви.
— Джорджо, немедленно иди в дом, — приказывала она. — Можно подумать, у тебя нет даже капли жалости ко мне… а ведь у нас гостят четверо signori inglesi.
— Va bene, va bene ,— бормотал Джорджо.
И послушно шел в дом. Signori inglesi и в самом деле скоро потребуют второй завтрак. Он был одним из бессмертных и непобедимых борцов за свободу, под натиском которых тирания развеялась, как мякина при первом дуновении урагана, un uragano terrible . Но тогда у него еще не было ни жены, ни детей; и тираны еще не подняли вновь голову, и предатели еще не подвергли заточению Гарибальди, его героя и вождя.
В Каса Виола со стороны фасада было три входных двери, и на пороге одной из них всегда сидел старик гарибальдиец, сложив руки, скрестив ноги, опираясь о косяк львиной головой с пышной копной седых волос, и разглядывал лесистые склоны предгорий и снежный купол Игуэроты. Дом отбрасывал длинную черную тень — прямоугольник, который слегка расширялся там, где проходила пыльная, разбитая воловьими копытами дорога. Из просветов в живой изгороди олеандров выбегали рядышком две сверкающие ленты ведущей в гавань железнодорожной ветки, временно проложенной по равнине, и, удаляясь, описывали дугу на пожухлой выжженной траве ярдах в шестидесяти от гостиницы. Вечерами порожние платформы товарных поездов огибали темно-зеленую рощу и, оставляя за собой белые, слегка волнистые струйки дыма, плывущие над равниной в сторону Каса Виола, с грохотом уносились в расположенные близ порта депо. Машинисты итальянцы приветственно махали хозяину гостиницы рукой, тормозные же рабочие негры невозмутимо сидели у тормозов и глядели прямо перед собой — лишь ветер трепал широкие поля их шляп. В ответ Джорджо слегка кивал головой, руки же оставались неподвижно сложенными на груди.
В день мятежа он не сидел, сложив на груди руки. Рука его сжимала приклад лежавшего на пороге ружья; и он ни разу не взглянул на белый купол Игуэроты, холодная чистота которого представлялась такой далекой от жаркой и знойной земли. Его глаза с любопытством оглядывали Кампо. То здесь, то там медленно оседали высокие столбы пыли. На безоблачном небе ослепительно сверкало солнце. Какие-то люди, сбившись кучками, бежали по равнине; иные вдруг останавливались; и не смолкал треск выстрелов, звучавших вразнобой, — в горячем неподвижном воздухе он смягчался и походил на журчание ручья. Во всю мочь мчались одинокие фигурки пеших беглецов. Налетали друг на друга верховые и, завертевшись волчком в короткой стычке, уносились в разные стороны во весь опор. Джорджо видел: вот на полном скаку внезапно упали и лошадь, и всадник, исчезли, будто в пропасть провалились, и все перипетии боя на словно чудом ожившей равнине напоминали жуткую игру, которую вели между собой пешие и конные карлики, вопившие во всю мочь своих крохотных глоток у подножья горы, которая казалась исполинским символом тишины. Джорджо никогда еще не видел, чтобы на этом участке Кампо так бушевала, так кипела жизнь; он не мог единым взглядом охватить поле битвы; заслонил рукой глаза, но внезапно вздрогнул: где-то совсем рядом земля загудела под ударами множества копыт.
Целый табун лошадей повалил изгородь и вырвался на волю из загона, принадлежавшего железнодорожной компании. Они помчались, словно смерч, и перемахнули через колею сплошным, разношерстным, бурливым потоком вороных, гнедых и серых спин, всхрапывая, взвизгивая, брыкаясь, вытянув шеи, выпучив глаза, раздувая ноздри, и длинные хвосты их развевались на бегу. Как только они очутились на дороге, густая туча пыли поднялась от их копыт, и уже в пятнадцати шагах от себя Джорджо видел лишь что-то коричневое, смутно мелькали шеи, крупы, тряслась земля.
Он закашлялся, отвернулся и покачал головой.
— Сегодня, еще до наступления темноты, будет новая забава — ловля диких лошадей, — пробормотал он.
В квадрате солнечного света, который падал в дверь, стояла на коленях синьора Тереза, склонив голову и сжимая ладонями гладко зачесанные густые черные, как вороново крыло, волосы, слегка тронутые сединой. Черная кружевная шаль, которой она обычно прикрывала лицо, свалилась на пол. Девочки уже поднялись с колен, крепко держась за руки, обе в коротеньких юбках, с растрепанными головенками. Младшая торопливо заслонила глаза рукой, будто испугавшись яркого света. Линда обняла сестренку за плечи и бесстрашно смотрела прямо в раскрытую дверь. Старик Виола поглядел на дочерей.
В потоке солнечного света казались глубже все морщины на его лице, что придавало ему неподвижность статуи, невзирая на живое, энергическое выражение. Невозможно было догадаться, о чем он думает. Взгляд темных глаз скрывали густые кустистые брови.
— Ну! Мать молится, а вы-то что?
Линда насупилась, выпятив красные губки, пожалуй, слишком красные; у нее были чудные глаза, карие, с золотистой искоркой, умные и выразительные и такие блестящие, что казалось, от них падает отблеск на худенькое, лишенное красок лицо. В темных волосах проглядывали бронзовые пряди, а из-за длинных угольно-черных ресниц лицо казалось еще бледнее.
— Мама опять поставит в церкви много, много свечей. Когда Ностромо где-нибудь сражается, она всегда их ставит. Я отнесу несколько свечек к алтарю мадонны в соборе.
Линда произнесла все это быстро и с уверенностью, голосок ее звучал убедительно и оживленно. Потом, слегка тряхнув сестренку за плечо, добавила:
— Ей тоже придется отнести одну свечку!
— Почему придется? — поинтересовался Джорджо. — Разве ей не хочется поставить свечу?
— Она трусишка, — пояснила Линда и фыркнула. — Когда она с нами идет, все сразу замечают, что у нее светлые волосы. Кричат ей вслед: «Взгляните-ка на рыжую! На рыженькую поглядите!» Мы идем по улице, а они кричат. Она трусишка.
— Ну, а ты? Ты не трусишка …так, что ли? — медленно произнося слова, спросил отец.
Она мотнула головой, откинув волосы со лба.
— Мне вслед никто ничего не кричит.
Старый Джорджо задумчиво и внимательно смотрел на девочек. Одна всего на два года старше другой. Поздние дети, они родились, когда прошло уже несколько лет после смерти сына. Если бы их сын не умер, он был бы сейчас примерно ровесником Джана Батисты… того самого, кого англичане называют Ностромо; но что касается дочерей, угрюмый нрав, преклонный возраст и власть воспоминаний помешали Виоле обращать на них особое внимание. Он любил их, но дочери всегда принадлежат больше матери, чем отцу, к тому же почти весь пыл своего сердца он растратил на то, что боготворил свободу и служил ей.
Еще подростком он сбежал с торгового судна, шедшего с грузом в Ла Плату, и в Монтевидео завербовался в уругвайскую эскадру, которой в те времена командовал Гарибальди. Позже в рядах итальянского легиона этой республики, восставшей против деспотического вмешательства Розаса , он на огромных равнинах и берегах громадных рек участвовал в сражениях столь жарких, каких, возможно, еще не знала мировая история. Люди, окружавшие его, витийствовали о свободе, страдали за свободу, умирали за свободу, самозабвенно и восторженно, а взгляд их был все время обращен в сторону угнетенной Италии. Так и его энтузиазм был взращен в кровавых битвах, в грохоте сражений, среди людей, посвятивших себя благородному делу, среди речей, преисполненных пафоса и пыла. Он сам выбрал себе вождя — воинствующего апостола Независимости — и никогда не покидал его, был с ним и в Америке, и в Италии, вплоть до рокового дня, когда у подножия Аспромонте произошло событие, открывшее миру коварство королей, императоров и попов: его герой был ранен и взят в плен — чудовищная катастрофа, заставившая Джорджо усомниться в своей способности понять пути божественного промысла.
Что не мешало ему веровать, однако. Просто нужно набраться терпения, говорил он. Он не любил попов и не вошел бы в церковь ни за какие блага, но он веровал в бога. Ведь все воззвания против тиранов были обращены к народу во имя бога и Свободы. «Бог — для мужчин, религия — для женщин», — бормотал он порой. В Сицилии англичанин, попавший в Палермо после того, как оттуда были выведены королевские войска, подарил ему библию на итальянском языке — издание «Библейского общества Британии и заморских стран», большую книгу в темном кожаном переплете. В годы застоя, политического бездействия, когда революционеры не выступали с воззваниями, Джорджо зарабатывал себе на жизнь всем, что под руку подвернется, — служил матросом, грузчиком в генуэзском порту, нанялся однажды батраком на ферму в горах близ Специи — и в свободное от работы время неизменно изучал толстый том в темной обложке. Он брал его в бой. Сейчас библия стала единственной книгой, которую он читал, и, чтобы не лишать себя этой возможности (из-за мелкого шрифта), он согласился принять в подарок очки в серебряной оправе от сеньоры Эмилии Гулд, супруги англичанина, который управлял в горах, в трех лье от города, серебряными рудниками. Сеньора Эмилия была единственной англичанкой в Сулако.
Джорджо Виола очень уважал англичан. Это почтение, возникшее впервые в уругвайских битвах, не покидало его уже сорок лет. Он видел, и не раз, как англичане проливали свою кровь ради свободы в странах Америки, и особенно запомнил первого, с кем познакомился — его звали Сэмюель; во время славной осады Монтевидео он командовал негритянской ротой в войсках Гарибальди и геройски погиб вместе со своими неграми при переправе через Бойану. Сам Джорджо получил тогда чин поручика и готовил еду для генерала. Позже, в Италии, в чине лейтенанта он разъезжал повсюду со штабом и по-прежнему стряпал для генерала. Он стряпал для него в продолжение всей ломбардской кампании; во время похода на Рим он добывал быков и коров на американский манер при помощи лассо; был ранен, защищая Римскую республику; оказался в числе четырех беглецов, которые вместе с Гарибальди вынесли из леса бесчувственное тело его жены и спрятали ее на какой-то ферме, где она и умерла, измученная тяготами этого кошмарного отступления. Он пережил все это и по-прежнему оставался при генерале в Палермо, когда на город обрушились из замка ядра неаполитанцев. Он стряпал для него на поле боя при Волтурно, сражения, продлившегося целый день. И всюду он встречал англичан в первых рядах армии свободы. Он испытывал почтение к этой нации, ибо они любили Гарибальди. Говорили, даже их графини и принцессы целовали руки генерала, когда он приезжал в Лондон. Джорджо охотно этому поверил: англичане благородная нация, человек же этот был святой. Достаточно хоть раз взглянуть ему в лицо, чтобы прочесть на нем божественную силу веры и безграничное сочувствие ко всем, кто беден, кто угнетен, кто страдает.
Дух самопожертвования, бесхитростная преданность грандиозной идее человеколюбия, определявшие мироощущение в ту революционную эпоху, наложили отпечаток на Джорджо, и он с суровым пренебрежением относился к любым попыткам достичь личной выгоды. Этот человек, которого чернь Сулако подозревала в том, что он хранит где-то на кухне кубышку, всю жизнь презирал деньги. Кумиры его юности прожили жизнь в бедности и умерли бедняками. У него вошло в привычку никогда не думать о завтрашнем дне. Привычку эту породила отчасти суровая жизнь воина, полная волнений и неожиданных поворотов судьбы. Но важнее принципы. Равнодушие к житейским благам не было беспечностью кондотьера, скорее неким пуританством образа жизни, взращенным, подобно религиозному пуританству, суровым вдохновением души.

Эта суровая преданность делу омрачила закат его жизни. Омрачила, ибо дело казалось проигранным. Слишком много королей и императоров благоденствовали еще в этом мире, предназначенном господом богом для народа. И Джорджо искренне горевал. Он всегда охотно оказывал помощь землякам и пользовался глубочайшим уважением эмигрантов из Италии везде, где ему приходилось жить («в моем изгнании», — говаривал Джорджо), но он не мог скрыть от себя, что земляков нисколько не волнуют бедствия угнетенных наций. Они с интересом слушали его рассказы о войне, но, казалось, недоумевали, а что же приобрел он, совершая все эти ратные подвиги? Похоже, ничего. «Да мы и не хотели ничего, мы жертвовали собой из любви к человечеству», — яростно выкрикивал он порой, и громовые раскаты его голоса, сверкающие глаза, развевающаяся седая грива, загорелая мускулистая рука, протянутая вверх, словно он небеса призывал в свидетели, производили впечатление на слушателей. Когда старик внезапно замолкал, напоследок тряхнув головой и махнув рукой: «Стоит ли, мол, с вами говорить?», они подталкивали друг друга локтем. В старом Джорджо была сила чувств, присущая только ему страстная убежденность, словом, то, что они называли «terribilità»; «старый лев», так они его величали. Какой-нибудь пустячный случай, ненароком брошенное слово, и Джорджо начинал говорить на берегу в Мальдонадо перед итальянцами рыбаками, с земляками покупателями в лавочке, которую держал уже позже (в Вальпарайсо); или вдруг вечерами в столовой, в той части Каса Виола (другая предназначалась для английских инженеров), где собиралась его избранная клиентура: паровозные машинисты и десятники из железнодорожных мастерских.
Обратив к нему красивые, загорелые, худые лица с глянцевитыми черными кудрями и сверкающими глазами, широкоплечие, бородатые, а кое-кто с тоненькой золотой серьгой в ухе, эти аристократы железной дороги внимали Джорджо, позабыв о домино и картах. Два-три светловолосых баска терпеливо выжидали, положив на стол руки и разглядывая их. Никто из уроженцев Костагуаны не осмеливался вторгнуться сюда. Здесь была цитадель итальянцев. Даже ночной патруль конной полиции проезжал мимо гостиницы неслышным шагом, и полицейские лишь пригибались на ходу, стараясь увидеть в окошке окруженные табачным дымом головы; а раскаты голоса старого Джорджо доносились смутно и, казалось, уплывали, растекаясь по равнине у них за спиной.
Лишь изредка помощник полицмейстера, широколицый, коричневый, низкорослый джентльмен с изрядной примесью индейской крови, заглядывал в гостиницу. Оставив за дверями сопровождающего его верхового, он входил с самоуверенной хитрой усмешкой и, не говоря ни слова, приближался к длинному столу на деревянных козлах. Молча указывал на одну из стоящих на полке бутылок; Джорджо угрюмо совал в рот трубку и обслуживал его самолично. Стояла тишина, лишь еле слышно позвякивали шпоры. Опорожнив стакан, помощник полицмейстера обводил всю комнату внимательным неторопливым взглядом, а затем удалялся, вновь садился на лошадь, и патрульные медленно продолжали свой путь в сторону Сулако.
ГЛАВА 5
Только таким образом местные власти осмеливались показать свою силу многолюдной колонии мускулистых иностранцев, которые копали землю, взрывали скалы, водили поезда для развития «прогрессивного и патриотического предпринимательства». Именно так за полтора года до описываемых нами событий его превосходительство сеньор дон Винсенте Рибьера, диктатор Костагуаны, назвал Национальную Центральную железную дорогу в пышной речи, произнесенной по случаю первого удара киркой на строительстве.
Для этого он и прибыл в Сулако, и в его честь компания ОПН устроила парадный обед, имевший место на борту «Юноны» в час пополудни, как только закончились торжества на берегу. Капитан Митчелл самолично стоял у штурвала баркаса, каковой, сверху донизу украшенный флагами и доставленный на буксире паровым баркасом с «Юноны», в свою очередь доставил с пристани на корабль его превосходительство. Были приглашены все уважаемые обитатели Сулако: два иностранных коммерсанта, а также находившиеся в городе представители старинных испанских семейств, владельцы крупных поместий, расположенных на равнине, степенные, учтивые, простодушные кабальеро безупречного происхождения, с маленькими руками и ногами, консервативные, гостеприимные, доброжелательные. Западная провинция была их твердыней; их партия «бланко» ныне восторжествовала; страну возглавил их президент-диктатор, истый, неподдельный «бланко», который сидел, любезно улыбаясь, между представителями двух дружественных иноземных держав. Упомянутые представители прибыли вместе с доном Винсенте из Санта Марты, дабы своим присутствием санкционировать предприятие, в которое был вложен капитал их стран.
Единственной дамой в этом избранном обществе была миссис Гулд, супруга управляющего серебряными рудниками Сан Томе. Все остальные дамы, живущие в Сулако, были еще не достаточно прогрессивны, чтобы в такой мере принимать участие в общественной жизни. Они украсили собою грандиозный бал, имевший место накануне вечером в ратуше, но на утренние торжества пришла лишь миссис Гулд, единственное светлое пятно на фоне черных фраков, сгрудившихся за спиной президента-диктатора на покрытом алыми полотнищами помосте, воздвигнутом в тени раскидистого дерева на берегу, — там, где происходила церемония первого удара киркой. Она поехала также и на баркасе, битком набитом всяческими знаменитостями, причем стояла на почетном месте, рядом с капитаном Митчеллом, который управлял баркасом, и праздничные флаги развевались у нее над головой, а потом на мрачноватом сборище в длинном изысканном салоне «Юноны» ее нарядное платье вновь являло собой единственное светлое пятно и радовало глаз.
Лицо директора железнодорожной компании (лондонский гость), красивое и бледное, окруженное серебристым ореолом седых волос и подстриженных бакенбардов, маячило над плечом миссис Гулд, полное внимания, улыбающееся и утомленное. Путешествие из Лондона в Санта Марту на почтовых пароходах и в вагоне специального поезда, курсирующего по прибрежной линии Санта Марты (покуда единственная железнодорожная колея), было терпимым… даже приятным… вполне терпимым. Зато путь в Сулако через горы оказался истинным мученьем — они тряслись в каком-то допотопном дилижансе по непроходимым дорогам по самой кромке ужасающих, бездонных пропастей.
— Нас дважды опрокинули в течение дня и оба раза на краю весьма глубоких ущелий, — вполголоса рассказывал он миссис Гулд. — А когда мы наконец приехали сюда, право, не знаю, что мы стали бы делать, если бы не ваше гостеприимство. Этот Сулако — такая глушь, просто дыра… а ведь портовый город все же! Поразительно!
— И тем не менее мы им гордимся. Он представляет собой историческую ценность. В давние времена здесь со всем клиром пребывал глава констагуанской церкви — ее дважды возглавляли члены вице-королевской семьи.
— Я потрясен. Но я отнюдь не собирался умалять значение вашего города. Я вижу, вы большая патриотка.
— Город прелестен. Взгляните хотя бы, как он расположен. Вы, верно, не знаете: среди европейцев я одна из самых старых здешних обитательниц.
— Что имеется в виду под старостью, любопытно узнать, — пробормотал он, посмеиваясь. Живая мимика очень молодила тонкое личико миссис Гулд. — Мы не сможем вам вернуть главу костагуанской церкви со всем клиром; зато у вас появится больше пароходов, железная дорога, телеграфный кабель — то есть будущее в огромном мире, а это несравненно важней, чем глава церкви и его сподвижники. Вам предстоит общение с кем-то более существенным, нежели два члена вице-королевской семьи. Но все же до сих пор я и не представлял себе, что город, расположенный на побережье, может быть в такой степени отрезан от мира. Ну, находись он за тысячу миль от моря… нет, поразительно! У вас тут хоть что-нибудь случилось за последнюю сотню лет?
Он говорил не торопясь, шутливо, а она едва заметно улыбалась в ответ. Подхватив иронический тон своего собеседника, миссис Гулд призналась: в Сулако и в самом деле никогда и ничего не происходит. Даже революции — при ней их было две — почтительно оберегают нерушимое спокойствие города. Они вспыхивают в более населенных южных провинциях республики и на огромной равнине Санта Марты, представляющей собой нечто вроде поля битвы для враждующих партий, где победителю достается столица и выход ко второму океану. Там другие люди, им не чужды новые веяния эпохи. А к ним в Сулако доносятся лишь отголоски всех этих событий, ну и, разумеется, при этом каждый раз все официальные посты в городе занимают другие чиновники, перевалившие через горный хребет, — воздвигнутый природой вал, тот самый, преодолев который, прибыл в старом дилижансе и их уважаемый гость, рисковавший сломать себе шею или ноги и руки.
Директор железнодорожной компании несколько дней пользовался гостеприимством миссис Гулд и был ей искренне за это признателен. Только уехав из Санта Марты он полностью ощутил, что оборвались все его связи с европейской жизнью, до тех пор маячившей все же на фоне экзотического антуража. В столице он был гостем, послом, он вел там оживленные переговоры с членами правительства дона Винсенте — образованными людьми, людьми, имевшими представление о том, как ведут дела в цивилизованном обществе.
Сейчас его более всего интересовало приобретение земель для железной дороги. В долине Санта Марты, где уже существовала железнодорожная колея, люди были сговорчивы — оставалось лишь условиться о ценах. Была создана комиссия, дабы установить твердую стоимость земельных участков, и все решилось просто, благодаря разумному влиянию членов комиссии. А вот в Сулако, в Западной провинции, для развития которой и предназначалась железная дорога, сразу возникли трудности. Защищенный естественными преградами в течение веков, оберегаемый от вторжения современного предпринимательства глубокими ущельями горной гряды; мелкой гаванью, соединенной с заливом, где царили вечные штили и непроницаемой завесой клубились облака; девственной невежественностью владельцев изобильных западных земель — все эти представители старинной испанской аристократии, разные дон Амбросиос такой и дон Фернандос сякой, которые, кажется, и в самом деле с недоверием и недовольством относились к тому, что через их владения пройдет железная дорога.
Работающим в разных уголках провинции изыскательским группам порой грозили применением насилия. В других случаях землевладельцы назначали цены, поистине оскорбительные для компании. Но директор железнодорожной компании гордился своим умением преодолевать любую трудность. И раз уж здесь, в Сулако, он наткнулся на неприязненные настроения, в основе которых лежит слепой консерватизм, то он не станет для начала ссылаться на свои права, он попросту попробует создать иные настроения. Правительство обязано выполнить обязательства, указанные в контракте с компанией, и сделает это любой ценой вплоть до применения военной силы. Но директору компании менее всего хотелось, чтобы методичное осуществление его планов было поддержано вмешательством вооруженных сил. Его планы были столь многообразны и обширны да к тому же столь заманчивы, что грех было не попытаться их осуществить; вот ему и пришло в голову прихватить президента-диктатора в парадное турне, изобилующее церемониями и речами и завершающееся великим действом — первым ударом киркой на океанском побережье. В конце концов, ведь этот дон Винсенте создан ими. Он олицетворяет собой триумф прогрессивных сил страны.
Таковы факты, и если факты хоть что-то значат, рассуждал сэр Джон, то влияние такого человека немаловажно, и, взяв дело в свои руки, он умиротворит строптивых, а большего не требуется. Организовать турне удалось благодаря помощи очень умелого адвоката, который был известен в Санта Марте как представитель Гулда, управляющего серебряными рудниками, крупнейшим предприятием не только в Сулако, но и во всей стране. Рудники и в самом деле были сказочно богаты. Так называемый представитель, человек несомненно и образованный, и одаренный, казалось, пользовался, не занимая официального поста, огромным влиянием в самых высших правительственных сферах. Он заверил сэра Джона, что президент-диктатор примет участие в путешествии. Правда, он вынужден был с сожалением добавить, что генерал Монтеро настоял на том, чтобы тоже присоединиться к турне.
Генерал Монтеро, который, когда борьба еще только разгоралась, был безвестным армейским офицером и служил на восточной границе, в глуши, присоединился к партии Рибьеры именно в тот миг, когда в силу особого стечения обстоятельств эта несущественная сама по себе поддержка оказалась очень важной. Превратности войны обернулись для него редкостной удачей, а победа при Рио Секо — после длившейся с утра до вечера жестокой битвы — завершила его успех. В результате он стал генералом, военным министром и главой вооруженных сил партии «бланко», хотя его происхождение отнюдь не блистало аристократизмом. О нем прямо говорили, что он и его брат — сироты, воспитанные от щедрот знаменитого путешественника, в услужении у которого умер их отец. Другая версия гласила, что их отец просто жег в лесах древесный уголь и этим зарабатывал на жизнь, а мать их — крещеная индианка.
Тем не менее пресса Костагуаны имела обыкновение величать лесной переход Монтеро, направившего свой гарнизон, едва в стране начались волнения, на соединение с основными силами партии «бланко», «самым героическим воинским подвигом наших времен». Примерно в это же время прибыл из Европы его брат: судя по всему, он служил там секретарем консульства. На родине, однако, он тотчас сколотил небольшую шайку из каких-то бандитов, обнаружив некоторые таланты по части ведения партизанской войны, за что впоследствии был награжден званием военного коменданта столицы.
Итак, диктатора сопровождал военный министр. Правление компании ОПН, работающее ради блага республики в тесном содружестве со строителями железной дороги, по случаю столь важного мероприятия повелело капитану Митчеллу предоставить в распоряжение высоких гостей почтовый пароход «Юнона». Дон Винсенте двинулся от Санта Марты на юг, сел на корабль в Каите, главном порту Костагуаны, и прибыл в Сулако морем. Но директор железнодорожной компании отважно пересек горы в ветхом дилижансе, главным образом ради того, чтобы встретиться со старшим инженером, руководившим изыскательскими работами, который завершал сейчас заключительный объезд участков.
Равнодушный, как все деловые люди, к природе, враждебность которой он привык преодолевать при помощи денег, он был тем не менее поражен ландшафтом, открывшимся ему в лагере, разбитом изыскателями в горах на самом высоком пункте, до которого должна была дойти железная дорога. Он приехал поздно вечером и не успел увидеть умирающий отблеск солнца на засыпанном снегом склоне Игуэроты. Нагромождения черного базальта подобно огромным колоннам открытого портика обрамляли уходившую на запад снежную полосу. Воздух здесь, в вышине, был так прозрачен, что все казалось близким, погруженным в незыблемую тишь, напоминавшую невесомую жидкость; стоя на пороге хижины, сложенной из неотесанных камней, и прислушиваясь, не подъезжает ли дилижанс, главный инженер созерцал, как сменяют друг друга краски на горном склоне, и думал, что это зрелище, подобно вдохновенной игре музыканта, сочетает в себе тончайшие переливы оттенков и грандиозную мощь.
Сэр Джон прибыл слишком поздно и не услышал ни громовых раскатов мелодии, ни еле уловимых полутонов, которые разыгрывал заход солнца среди пиков Сьерры. Бурная симфония красок отзвучала, сменившись тишиною поздних сумерек, когда сэр Джон, одеревеневший после путешествия в дилижансе, спустился с передней ступеньки и обменялся рукопожатием с инженером.
Его угостили обедом в каменной хижине, похожей на квадратный валун, в которой не было ни окон, ни дверей, а лишь пробиты два отверстия; от разложенного у порога яркого костра (хворост привезли из ближайшей долины, взвалив охапку на спину мула) в хижину проникали пляшущие огненные блики; а две свечки в оловянных подсвечниках, зажженные, как пояснили сэру Джону, в его честь, поставили на неуклюжий походный стол, за которым сэр Джон сидел справа от главного инженера. Он умел быть подкупающе любезным; и молодые инженеры, для которых обследование участков будущей железной дороги было не просто работой, а знаменательными первыми шагами на житейском пути, притихшие сидели за тем же столом, и их обветренные лица сияли от удовольствия: такой великий человек столь приветливо беседует с ними.
Позже, уже ночью сэр Джон и главный инженер долго прогуливались, погруженные в беседу, и разговор их затянулся. Они давно знали друг друга. Это было уже не первое предприятие, в котором их таланты, столь же различные по своей сути, как вода и огонь, сливались в общем усилии. Взаимодействие этих двух личностей, чьи взгляды на мир были совершенно непохожи, порождало силу, служившую этому миру… силу нематериальную, но приводившую в движение могучие машины, мускулы людей и к тому же пробуждавшую в сердцах безграничную преданность делу. Из молодых людей, сидевших за столом, для которых обследование участков было подобно изыскательским работам на собственном их жизненном пути, не один простится с жизнью прежде, чем будет построена дорога. Но дорогу необходимо построить — его незыблемая убежденность в этом была сродни фанатичной вере. Правда, не совсем. Прогуливаясь в тишине уснувшего лагеря по плато, залитому лунным светом, благодаря игре которого горный перевал представлялся их взгляду чем-то вроде огромной арены, окруженной стенами базальтовых скал, двое мужчин в широких теплых пальто внезапно остановились, и голос главного инженера отчетливо произнес:
— Ведь не можем же мы двигать горы!
Сэр Джон, запрокинув голову, чтобы взглянуть туда, куда указывал рукой его собеседник, не мог с ним не согласиться. Белая глава Игуэроты высилась над темью земли и скал, сверкая в лунном свете, как ледяная глыба. Вокруг все было тихо, потом в загоне для вьючных животных, сложенном в форме круга из грубых камней, мул топнул копытом и дважды тяжело вздохнул.
Произнесенная главным инженером фраза была ответом на предложение директора компании принять во внимание капризы здешних землевладельцев и, быть может, в самом деле перенести железную дорогу на другое место. Главный инженер полагал, что из двух возникших перед ними препятствий человеческое упорство преодолеть легче, тем более что им готов помочь своим огромным влиянием Чарлз Гулд. Прокладывать же в недрах Игуэроты туннель — дело чрезвычайно трудоемкое.
— Да, верно! Гулд. Что он собой представляет?
В Санта Марте сэр Джон много слышал о Чарлзе Гулде и хотел узнать о нем еще больше. Главный инженер уверил его, что управляющий серебряными рудниками пользуется огромным уважением всех местных донов. К тому же его дом один из лучших в Сулако, и гостеприимство Гулдов — выше всяких похвал.
— Они принимали меня так, словно мы старинные знакомые, — рассказывал сэр Джон. — Его молодая супруга — сама доброта. Я прожил у них месяц. Он помог мне организовать изыскательские партии. Поскольку он фактически является владельцем рудников Сан Томе, у него совершенно особое положение в городе. К его словам несомненно прислушиваются местные власти, и он может без труда обвести вокруг пальца любого идальго в нашей провинции. Следуйте его советам, и вы преодолеете все преграды — Гулд ведь хочет, чтобы здесь прошла железная дорога. Разумеется, в беседе с ним следует соблюдать некоторую осторожность. Он англичанин и, кажется, очень богат. Фирма Холройд ведет с ним дела, так что сами понимаете…
Он умолк, заметив, как у небольшого костра, горевшего возле загона, внезапно выросла, поднявшись с земли, фигура человека, закутанного в пончо. В красноватом отсвете тлеющих углей на земле виднелось темное пятно — седло, служившее ему подушкой.
— Я повидаюсь с Холройдом, когда буду возвращаться на родину через Соединенные Штаты, — сказал сэр Джон. — Насколько мне известно, Холройд тоже сторонник железной дороги.
Человека, спавшего возле костра, наверно, потревожили прозвучавшие так близко голоса, — он встал и чиркнул спичкой, закуривая. Пламя осветило загорелое лицо с усами и внимательные, в упор взглянувшие на собеседников глаза; затем, завернувшись поудобней в пончо, он снова растянулся на земле, положив голову на седло.
— Это распорядитель нашего лагеря, — сказал главный инженер. — Сейчас я должен отослать его назад в Сулако, поскольку наши изыскательские работы переносятся в долину Санта Марты. Бесценный малый, мне ссудил его на время капитан Митчелл из ОПН. Весьма любезно с его стороны. Чарлз Гулд посоветовал мне, не задумываясь, воспользоваться любезностью Митчелла. Этот малый на редкость умело управляется со здешними пеонами и погонщиками мулов. За все время у нас не было даже пустячного недоразумения. Он прихватит с собой несколько землекопов пеонов и будет сопровождать ваш дилижанс до самого Сулако. Дорога скверная, а с таким провожатым вы можете не опасаться, что свалитесь в пропасть. Он обещал мне, что на протяжении всего пути будет так о вас заботиться, словно вы его родной отец.
Этот распорядитель лагеря был никто иной, как тот самый моряк итальянец, которого все европейцы в Сулако, копируя дурное произношение капитана Митчелла, именовали Ностромо. И впрямь, неразговорчивый и бдительный, он блистательно справлялся со своими обязанностями на опасных участках дороги, о чем впоследствии сэр Джон поведал миссис Гулд.
ГЛАВА 6
К этому времени Ностромо прожил в Костагуане уже достаточно долго, чтобы капитан Митчелл мог в самой высокой мере оценить все значение своего открытия. И в самом деле, грех было не гордиться таким подручным, как Ностромо. Капитан Митчелл всячески превозносил свою способность найти и выбрать нужного человека, но эгоистом не был — с горделивым простодушием так настойчиво всем предлагал «ссудить своего капатаса каргадоров», что это превратилось в манию, а Ностромо в результате рано или поздно предстояло перезнакомиться со всеми европейцами, живущими в Сулако, выступая в роли всеобщего фактотума — человека, способного творить чудеса в своей сфере деятельности.
«Он предан мне душой и телом!» — твердил капитан Митчелл; и хотя едва ли кто-нибудь смог бы объяснить, что послужило причиной такой преданности, тем не менее, наблюдая их взаимоотношения, никто не усомнился бы в справедливости этого заявления, разве что какой-нибудь желчный чудак, вроде доктора Монигэма к примеру, чей отрывистый невеселый смешок в какой-то мере отражал безграничное недоверие доктора к человечеству. Правда, доктор Монигэм смеялся чрезвычайно редко и вообще не отличался многословием. В хорошем настроении он хранил угрюмое молчание. В дурном — наводил страх на собеседников высокомерными и резкими замечаниями. Только миссис Гулд удавалось хоть как-то смягчить его непоколебимую убежденность в том, что все люди порочны и корыстолюбивы; но даже ей он сказал однажды… тоном, просто нежным, если вспомнить его обычную манеру говорить: «Право же, крайне неразумно требовать от человека, чтобы он придерживался более высокого мнения о других, нежели о себе».
И миссис Гулд поспешно переменила тему. О докторе ходили странные слухи. Рассказывали, что еще давно, во времена Гусмана Бенто он участвовал в заговоре, но заговорщиков кто-то предал, и, как выражались местные жители, заговор был потоплен в крови. Доктор был совсем седой, с чисто выбритым морщинистым лицом кирпичного цвета; фланелевая рубаха в крупную клетку и далеко не новая панама служили явным вызовом условностям, принятым в Сулако. Впрочем, доктор всегда одевался безупречно чисто — в противном случае его приняли бы за одного из тех несчастных, которые, словно бельмо на глазу, нарушают респектабельность европейской колонии во всех заокеанских странах и порочат своих земляков. Юные обитательницы Сулако, чьи прелестные лица украшали балконы на улице Конституции, завидев, как проходит мимо доктор, прихрамывая и понурив голову, в небрежно надетом поверх клетчатой рубахи коротком полосатом пиджаке, говорили друг дружке: «А вот и сеньор доктор отправился в гости к донье Эмилии. Посмотри-ка, он надел свой сюртучок». Суждение совершенно справедливое, хотя очаровательным наблюдательницам не дано было постичь его и оценить в полной мере. Да они и не считали нужным задумываться о побуждениях доктора.
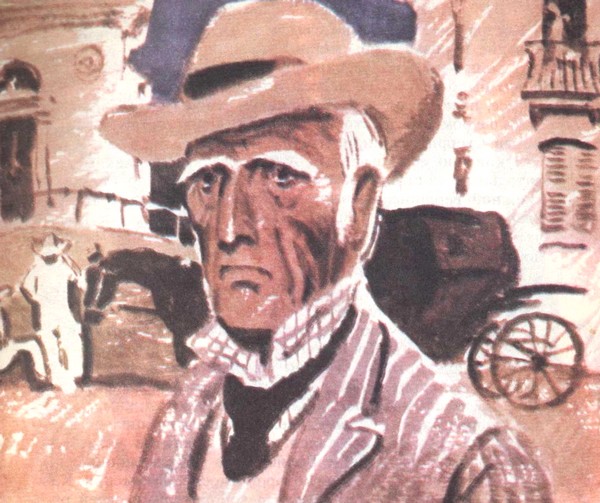
Он был старый, некрасивый, ученый… и немного loco — сумасшедший, а может быть, к тому же и колдун, как подозревали в народе. Короткий сюртучок и в самом деле являлся следствием облагораживающего воздействия миссис Гулд. Злоязычный циник доктор только таким образом и мог проявить свое глубокое уважение к женщине, которую в этих краях называли «английской сеньорой». Он со всей серьезностью отдавал ей дань уважения: для человека его привычек изменить что-то в своей одежде отнюдь не пустяк. Миссис Гулд это отлично понимала. Ей самой и в голову не пришло бы вынуждать его так явно демонстрировать свое почтение к ней.
В ее старинном испанском особняке (одном из великолепнейших образчиков архитектуры Сулако) любой гость был окружен теплом и уютом, благодаря незаметным стараниям миссис Гулд. Она исполняла обязанности хозяйки с простотою и очарованием, ибо отлично понимала, что в нашей жизни несущественно, а что действительно ценно. В высочайшей степени обладала она даром общения с людьми — палитрой тончайших оттенков самоотверженности и убежденностью, что всем людям дано друг друга понимать. Чарлз Гулд (вот уже три поколения Гулдов, поселившихся в Костагуане, неизменно ездили в Англию получить образование и обзавестись женой) полагал, как все мужчины, что полюбил свою избранницу за здравомыслие, но если б это было так, то не совсем понятно, например, чего ради все, начиная от зеленых юнцов и кончая их вполне зрелым шефом, так часто вспоминают среди остроконечных пиков Сьерры гостеприимный особняк миссис Гулд. Сама она, конечно, если бы кто-нибудь ей рассказал, с каким удивительным постоянством ее вспоминают на подступах к снежной вершине, возвышающейся над Сулако, стала бы уверять с тихим смехом и изумленно раскрыв серые глаза, что ровно ничего для этого не делает. Впрочем, вскоре, добросовестно задумавшись, она нашла бы объяснение: «Ну, понятно, бедных мальчиков, наверно, удивило, что им тут рады. А еще, я думаю, им сиротливо. Я думаю, тут всем немного сиротливо».
Она всегда сочувствовала тем, кому было сиротливо.
Родившийся в Костагуане, так же как его отец, высокий и поджарый, с огненно рыжими усами, безупречно выбритым подбородком, с ясными синими глазами и волосами цвета спелой пшеницы, с худощавым, свежим, румяным лицом, Чарлз Гулд выглядел типичным пришельцем из-за океана. Его дед сражался в этих краях за независимость под водительством Боливара в прославленном английском легионе, бойцов которого после битвы при Карабобо великий Боливар назвал освободителями своей родины. В эпоху федерации один из дядюшек Чарлза Гулда был избран президентом именно этой самой провинции Сулако (тогда ее именовали штатом), а впоследствии по приказу генерала унионистов Гусмана Бенто его расстреляли, поставив к церковной стене. Того самого Гусмана Бенто, который позже, став пожизненным президентом, прославился как жестокий и безжалостный тиран, причем слава его достигла апогея в народной легенде о кровожадном призраке, чье тело похитил сам дьявол из кирпичного мавзолея в нефе храма Успения, что в Санта Марте. Во всяком случае, священники именно так объяснили его исчезновение босоногой толпе, в смертельном ужасе устремившейся поглазеть на пролом в стене безобразного кирпичного сооружения, построенного в форме прямоугольника перед большим алтарем.

Недоброй памяти Гусман Бенто, помимо дядюшки Чарлза Гулда, приговорил к расстрелу еще множество людей; но человека, чей родственник принял мученическую смерть, сражаясь за аристократию, «олигархи» Сулако (так их именовали во времена Гусмана Бенто; сейчас они назывались «бланко» и уже не стремились создать федерацию), одним словом, представители семейств чисто испанского происхождения, считали Чарлза Гулда своим. Имея такого родственника, дон Карлос Гулд почитался подлинным костагуанцем; но его внешность была столь специфичной, что простой народ, не мудрствуя лукаво, называл его «инглес» — англичанин.
Он больше походил на англичанина, чем какой-нибудь заезжий турист — еретическая разновидность паломника, впрочем, совершенно неведомая в Сулако. Он больше походил на англичанина, чем любой из последней партии новоиспеченных инженеров-путейцев, чем любой персонаж, изображенный на картинках серии «охотничьи сцены» в очередном номере «Панча» , попадавшем в гостиную его жены месяца через два после выхода в свет. Странно было слышать, как свободно он говорит по-испански (по-кастильски, как выражались здешние жители) или на индейском местном диалекте. Но до того уж стойко сохранялись наследственные черты всех этих костагуанских Гулдов: освободителей, путешественников, владельцев кофейных плантаций, коммерсантов, революционеров, что Чарлз — единственный представитель третьего поколения, живущего в стране, где создалась своя неповторимая манера верховой езды, — даже в седле выглядел типичным англичанином. Мы говорим это без иронии, присущей льянеро — жителям пампы, — считающим, что лишь они одни на всем свете знают, как положено сидеть на лошади. Чарлз Гулд, выражаясь вполне уместным здесь высоким стилем, ездил верхом, как кентавр. Он не считал верховую езду спортом — он считал ее естественной способностью, присущей каждому, точно так же, как уменье ходить свойственно всем здоровым и нормальным людям; тем не менее, когда он несся галопом к своим рудникам — сам в типично английской одежде, лошадь — в сбруе, выписанной из-за океана, — выглядел он так, словно сию минуту прискакал сюда быстрой и легкой pasotrote , с какого-нибудь там зеленого газона, расположенного на другом краю земли.
Ездил он вдоль старой испанской дороги — Camino Real , как называли ее здесь, — единственный след, оставленный столь ненавистной старику Джорджо Виоле королевской властью, исчезнувшей безвозвратно, так что даже огромная конная статуя Карла VI, белевшая у въезда на Аламеду на фоне зеленой листвы, была известна местным крестьянам и городским нищим, спавшим на ступеньках, окружавших пьедестал, просто как «Каменная лошадь». Другой Карлос, чья лошадь, торопливо цокая копытами, сворачивала влево по разбитой мостовой, дон Карлос Гулд в своем типично английском наряде так же дурно сочетался с окрестностью, но был гораздо уместнее здесь, чем царственный всадник, возвышавшийся на пьедестале над спящими léperos и поднявший каменную руку к каменным полям шляпы с плюмажем.
Глядя на забрызганного многочисленными ливнями каменного короля, который, кажется, приветствовал кого-то довольно неопределенным жестом, трудно было себе представить, что же творится у него на сердце после бесчисленных переворотов, лишивших его даже имени; впрочем, и второй всадник, которого здесь все отлично знали и который в добром здравии скакал верхом на темно-серой светлоглазой лошадке, тоже не стремился поведать первому встречному тайны своего сердца, прикрытого френчем английского покроя. Он никогда не терял душевного равновесия и невозмутимости, словно на всю жизнь запасся ими на старой родине, в Европе, где каждый «соблюдает правила» как в личной, так и в общественной жизни. Он с одинаковым спокойствием воспринимал и необъяснимую привычку местных дам обсыпать лицо перламутровой пудрой до тех пор, пока оно не станет похожим на гипсовую маску с чудесными живыми глазами; и склонность горожан к самым невероятным сплетням; и постоянные политические перевороты; постоянное «спасение родины», представлявшееся его жене жестоким мальчишеством, игрой в убийства и насилия, с ужасающей серьезностью осуществляемой порочными детьми.
В начале своего пребывания в Костагуане маленькая леди то и дело возмущенно сжимала руки — не в ее силах было воспринять общественную жизнь страны в достаточной мере серьезно, чтобы оправдать то и дело совершаемые здесь жестокости. Все эти страсти представлялись ей комедией и наивным притворством; гораздо более искренним чувством она считала отвращение и ужас, которые ей все это внушало. Чарлз весьма спокойно подкручивал усы и наотрез отказывался обсуждать с женой эту тему. Правда, однажды он ласково заметил ей:
— Ты, кажется, забыла, дорогая, что я здесь родился.
Услыхав эти слова, она замолкла, потрясенная. А может быть, и впрямь все дело только в том, родился ли ты в этой стране. Леди Эмилия привыкла доверяться мужу; его авторитет в ее глазах был непререкаем во всем, абсолютно во всем. Он с первой встречи поразил ее воображение полным отсутствием сентиментальности, неизменным спокойствием духа, которые она в мыслях своих возвела в статус глубочайшей житейской мудрости. Дон Хосе Авельянос, их сосед, живший в доме напротив, государственный деятель, поэт, образованнейший человек, некогда представлявший свою родину при нескольких европейских дворах (и подвергшийся неслыханным унижениям, как государственный преступник при тиране Гусмане Бенто), неоднократно заявлял в гостиной доньи Эмилии, что Карлос сочетает все достоинства подлинного английского характера с патриотизмом истого констагуанца.
Миссис Гулд, подняв глаза на худое, красное, обветренное лицо мужа, заметила, что он и бровью не ведет при упоминании о его костагуанском патриотизме. Возможно, потому, что чувствовал себя утомленным, сию минуту возвратившись с рудников; мистер Гулд был слишком англичанин для того, чтобы пережидать, когда спадет жара. Во внутреннем дворике Басилио в ливрее из белого холста, подпоясанной красным шарфом, присев на минутку на корточки, отстегивал тяжелые тупые шпоры; затем сеньор управляющий поднимался вверх по лестнице на балкон. На балюстраде между пилястрами арок рядами выстроились горшки с цветами, заслоняя галерею от расположенного внизу дворика, смена света и тени на поверхности которого отмечает неспешное течение домашней жизни, благодаря чему мы можем с полным основанием сказать, что в этих двориках сосредоточена вся жизнь южноамериканского дома.
Сеньор Авельянос имел обыкновение пересекать внутренний дворик в особняке Гулдов в пять часов почти каждый день. Это время, время чаепития дон Хосе избрал потому, что ритуал, заведенный в доме доньи Эмилии, напоминал ему о той поре, когда он жил в Лондоне в качестве чрезвычайного посланника и полномочного министра. Чай он не любил; раскачиваясь в кресле-качалке американского образца, скрестив маленькие ноги в ослепительно начищенных ботинках и поставив их на подножку кресла, он без умолку говорил, плел словесную нить с безмятежным искусством, удивительным для человека его возраста, а чашку чаю подолгу держал в руках. Его коротко остриженные волосы были совершенно седыми; глаза — черными, как уголь.
Увидев Чарлза Гулда, входящего в гостиную, он поначалу приветствовал его просто кивком; и, лишь доведя до конца очередной период, говорил:
— Карлос, друг мой, вы ехали сюда от Сан Томе в самую жару. Всегда деятельны — истый англичанин. Что? Не так?
Потом залпом выпивал чай. Процедура эта всегда сопровождалась неким содроганием и против воли исторгала из уст дона Хосе тихое «бр-р-р», после чего он торопливо, но, увы, слишком поздно восклицал: «Великолепно!»
Затем, передав чашку своему молодому другу, который, улыбаясь, протягивал к ней руку, дон Хосе продолжал велеречиво восхвалять патриотическую сущность рудников Сан Томе, преследуя, казалось, одну-единственную цель — с удовольствием поболтать и при этом, слегка согнувшись, раскачивался в качалке производства Соединенных Штатов. Высоко над его головой белел потолок самой большой гостиной в Каса Гулд; так высоко, что вся обстановка казалась игрушечной: массивные испанские кресла с прямыми спинками и кожаными сиденьями и мягкая на низеньких ножках европейская мебель — всевозможные кушетки, оттоманки, козетки, похожие на карликов, чудовищно раздувшихся после того, как поглотили непомерное количество конского волоса и стальных пружин. На миниатюрных столиках стояли безделушки, в стены над мраморными консолями вделаны зеркала, и на выложенном красной плиткой полу лежали два широких квадратных ковра, на каждом из которых находились несколько кресел и большой диван; еще несколько ковриков поменьше были разбросаны по комнате; три огромных окна, от потолка до пола, выходили на галерею, их обрамляли прямые складки темных драпри. Здесь, в пространстве, заключенном между четырьмя высокими стенами, окрашенными в нежно лимонный цвет, все еще веяло величием старины; и миссис Гулд с изящной головкой в блестящих светлых локонах восседающая в облаке муслина и кружев перед хрупким, тонконогим красного дерева столом, напоминала фею, на миг слетевшую сюда, к фарфоровым и серебряным сосудам, наполненным волшебным приворотным зельем.
Миссис Гулд хорошо знала историю рудников Сан Томе. В давние времена их добыча, извлекаемая главным образом ударами плетей, по весу равнялась грузу костей, которые сложили здесь подгоняемые бичами невольники. В Сан Томе погибли целые племена индейцев; а затем разработки забросили, ибо примитивный метод, на них применяемый, не долго приносил доход — шахта пресытилась трупами, которые швыряли ей в утробу. О рудниках забыли. И вспомнили опять только после Войны за Независимость. Английская компания, добившаяся права возобновить работы, наткнулась на такую богатую жилу, что ни вымогательства сменяющих друг друга правительств, ни набеги офицеров, которые являлись сюда вербовать солдат из числа живущих на жалованье шахтеров, не смогли сломить упорство шахтовладельцев. Но позже, когда после кончины знаменитого Гусмана Бенто в стране наступили длительные беспорядки, местные шахтеры, подстрекаемые к мятежу прибывшими из столицы эмиссарами, восстали против англичан и перебили их всех до единого. Декрет о национализации рудников, который тотчас вслед за этим напечатала издаваемая в столице «Диарио офисиал», начинался так:
«Справедливо возмущенные жестоким угнетением народа иноземцами, движимыми гнусным стремлением к наживе, а отнюдь не любовью к стране, в которую они явились нищими в надежде нажить богатство, шахтеры рудников Сан Томе и т. д…» и заканчивался заявлением:«Глава нашего правительства решил во всем своем величии проявить милосердие и заботу о людях. Рудники, которые как достояние нации, согласно всем законам, — международным, человеческим и божеским, — снова оказались в руках правительства, будут закрыты отныне и до тех пор, покуда меч, поднятый ради священного дела защиты принципов свободы, не завершит свою миссию, состоящую в том, чтобы сделать нашу любимую родину счастливой».
И после этого долгие годы никто не слыхивал о рудниках Сан Томе. Трудно представить себе сейчас, каких, собственно, выгод ожидало для себя правительство, захватив рудники. Костагуану не без труда заставили выплатить нищенскую компенсацию семьям пострадавших акционеров, после чего дипломатические переговоры на эту тему прекратились. Но впоследствии уже другое правительство вспомнило о пропадающем втуне богатстве. Обычное костагуанское правительство — четвертое по счету за шесть лет, — но обладающее здравомыслием. Втайне убежденное, что собственными силами оно не добьется от рудников ни малейшей пользы, правительство это отчетливо представляло себе все выгоды, которые принесет ему восстановление разработок, имеющее лишь одну теневую сторону — плачевную необходимость извлекать из земли металл. Отец Чарлза Гулда, в течение долгих лет один из богатейших коммерсантов Костагуаны, к тому времени лишился значительной части своего состояния, против воли вынужденный ссужать каждое новое правительство деньгами.
Человек спокойный и рассудительный, он ни разу не потребовал возмещения убытков; и когда ему внезапно предложили пожизненную и безраздельную концессию на рудники Сан Томе, он встревожился сверх всяких пределов. К сожалению, он досконально знал нравы и обычаи костагуанских властей. А в настоящем случае намерения правительства, хотя и были тщательно продуманы втайне, тотчас бросались в глаза по прочтении документа, под которым мистера Гулда так настойчиво просили поставить подпись. В третьем, самом важном пункте соглашения в качестве особого условия оговаривалось, что владелец концессии должен сразу выплатить правительству отчисления за право разработки в течение пяти лет.
Многочисленные доводы и мольбы, которыми мистер Гулд-старший пытался отвести от себя страшную милость, оказались тщетными. Он ничего не смыслил в разработке рудников; у него не было возможности вывезти добываемую продукцию на европейский рынок; шахта, как действующее предприятие, давно перестала существовать. Надшахтные постройки сожжены, оборудование изломано, шахтеры ушли отсюда много лет тому назад; даже ведущая к рудникам дорога густо заросла тропическим лесом и скрылась столь бесследно, словно ее море поглотило; а главная штольня обвалилась примерно в сотне ярдов от входа в шахту. Это уже не был заброшенный рудник; просто созданная природой неприступная, каменистая щель, неподалеку от которой под буйными зарослями стелющихся по траве колючих растений можно было обнаружить то несколько обугленных досок, то груду битого кирпича, то какие-то бесформенные ржавые железки. Мистер Гулд-старший отнюдь не хотел быть пожизненным владельцем этих унылых мест; стоило ему представить их себе в ночной тиши, его охватывало возмущение, неизменно кончавшееся бессонницей.
Но случилось так, что министром финансов в то время оказался человек, чью просьбу о небольшом денежном вспомоществовании мистер Гулд имел неосторожность отклонить, обосновывая свой отказ тем обстоятельством, что проситель — известный жулик и шулер, подозреваемый к тому же в том, что ограбил зажиточного ранчеро и нанес ему телесные повреждения в глухой сельской местности, где сам в ту пору исполнял обязанности судьи. Сейчас, достигнув высокого положения, этот славный деятель объявил о своем намерении отплатить добром за зло сеньору Гулду, человеку небогатому. Вновь и вновь он подтверждал свое решение во всех гостиных Санта Марты голосом тихим и неумолимым, и взгляд его при этом сверкал так злобно, что близкие друзья мистера Гулда от души советовали ему не пытаться прибегнуть к подкупу, который обеспечил бы ему спокойную жизнь. Это бесполезно. Мало того, это даже небезопасно. Того же мнения придерживалась дородная громкоголосая дама французского происхождения, отец которой, как утверждала она, был офицером в высоких чинах (officier supérieur de l’armée), и занимавшая квартиру, расположенную в стенах переданного ныне для светских целей бывшего монастыря, находящегося непосредственно рядом с домом министра финансов. Эта цветущая особа, когда к ней должным образом и с соответствующим презентом обратились за помощью от имени мистера Гулда, уныло покачала головой. Она была добросердечной женщиной, а ее неверие в успех — искренним. Она не считала себя вправе брать деньги за услугу, которой не могла оказать. Друг мистера Гулда, взявший на себя выполнение этой щекотливой миссии, впоследствии говаривал, что из всех лиц, близко или отдаленно связанных с правительством, которых он когда-либо встречал, только эта дама была честным человеком.
— Пустой номер, — сказала она сипловато с несколько вульгарной интонацией, свойственной ей так же, как и обороты речи, более приличествующие дитяти неизвестных родителей, нежели осиротевшей генеральской дочери. — Нет, куда там. Пустой номер. Pas moyen, mon garçon. C’est dommage, tout de même. Ah! Zut! Je ne vole pas mon monde. Je ne suis pas ministre — moi! Vous pouvez emporter votre petit sac!
Покусывая пунцовую губку, она омрачилась на миг, удрученная суровым деспотизмом правил, ограничивающих ее влияние в высоких сферах. Затем внушительно и с легким раздражением заключила:
— Allez et dites bien à votre bonhomme — entendez-vous? — qu’il faut avaler la pilule .
После такого предупреждения оставалось только подписать и уплатить. Мистер Гулд покорно проглотил пилюлю, изготовленную, казалось, из каких-то ядовитых веществ, которые сразу же подействовали на его рассудок.
Рудники стали его навязчивой идеей и, поскольку он прочел немало приключенческих книг, приобрели в его сознании облик зловредного морского старикашки из арабской сказки, который влез к нему на спину, как к Синдбаду-мореходу, и крепко вцепился в плечи. Кроме того, ему начали мерещиться вампиры. Мистер Гулд преувеличивал разорительность своего нового положения, ибо воспринял его сердцем, а не умом. В действительности его положение осталось в точности таким, как прежде. Но человек по натуре своей удручающе консервативен, и мистера Гулда сильнее всего обескуражило то, что его вынуждают раскошелиться каким-то совершенно новым и диковинным способом.
Кровожадные банды, затеявшие после смерти Гусмана Бенто низкопробную игру, которую они именовали «правительственными переворотами», грабили не его одного. Он знал по опыту, что ни одна из разбойничьих шаек, завладевших президентским дворцом, не упустит даже малого и, если дело идет о наживе, не постоит за таким пустяком, как подыскать подходящий предлог. Первый попавшийся новоиспеченный полковник, ведущий за собой толпу босоногих оборванцев, мог с предельной убедительностью предъявить любому штатскому свои права на получение десяти тысяч долларов; а это значило, что он рассчитывает содрать с него не менее тысячи отступного. Все это мистер Гулд отлично знал и, вооружившись терпением, дожидался лучших времен. Но он не мог смириться с тем, что его грабят под вывеской законности и опустошают его кошелек, делая вид, будто вступают с ним в деловой контакт. Мистер Гулд-отец был благоразумен, проницателен, честен, но обладал одним недостатком: придавал слишком много значения форме. Эта слабость свойственна тем, кто подвержен предрассудкам. То, что мошенничеству злонамеренно придали видимость законной сделки, потрясло его до глубины души и подорвало дотоле крепкое здоровье. «Это убьет меня в конце концов», — повторял он по многу раз в день. И в самом деле, у него начались приступы лихорадки, боли в печени, но сильнее всего его изводила полная неспособность думать о чем-либо, кроме рудников. Министр финансов и не представлял себе, сколь изощренной оказалась его месть. Даже в письмах к четырнадцатилетнему Чарлзу, обучавшемуся в то время в Англии, мистер Гулд не сообщал практически ни о чем, кроме рудников.
Он жаловался на гонения, на несправедливость, на беззакония, жертвой которых стал; он исписывал целые страницы, рассказывая, к каким фатальным последствиям его приведет владение этими рудниками, от которых ждал всяческих бед, и с ужасом предрекал, что проклятие это будет тяготеть над семьей до скончания веков. Ибо концессия была закреплена за ним и его наследниками навечно. Он заклинал сына не возвращаться в Костагуану и не предъявлять претензий на причитающееся ему здесь наследство, оскверненное гнусной концессией; не иметь с ней ни малейших дел, даже близко к ней не подходить, забыть о существовании Америки и посвятить себя коммерческой деятельности в Европе. Каждое письмо заканчивалось горькими упреками, которые мистер Гулд-старший обрушивал на самого себя за то, что прожил так долго в этом вертепе, полном интриганов, разбойников и воров.
Непрестанно твердить подростку четырнадцати лет, что его будущее загублено, ибо он является владельцем серебряных рудников, занятие не очень перспективное, — своей непосредственной цели оно, во всяком случае, не достигает; зато вы смело можете рассчитывать, что ваши предупреждения вызовут интерес и внимание именно к тому, против чего вы предупреждаете. С течением времени мальчик, который поначалу был просто ошеломлен бесконечными гневными жалобами, но в общем жалел старика, стал задумываться над содержанием отцовских писем в свободное от игры и учения уроков время. А примерно через год составил вполне отчетливое убеждение, что в провинции Сулако республики Костагуана, где много лет назад солдаты застрелили бедного дядюшку Гарри, есть какие-то серебряные рудники. Дальше: с рудниками этими связано нечто, именуемое «мерзопакостная концессия Гулда», запечатленное на листе бумаги, который его отец страстно желал «изорвать на мелкие клочки и швырнуть в лицо» президентам, судьям и министрам этого государства. Желание оставалось неизменным, хотя имена этих людей, как заметил Чарлз, редко повторялись от письма к письму в течение года. Желание Гулда-отца (поскольку относилось оно к чему-то мерзопакостному) представлялось мальчику вполне естественным, он одного не знал: чем именно мерзопакостна вся эта история.
Позже, повзрослев и поумнев, он сумел оградить чисто деловую сторону от вторжений морского старикашки, вампиров и упырей, придававших отцовским письмам отзвук страшной сказки из «Тысяча и одной ночи». И в конце концов рудники стали для юноши так же существенны и важны, как для старика, присылавшего из-за океана скорбные и гневные письма. Вот уже несколько раз пришлось уплатить громадные штрафы за нерадивое отношение к разработкам, — сообщал мистер Гулд-старший, — а кроме того, в счет будущих доходов на него налагают поборы, утверждая, что владелец такой выгодной концессии не может отказать правительству в денежной помощи. Последние остатки его состояния уплывают из рук, а взамен ему подсовывают не стоящие ни гроша расписки, — писал он в ярости, — и в то же время на него указывают пальцем, как на человека, сумевшего извлечь огромную прибыль, воспользовавшись тяжким положением страны. И юноша, живущий в Европе, испытывал все больший интерес к обстоятельствам, способным вызвать такую бурю страстей и слов.
Каждый день он думал теперь о рудниках; но он думал о них без горечи. Отцу не повезло, бедняге, да и вообще вся эта история в довольно странном свете представляет общественную и политическую жизнь Костагуаны. Он, разумеется, сочувствовал отцу, но он не кипятился, он старался все понять и взвесить. Ведь его чувств никто не оскорбил, и нелегко поддерживать в себе годами пылкое негодование, разделяя физические либо нравственные муки другого человека, даже если это твой родной отец. К двадцати годам рудники Сан Томе приворожили к себе и Гулда-младшего. Но это было увлечение совсем иного рода, более подобающее молодости, магическую формулу которой составляют не отчаяние и гнев, а надежда, стремление действовать и уверенность в собственных силах.
В двадцать лет, получив позволение жить как ему вздумается (если не считать сурового запрета возвращаться в Костагуану), Чарлз продолжил обучение во Франции и Бельгии и поставил себе целью приобрести знания, необходимые для горного инженера. Впрочем, научный аспект его трудов смутно вырисовывался в сознании Чарлза. Шахты пробуждали в нем скорее интерес драматического свойства. Он изучал их индивидуальные особенности, как изучают всевозможные свойства людей. Он посещал их с таким же любопытством, с каким едут в гости к выдающейся особе. Он побывал на шахтах в Германии, в Испании, в Корнуолле. Особенное впечатление производили на него заброшенные разработки. Глядя на их запустение, он ощущал живое участие, словно перед ним предстало человеческое горе, истоки которого ему не известны и, возможно, непросты и глубоки. Может быть, они не стоят ничего, а быть может — не поняты. Будущая жена Чарлза стала первым и, вероятно, единственным человеком, уловившим затаенное чувство, лежащее в основе глубокого понимания и почти безмолвного тяготения молодого Гулда к миру материального. И сразу же ее восхищение им, прежде медлившее с полураспущенными крыльями, словно птица, которая неспособна взлететь с ровной поверхности, обрело вершину и воспарило к небесам.
Они познакомились в Италии, где будущая миссис Гулд гостила у пожилой, бледной и увядшей тетушки, которая за много лет до того вышла замуж за обнищавшего итальянского маркиза. Сейчас она оплакивала этого человека — он жизни не щадил, сражаясь за независимость и единство родины, и его пылкое благородство не имело предела, ибо он принадлежал к младшему поколению павших в той борьбе, обломком которой оказался старик Джорджо Виола, болтавшийся теперь в житейском море, словно рея, упавшая в воду после морского боя. Маркиза напоминала монахиню — всегда в черном с белой лентой на лбу, разговаривала шепотом, жила незаметно и тихо в уголке второго этажа старинного полуразрушенного палаццо, на первом этаже которого в пустых залах с расписными потолками хранился урожай, нашла приют домашняя птица и даже коровы, а также все семейство арендатора.
Наша юная пара впервые встретилась в Лукке. После этого Чарлз Гулд не посещал больше шахт; впрочем, они съездили однажды в карете посмотреть каменоломню, где добывали мрамор и все сходство с шахтой исчерпывалось тем, что там тоже извлекали из земли в необработанном виде нечто драгоценное. Чарлз Гулд не излагал своей избраннице подробно, что тревожит его душу. Он просто жил и думал у нее на глазах. Это и есть настоящая искренность. Особенно часто повторял он фразу: «Мне иногда кажется, что бедному папе в искаженном виде представлялась эта история с рудниками Сан Томе». И они долго и серьезно обсуждали его мнение, словно могли каким-то образом повлиять на сознание человека, который находился в другом полушарии; в действительности же они обсуждали это потому, что для любви нет посторонних тем — она жива и горяча, о чем бы ни беседовали между собой влюбленные. Именно по этой, вполне естественной причине будущая миссис Гулд всегда с радостью вступала в разговоры о рудниках Сан Томе. Чарлз опасался, что мистер Гулд-старший растрачивает силы и губит здоровье в бесплодных попытках избавиться от концессии. «Мне кажется, действовать надо совсем не так», — рассуждал он вслух, словно разговаривая сам с собой. А когда его слушательница выразила искреннее удивление, что умный, деятельный человек посвящает всю свою энергию интригам, он, сердцем чувствуя ее недоумение, ласково разъяснил: «Не забывайте, он ведь там родился».
Немедленно обдумав его ответ, она возразила, неожиданно, но, следует признать, вполне логично, ибо и в самом деле…
— Ну, а вы? Вы ведь тоже там родились.
Ее возражение его не смутило.
— Это совсем другое дело. Я не живу там уже десять лет. Отец никогда не уезжал так надолго; а история эта тянется уже больше тридцати лет.
Она была первой, с кем он заговорил, получив известие о смерти отца.
— Они его все же убили! — сказал он.
Он пришел прямо из города пешком, чтобы сообщить ей эту весть, шагал под полуденным солнцем по белой и пыльной дороге, и вот они стоят друг перед другом в большом зале дряхлого палаццо, в величественной комнате с голыми стенами, на которых там и сям темнеют длинные клочья камчатных обоев, почерневшие от времени и сырости. Всю меблировку комнаты составляло позолоченное кресло со сломанной спинкой и восьмиугольная подставка, на которой возвышалась тяжелая мраморная ваза, украшенная вырезанными из камня масками и цветочными гирляндами и треснувшая сверху донизу. Чарлз был весь в пыли — белая пыль дороги осела на его ботинках, на плечах, на кепи с двумя козырьками. По лицу его катился пот, правая рука сжимала тяжелую дубовую палку.
Ее лицо под розами широкополой соломенной шляпки стало смертельно бледным, а обтянутые перчатками руки беспокойно вертели светленький зонтик, — Чарлз застал ее как раз в тот миг, когда она собиралась выйти, чтобы встретить его у подножья холма, там, где три тополя стоят у курчавой стены виноградника.
— Они все же убили его! — повторил он. — Отец мог прожить еще много лет. В нашей семье умирают в глубокой старости.
Потрясенная, она молчала; он рассматривал пронизывающим неподвижным взглядом треснувшую мраморную вазу, словно решил запечатлеть ее навеки в памяти. И только когда он внезапно повернулся к ней и у него вырвалось: «Я пришел к вам… я прямо к вам пришел…», а договорить так и не смог, она всем сердцем ощутила, как горестна была кончина одинокого, измученного старика в далекой Костагуане. Он схватил ее руку, поднес к губам, и тут она выронила зонтик, погладила его по щеке, прошептала: «Бедный мальчик» и стала утирать слезы, полускрытые опущенными полями шляпы, удивительно маленькая в простом белом платье, совсем как ребенок, который плачет, растерявшись, подавленный обветшалым великолепием пышного зала, а он стоял перед ней и снова в полной неподвижности глядел на мраморную вазу.

Затем они долго гуляли вдвоем, не говоря ни слова, пока он не воскликнул:
— Да. За это дело совсем не так надо бы взяться!
И тут они остановились. Всюду лежали длинные тени — на холмах, на дорогах, на огороженных оливковых рощах; тени тополей, раскидистых каштанов, амбаров и сараев, каменных стен; а воздух был пронизан звоном колокола, высоким, тревожным, и, казалось, это колотится пульс закатного зарева. Ее губы слегка приоткрылись, словно она удивлялась, почему он не смотрит на нее с тем выражением, к которому она привыкла. Он всегда глядел на нее с несомненным одобрением и вниманием. А в разговорах с нею представал самым почтительным и нежным из диктаторов, чем безмерно радовал ее. Ведь это утверждало ее власть, не нанося ущерба его достоинству.
Эта хрупкая девушка с маленькими ногами и руками, маленьким личиком, особенно привлекательным в пышном обрамлении локонов; эта девушка, которой стоило лишь приоткрыть рот, — он был немного великоват, пожалуй, — и, казалось, само дыхание ее благоухает великодушием и чистотой, обладала мудрым сердцем зрелой женщины. Самым важным, самым лестным для нее была возможность гордиться своим избранником. Но сейчас он просто не смотрел на нее, ни разу не взглянул; и взор его был напряженным и странным — иным и не может быть взгляд мужчины, который таращится в пустоту, когда мог бы смотреть на очаровательное девичье личико.
— Ну, что ж. И в самом деле мерзопакостно. Измучили его, сломали… бедный старик. И почему он не позволил мне к нему приехать? Но теперь-то я знаю, как за это взяться.
После того как он с уверенностью произнес эти слова, он наконец-то взглянул на нее, и тотчас же его охватило мучительное беспокойство, неуверенность, страх.
Сейчас он хочет знать только одно, сказал он: любит ли она его настолько… хватит ли у нее мужества уехать с ним так далеко? Он предлагал ей эти вопросы, и голос его дрожал от волнения — ведь отказываться от своих решений он не привык.
Она любила его. И мужества у нее хватит. И тотчас будущая хозяйка дома, открытого для всех европейцев в Сулако, почувствовала: земля ушла у нее из-под ног в буквальном смысле этого слова. Исчезла полностью, даже колокол перестал звонить. Когда ноги ее вновь коснулись земли, звон колокола по-прежнему доносился из долины; она поправила волосы, прерывисто дыша, и окинула быстрым взглядом каменистую тропинку. Слава богу, на тропинке ни души. Чарлз тем временем, ступив в сухую пыльную канаву, поднимал открытый зонтик, откатившийся от них с дробным стуком, напоминавшим треск барабана. Он вручил зонтик Эмилии, сдержанный, слегка удрученный.
Затем они направились к дому, и, когда она погладила его по плечу, он наконец заговорил, и первыми его словами было:
— Очень удачно, что мы сможем поселиться в прибрежном городе. Я вам уже рассказывал о нем. Он называется Сулако. Я так рад, что у бедняги отца в этом городе был дом. Большой особняк, отец купил его давным-давно — ему хотелось, чтобы в главном городе так называемой Западной провинции был и навсегда остался Каса Гулд. В детстве я там прожил с мамой целый год, а отец мой ездил в это время по делам в Соединенные Штаты. Теперь вы станете новой хозяйкой Каса Гулд.
И позже в обитаемом уголке палаццо, высящегося над виноградниками, каменоломнями, соснами и оливами Лукки, он продолжал:
— Имя Гулдов пользуется огромным почетом в Сулако. Мой дядюшка Гарри одно время возглавлял правительство и вошел в круг самых уважаемых людей страны. Под этим кругом я подразумеваю семьи обедневших креолов, весьма далекие от мира политических интриг. Дядя Гарри не был авантюристом. Среди костагуанских Гулдов вообще нет авантюристов. Он являлся гражданином этой страны, любил ее, но образ мыслей сохранил чисто английский. Он воспользовался политическим девизом того времени. Ратовал за федерацию. Но политическим деятелем не был. Просто он любил свободу, если она основана на разуме и опыте, ненавидел угнетение и потому стремился установить в стране общественный порядок. На жизнь он смотрел трезво. Делал то, что считал правильным, точно так же, как я сейчас убежден, что должен заняться этими рудниками.
Он разговаривал с ней так потому, что его память до краев заполняла страна его детства, сердце — эта девушка, а мысли — концессия на рудники Сан Томе. Чарлз добавил, что ему придется на несколько дней ее покинуть и разыскать одного американца из Сан-Франциско — он пока еще где-то в Европе. С полгода тому назад они познакомились в старинном, богатом историческими памятниками немецком городке, расположенном в рудничном районе. Американец приехал в Европу с семьей, но выглядел ужасно одиноким, а его жена и дочки по целым дням делали наброски старинных порталов и башенок на углах средневековых домов.
Чарлз Гулд и американец вели долгие и оживленные беседы о шахтах. Оказалось, американца интересует рудничное дело, а кроме того, он знал кое-что о Костагуане и слышал о Гулдах. Они даже подружились, в тех пределах, какие допускала разница в годах. Чарлзу непременно хотелось разыскать сейчас этого предпринимателя, обладающего острым деловым умом и в то же время дружелюбного. Состояние его отца, — как он еще недавно полагал, значительное, — судя по всему, расплавилось в адском тигле мятежей и путчей. За исключением десяти тысяч фунтов, лежащих в одном из английских банков, от него, пожалуй, не осталось ничего, кроме дома в Сулако, довольно неопределенных прав на вырубку леса в глухом, отдаленном районе и концессии на рудники Сан Томе, подтолкнувшей его несчастного отца к самому краю могилы.
Он объяснил все это Эмилии. Они проговорили допоздна. Чарлз никогда еще не видел ее такой обворожительной. Все пылкое стремление юности к жизни новой, неведомой, к дальним странам, к будущему, сулившему испытания, борьбу, — заманчивая надежда исправить зло и победить, — все это привело ее в необычайное волнение, и ее отклик любимому, чей призыв пробудил в ней это чувство, был еще более открытым и чарующе нежным.
Он попрощался с ней, спустился с холма, и как только остался один, возбуждение улеглось. Смерть вносит непоправимые перемены в течение наших повседневных мыслей, отзывающихся смутным, но мучительным беспокойством души. Чарлзу горько было сознавать, что никогда больше, как бы ни напрягал он волю, он не сможет думать об отце так, как думал о нем, когда тот был жив. Нет, он не в силах теперь мысленно оживить его. И, осознав все это, чувствуя, что и сам он в чем-то изменился, он ощутил горестное и гневное стремление действовать. К этому толкал его инстинкт. Безошибочный инстинкт. Действие успокаивает. Оно враг размышлений и друг лестных иллюзий. Только действие обещает надежду одержать победу над судьбой. Единственным полем деятельности для Чарлза несомненно были рудники.
Человеку иногда необходимо понять, каким образом он сможет нарушить волю умершего. Он твердо решил исходить, нарушая ее, из самого существенного: действовать во искупление. Рудники послужили причиной несчастья: из-за них нелепо погибла, разрушилась личность; они должны, начав работать, принести успех, успех разумный, успех созидания. Это его долг перед покойным отцом. Таковы были, собственно говоря, эмоции Чарлза Гулда. Мысли же его были заняты тем, как раздобыть большую сумму денег в Сан-Франциско или где-нибудь еще; и пока он размышлял об этом, ему вдруг как-то само собой пришло в голову, что совет усопших — плохой руководитель. Ведь никто из них не знает заранее, какие грандиозные перемены может произвести смерть любого человека в мире живых.
О самой последней фазе в истории рудников миссис Гулд знала уже из собственного опыта. Ведь основная суть этой истории была историей ее семейной жизни. Наследственная мантия Гулдов из Сулако окутала ее хрупкую фигурку с ног до головы; но странное это одеяние не повлияло на миссис Гулд и не уменьшило ее природной живости, в которой отражалась не бойкость нрава, а пытливый острый ум. Из чего отнюдь не следует, что миссис Гулд была женщиной с мужским складом ума. Женщины с мужским складом ума не способны, к слову сказать, на что-либо особо серьезное; такие женщины — отклонение от установленного природой вида, они занятны, но толку от них никакого.
Зато донья Эмилия, обладавшая женским складом ума, покорила Сулако без всяких усилий, ум служил ей для того, чтобы со всею полнотою могла проявиться ее бескорыстная отзывчивая натура. Она была прекрасной собеседницей, хотя не отличалась разговорчивостью. Мудрость сердца не многоречива, ибо заключается не в том, чтобы выдвигать и опровергать теории — ей это столь же чуждо, как защищать предрассудки. Мудрость сердца заключена не в словах, а в чистоте, терпимости, сострадании. Истинная нежность женщины, точно так же, как истинная мужественность мужчины, на каждом шагу проявляет себя пленительным благородством поступков. Все живущие в Сулако дамы обожали миссис Гулд. «Я для них по-прежнему какой-то монстр», — весело сказала миссис Гулд джентльмену из Сан-Франциско, который с двумя компаньонами посетил Сулако примерно через год после того, как она вышла замуж, и гостил у Гулдов.
Эти три джентльмена были ее первыми гостями, приехавшими из-за границы, а явились они ознакомиться с рудниками Сан Томе. Она весьма мила и остроумна, — решили они, — что до Чарлза Гулда, он не только отчетливо знает, чего хочет, но также очень энергично стремится к цели. Эти его черты вызвали у гостей из Сан-Франциско еще большее расположение к его жене. Миссис Гулд говорила о рудниках с несомненным воодушевлением, смягченным легким привкусом иронии, и гости, совершенно очарованные ее беседой, не могли сдержать улыбки, снисходительной улыбки серьезных деловых людей, в которой содержалась в то же время немалая доля почтения. Возможно, если бы они узнали, что так пылко желать успеха миссис Гулд заставляют прежде всего идеалистические цели, то подивились бы ее душевным устремлениям, так же, как местные дамы удивлялись ее неустанному стремлению действовать. И она бы стала в их глазах — употребляя ее собственное выражение — «каким-то монстром». Но супруги Гулд прежде всего были очень сдержанной парой, и гости отбыли, не подозревая о существовании у них каких-либо иных планов, кроме самого заурядного: возобновить на рудниках работы и получать доход. Миссис Гулд дала гостям свою карету, запряженную белыми мулами, и джентльмены из Соединенных Штатов отправились в гавань, где их поджидала «Церера», дабы доставить на Олимп плутократов. Капитан Митчелл воспользовался минутой прощанья и, понизив голос, доверительно сообщил миссис Гулд: «Началась новая эпоха».

Миссис Гулд любила внутренний дворик своего испанского дома. Сидящая в нише мадонна в голубых одеждах, которая держала на руках младенца с нимбом вокруг головы, безмолвно глядела на широкие каменные ступени. Ранним утром со дна мощеного квадратного колодца, каким казался сверху внутренний двор, доносились приглушенные голоса, стук копыт лошадей и мулов, которых попарно водили на водопой. Узкие, похожие на лезвие ножа бамбуковые листья падали в маленький квадратный водоем, а на окружавшем его низком парапете сидел дородный закутанный в плащ кучер и лениво придерживал поводья рукой. Взад-вперед сновали босоногие слуги, возникая из темных низеньких дверных проемов первого этажа; две прачки с корзинами стираного белья; пекарь, несущий поднос с хлебом, испеченным на день; высоко подняв руку над черной, словно вороново крыло, головой, Леонарда — ее «камериста» — несла охапку накрахмаленных нижних юбок, ослепительно белых под лучами утреннего солнца. Затем, ковыляя, входил старик привратник, мел каменные плиты, и вот уж дом готов к началу нового дня. Все комнаты верхнего этажа на трех сторонах четырехугольника — смежные, и все они выходят на галерею с перилами кованого железа в ярком обрамлении цветов, и отсюда, сверху, миссис Гулд, словно владетельница средневекового замка, любит наблюдать, как кто-то входит в дом, кто-то из него выходит, и из сводчатой подворотни каждый раз слышится гулкий шум шагов, что придает значительность этим несущественным событиям.
Глядя вслед карете, увозившей трех гостей из Штатов, она улыбнулась. Три руки одновременно потянулись к трем шляпам. Четвертый пассажир, капитан Митчелл, уже что-то напыщенно повествовал. Миссис Гулд немного задержалась на галерее. Медленно прошлась, то здесь, то там наклоняясь к душистым венчикам цветов, словно ей хотелось, чтобы течение ее мыслей совпало с неслышной поступью шагов, доносившихся из длинного прямого коридора.
Индейский гамак из Ароа с бахромой из ярких перьев предусмотрительно подвесили именно в том уголке галереи, куда раньше всего добирались солнечные лучи: ведь в Сулако по утрам прохладно. Грозди ночных фиалок пламенели перед раскрытыми дверями всех гостиных. Большой зеленый попугай, словно изумруд сверкающий в клетке, которая казалась золотой, отчаянно вопил: «Viva Costaguana!» , затем дважды сладкозвучно позвал, подражая голосу миссис Гулд: «Леонарда! Леонарда!», после чего внезапно погрузился в безмолвие и неподвижность. Миссис Гулд дошла до конца галереи и заглянула в комнату мужа.
Чарлз, поставив ногу на низкий деревянный табурет, пристегивал шпоры. Он торопился на рудники. Миссис Гулд, не заходя в комнату, обвела ее взглядом. Один из двух книжных шкафов, высокий и широкий, был полон книг; зато второй — без полок, обитый изнутри красным сукном, представлял собой настоящую выставку огнестрельного оружия: карабины, револьверы, два дробовика и даже две пары двухствольных пистолетов. Между всем этим оружием и как бы отгороженная от него на лоскуте алого бархата висела старинная кавалерийская сабля, некогда принадлежавшая дону Энрике Гулду, герою Западной провинции, подарок дона Хосе Авельяноса, наследственного друга их семьи.
Если не считать этих двух шкафов, белые оштукатуренные стены комнаты были абсолютно пусты, их украшал лишь акварельный набросок рудников Сан Томе, сделанный доньей Эмилией собственноручно. Посредине комнаты на выложенном красной плиткой полу стояли два длинных стола, заваленные чертежами и бумагами, несколько стульев и ящик со стеклянной крышкой, в котором находились образчики руды из Сан Томе. Миссис Гулд, оглядев все эти вещи, полюбопытствовала, почему беседа с богатыми и предприимчивыми господами, обсуждающими виды на будущее, рудничные работы и обеспечение их безопасности, вызывает в ней неловкость и сердит ее, в то время как с мужем она может часами разговаривать о рудниках с неослабевающим удовольствием и интересом.
И спросила, выразительно опустив веки:
— Как ты думаешь, почему это, Чарли?
Затем, удивленная молчанием мужа, подняла на него широко открытые, прелестные, словно голубые цветы, глаза. Он к этому времени уже пристегнул шпоры, обеими руками подкрутил усы, придав им горизонтальное положение, и внимательно обозрел ее с высоты своего роста, явно одобряя ее внешность. Миссис Гулд было приятно чувствовать на себе этот взгляд.
— Они люди с весом, — сказал он.
— Я знаю. Но ты слышал когда-нибудь их разговоры? Такое впечатление, будто они ровно ничего не поняли из того, что тут увидели.
— Они видели тут рудники. И поняли кое-что не без пользы для себя, — возразил Чарлз, вступаясь за гостей; но тут его супруга назвала имя самого весомого из них. Он обладал немалым весом как в финансовых, так и в промышленных сферах. Имя его знали миллионы людей. Человек, обладающий таким весом, ни за что бы не уехал так далеко от центра своей деятельности, если бы туманные угрозы врачей не вынудили его отправиться в столь длительное путешествие.
— Религиозные чувства мистера Холройда, — не унималась миссис Гулд, — очень оскорбила пестрота одежд на статуях святых в нашем соборе — обожествление, сказал он, золота и мишуры. Но мне показалось, что его собственный бог в его глазах нечто вроде влиятельного компаньона, получающего свою долю прибылей в виде пожертвований на церковь. Он сказал, что каждый год жертвует на разные церкви, Чарли.
— На множество церквей, — подтвердил мистер Гулд, восхищаясь ее оживленным выразительным личиком. — Он раздает пожертвования по всей стране. Он прославился щедростью даров на церковные нужды.
— Но он вовсе этим не кичится, — добавила миссис Гулд, стремясь быть беспристрастной. — По-моему, он в самом деле хороший человек, но до чего же глуп! Какой-нибудь несчастный индеец, который в благодарность за исцеление дарит своему божку серебряную руку или ногу, ведет себя ничуть не менее разумно, но более человечно.
— Мистер Холройд возглавляет бесчисленное множество предприятий, добывающих серебро и железо, — возразил Чарлз Гулд.
— О, еще бы! Религия серебра и железа. Очень учтивый господин, хотя, увидев в первый раз у нас под лестницей мадонну, представляющую собой раскрашенную деревяшку, он принял чрезвычайно суровый вид; но ни слова не сказал мне. Чарли, милый, я слышала, как они разговаривают между собой, эти дельцы. Неужели они действительно хотят ради своих несметных прибылей осушить все водоемы и вырубить все леса во всех странах мира?
— Если человек работает, у него должна быть какая-то цель, — уклончиво отозвался Чарлз Гулд.
Миссис Гулд, нахмурившись, оглядела его с головы до ног. В бриджах для верховой езды, в кожаных гетрах (атрибут одежды, неведомый до этих пор в Костагуане), в серой фланелевой куртке, с громадными огненно-рыжими усами, он был похож на кавалерийского офицера, который вышел в отставку и занялся сельским хозяйством. Как раз всем этим он и нравился миссис Гулд. «До чего же он похудел, бедный мой мальчик! — подумала она. — Много работает, не жалеет себя». В то же время нельзя было отрицать, что его тонкое, обветренное лицо, живой и проницательный взгляд производят приятное впечатление, да и весь он, длинноногий, сухощавый, несомненно имеет вид человека достойного и воспитанного. И миссис Гулд смягчилась.
— Мне было просто интересно, каковы твои чувства, — ласково и негромко проговорила она.
Вот уже несколько дней Чарлз Гулд так усиленно старался не сказать ничего необдуманного, что ему было недосуг уделять внимание тому, каковы его чувства. Но они были любящей четой, и ответ возник с легкостью.
— Все мои чувства отданы тебе, дорогая, — не задумываясь отозвался он; и так много правды было в этой лаконичной и даже не вполне вразумительной фразе, что, когда он произносил ее, его душу всколыхнула огромная нежность и благодарность жене.
Миссис Гулд, однако, вовсе не сочла его ответ невразумительным. Она немного покраснела; а тем временем Чарлз заговорил уже другим тоном:
— Существуют факты, против них не возразишь. Ценность рудников — как таковых — несомненна. Рудники нас сделают очень богатыми людьми. Для того чтобы заниматься их разработками, нужны чисто технические познания, которыми я обладаю… а во всем мире ими обладают еще тысяч десять людей. Но сохранить рудники в целости, добиться, чтобы разработки продолжались и приносили прибыль людям, — посторонним, относительно посторонним, — которые вложили в предприятие деньги, эта задача полностью возложена на меня. Ко мне с доверием отнесся человек, обладающий большим богатством и положением в обществе. Тебе кажется, что иначе и быть не могло, да? Право же, не знаю. Я не знаю, почему я внушил ему такое доверие; но это факт. И благодаря этому факту все делается возможным, потому что в противном случае я и помыслить бы не мог о том, чтобы не выполнить волю отца. И мне не удалось бы передать кому-нибудь концессию, как передает свои решающие права в предприятии спекулянт — за наличные и акции, которые, вероятно, когда-нибудь его обогатят, и уж во всяком случае определенную сумму он положит в карман сразу. Нет. Даже если бы это было осуществимо, — что сомнительно — я бы так не поступил. Отец этого не понимал, бедняга. Он думал, я запутаюсь, как он, буду просто ждать счастливой случайности и сгублю здесь свою жизнь. Он поэтому и запретил мне сюда возвращаться, а мы вполне сознательно нарушили его запрет.
Они прогуливались взад-вперед по галерее. Ее голова доставала как раз до его плеча. Он держал ее за талию. Тихо позвякивали шпоры.
— Он меня не видел десять лет. Не знал меня. Ради моей пользы он со мной расстался и не позволял мне сюда приезжать. Он постоянно твердил в письмах, что уедет из Костагуаны, бросит все и убежит. Но он был слишком ценной добычей. Если бы кто-нибудь заподозрил, что он готовит побег, его тут же засадили бы за решетку.
Он шел медленно, негромко звеня шпорами. Шел, наклонившись к жене. Большой попугай, нагнув голову, круглым немигающим глазом глядел им вслед.
— Одинокий он был человек. Едва мне исполнилось десять, он стал делиться со мной всеми своими бедами, как со взрослым. Когда я жил в Европе, он писал мне каждый месяц. По десять, двенадцать страниц каждый месяц десять лет подряд. И при этом не знал, какой я! Только подумай — мы не встречались целых десять лет; за эти годы я из ребенка стал мужчиной. Он и не мог меня узнать. Как ты полагаешь, ведь не мог?
Миссис Гулд отрицательно покачала головой; именно этого ответа и ожидал ее муж, приведя столь неопровержимые доводы. Но в действительности она покачала головой, ибо считала, что никто не может узнать ее Чарлза, узнать его по-настоящему, никто, кроме нее. Это же ясно. Она это чувствует. И доводы тут совсем не нужны. А бедняга мистер Гулд-отец, умерший слишком рано для того, чтобы узнать об их помолвке, был в ее представлении какой-то призрачной фигурой, так что сомнительно, а мог ли он вообще хоть что-то знать.
— Нет, не знал. Я уверен, рудники не следовало продавать! Никогда! После всего, что он здесь вынес, я ни за что не стал бы ими заниматься только ради денег, — продолжал Чарлз; и она прижалась головкой к его плечу, безмолвно одобряя его слова.
Они задумались о жизни, окончившейся так плачевно именно тогда, когда его и ее жизни соединила счастливая полная лучезарных надежд любовь, для людей, способных на глубокое чувство, представляющаяся торжеством добра над всем злом, какое только есть на земле. В их жизненные планы неожиданно вошла смутная идея исправить это зло. Она была настолько смутной, что не нуждалась в поддержке аргументами, но это делало ее только более настоятельной. Возникла она в тот миг, когда для женского стремления к самозабвенной преданности и мужской тяги действовать самым могучим стимулом является пылкая мечта. Даже наложенный покойником запрет, казалось, еще настойчивее требовал, чтобы они добились своего. Они как бы обязаны были доказать, что правы, с надеждой взирая на жизнь, и противопоставить свою решимость пессимизму тех, кто не выдержал борьбы и впал в отчаяние. Если у них и возникала мысль о богатстве, то лишь потому, что была связана с их главной мечтой.
Миссис Гулд, осиротевшая в раннем детстве и оставшаяся без средств, воспитанная в атмосфере интеллектуальных интересов, даже и не помышляла о богатстве. Она так мало знала о жизни богатых людей, что у нее не возникало желания к ней приобщиться. Но она не ведала и тяжкой нужды. Даже бедность ее тетушки маркизы утонченному уму не представлялась невыносимой: эта бедность согласовалась с огромным горем старой маркизы; от нее веяло аскетизмом жертвы, возложенной на алтарь благородных идеалов. Так получилось, что меркантилизм даже в самых умеренных дозах отсутствовал в характере миссис Гулд. Покойник, о котором она думала с нежностью (ведь он был отцом Чарли) и с некоторой досадой (уж очень слабодушным оказался он), разумеется, глубоко заблуждался. Рудники, одни лишь запретные рудники способны послужить основой, на которой они построят себе благосостояние, ничем не запятнав его единственно достойной, немеркантильной стороны!
Что до Чарлза, он вынужден был считать материальный аспект чуть ли не самым главным; но он был для него средством, а не целью. Если рудники не будут приносить большой доход, ими не стоит заниматься. Когда он говорил о рудниках, ему приходилось настойчиво подчеркивать именно эту сторону дела. Здесь был рычаг, способный сдвинуть с места людей с капиталом. Чарлз верил в свои рудники. Он знал все, что только можно о них знать. Его вера была заразительна, хотя особым красноречием он не блистал; но дельцы часто склонны к надеждам и пылки, как влюбленные. Они гораздо чаще подпадают под обаяние человеческой личности, чем кажется со стороны; а Чарлз в своей непоколебимой уверенности был на редкость убедителен. Кроме того, среди людей, к которым он обращался, каждому было известно, что рудничное дело в Костагуане, если взяться за него как следует, без сомнения превратится в игру, стоящую свеч и более того. Деловые люди знали это отлично. Опасность, связанная с рудниками, заключалась совсем в другом. Но те, кто слушал голос Чарлза Гулда, в котором звучали спокойствие и твердая решимость, не считали нужным опасаться. Деловые люди совершают иногда поступки весьма рискованные, чуть ли не безумные с точки зрения обыкновенных здравомыслящих людей; принимают решения, явно необдуманные, просто под влиянием симпатии и антипатии.
— Прекрасно, — сказал господин, обладающий весом, которому Чарлз Гулд, проезжая через Сан-Франциско, ясно и четко изложил свою точку зрения. — Допустим, кто-нибудь займется добычей серебра в Сулако. Тогда участниками дела станут: торговый дом Холройд, с которым все в порядке; затем мистер Чарлз Гулд, гражданин Костагуаны, с которым тоже все в порядке, и, наконец, правительство этой республики. Пока что все очень похоже на начало разработок в соляных копях Атакамы — там тоже дело финансировал торговый дом, имелся джентльмен по фамилии Эдвардс и… правительство, вернее, два правительства — правительства двух южноамериканских стран. А что из этого вышло, вам известно. Война вышла; разорительная долгая война, вот что из этого вышло, мистер Гулд. Мы, правда, обладаем преимуществом: имеем дело всего лишь с одним южноамериканским правительством, которое уже нацелилось урвать побольше, когда мы восстановим разработки. Несомненное преимущество; но южноамериканские правительства бывают более, а бывают менее скверными, нам же предстоит иметь дело с правительством Костагуаны.
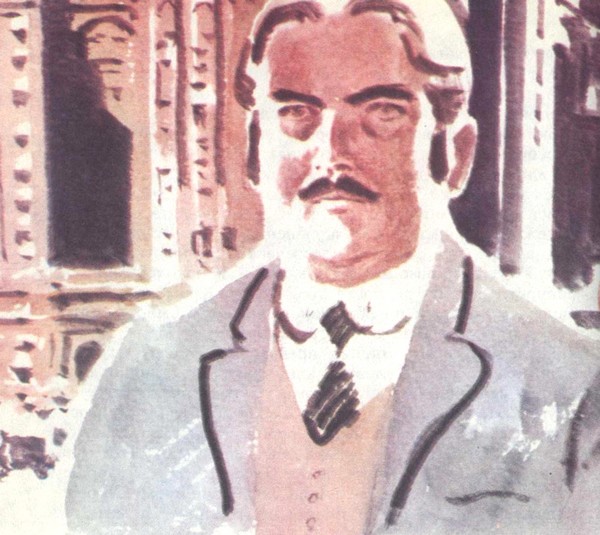
Так рассуждал господин, обладающий весом, миллионер, чьи щедрые пожертвования на церковь по размаху вполне соответствовали величию его родины… тот самый человек, в беседах с которым врачи смутно намекали на нечто очень страшное. Он был крупный, неторопливый; просторный отделанный шелком сюртук выглядел внушительно и в то же время элегантно на его громоздкой фигуре. Волосы у него были с проседью, брови еще черные, крупные черты лица, а профиль напоминал профиль Цезаря на древнеримской монете. Но по происхождению он был и немцем, и шотландцем, и англичанином с небольшой примесью датской и французской крови, благодаря чему обладал темпераментом пуританина и ненасытным воображением завоевателя. Своего гостя он принимал в высшей степени непринужденно и просто, потому что гость этот привез очень теплую рекомендацию из Европы, а также потому, что всегда испытывал безотчетную симпатию к пылким и решительным людям, где бы их ни встречал, и независимо от того, на что направлены их решимость и пыл.
— Костагуанское правительство непременно потребует свою долю… помяните мое слово, мистер Гулд. Ну, а что же представляет собой Костагуана? Бездонная утроба, поглощающая десятипроцентные ссуды и другие столь же дурацкие вложения капитала. Вот уже долгие годы европейский капитал валом валит в эту прорву. Европейский, но, кстати, не наш. Мои земляки осведомлены достаточно хорошо и не выходят из дому, когда хлещет ливень. Мы можем посидеть и обождать. Конечно, рано или поздно и мы вступим в дело. Без этого не обойдется. Но мы не спешим. Даже Времени приходится немного умерять свой шаг и не торопить величайшую державу в божьем мире. Наше слово — решающее во всем: в промышленности, в коммерции, в юриспруденции, в журналистике, искусстве, политике и религии, от мыса Горн до пролива Смита, да и за его пределами, если что-нибудь заслуживающее внимания вдруг обнаружится на Северном полюсе. А потом у нас останется время на то, чтобы прибрать к рукам отдаленные острова и континенты. Мы будем заправлять делами всего мира и позволения спрашивать не собираемся. Мир не в силах тут ничего изменить… да и мы, пожалуй, тоже.
Таким образом свою веру в судьбу он облек в выражения, соответствующие его интеллекту, неискушенному в изложении общих идей. Интеллект его сформировали факты; и у Чарлза Гулда, воображение которого было поглощено одним-единственным великим фактом, имя которому — серебряные рудники, не появилось возражений против такой теории. Если его и покоробило на миг, то только потому, что внезапно представшая перед ним панорама столь исполинских возможностей свела почти на нет то главное, что его волновало. И он сам, и его планы, и все богатства недр Западной провинции, казалось, в мгновение ока бесследно утратили свою значительность. Препротивное ощущение; но Чарлз был не глуп. Он уже почувствовал, что производит приятное впечатление; и это лестное для него обстоятельство помогло ему изобразить на лице слабое подобие улыбки, принятой его громоздким собеседником за улыбку, выражающую скромное согласие и восхищение.
Он тоже слегка улыбнулся в ответ; и сразу же Чарлз с той живостью ума, которая приходит к людям, защищающим свою заветную мечту, понял, что кажущаяся незначительность цели поможет ему достичь успеха. И он, и рудники получат поддержку, поскольку дело это несущественное и его исход безразличен для человека, полагающего, будто ему суждена такая необычная судьба. И догадка эта не показалась Чарлзу унизительной, ведь его цель осталась столь же важной в его глазах. И оттого, что кто-то ставит перед собой исполинские цели, его желание восстановить рудники Сан Томе не сделается меньше. Его стремления справедливы, место действия — известно, а срок их осуществления недалек, и импозантный его собеседник на миг показался ему просто мечтателем, чьи фантазии ничего не стоят.
Великий человек, дородный и благожелательный, задумчиво смотрел на него; после недолгого молчания он заметил, что нынешняя Костагуана кишмя кишит концессиями; любой дурачок, стоит ему захотеть, в мгновение ока получает концессию.
— Наши консулы не смеют рта раскрыть, — продолжал он, и в глазах его мелькнула добродушная презрительная насмешка. Но уже через мгновение он заговорил серьезно. — Добросовестным, честным людям, которые не льстятся на взятки и не участвуют в тамошних интригах, заговорах и распрях, очень быстро возвращают дипломатические паспорта. Вы меня поняли, мистер Гулд? Персона нон грата. Вот почему наше правительство ничего не знает толком о Костагуане. С другой стороны, Европу не следовало бы подпускать близко к этому континенту, а для существенного вмешательства с нашей стороны, смею сказать, еще не пришла пора. Но мы… мы ведь не правительство этой страны и не дурачки в то же время. Для нас главное решить, сумеет ли второй партнер, то есть вы, дать отпор третьему и неизвестному партнеру, то есть одной из высокопоставленных и могучих разбойничьих шаек, возглавляющей сейчас правительство Костагуаны. Как вы полагаете, мистер Гулд, а?
Он наклонился, и его пристальный взгляд встретился с решительным взглядом Чарлза, который, вспомнив большую шкатулку, полную отцовских писем, вложил в свой ответ всю горечь и презрение, скопившиеся за долгие годы.
— Если вас интересует, знаю ли я этих людей, их политику, методы, к которым они прибегают, я со всей решимостью могу ответить утвердительно. Эти познания приобретались мною с детства. Едва ли я способен совершить ошибку от избытка оптимизма.
— Едва ли, э? Прекрасно. Вам потребуется такт, а кроме того, умение держать их на расстоянии. Их к тому же можно запугать, намекнув, что у вас сильные сторонники. Только не перегните палку. Поддержку-то мы вам окажем, но при условии, что все будет в порядке. Начнутся неприятности, мы тотчас выйдем из игры. Я решил произвести эксперимент. Конечно, не без риска, но на риск мы согласны; ну, а уж если вы не сумеете наладить дело и все пойдет вкривь и вкось, убытки нас, конечно, не разорят, зато в дальнейшем действуйте без нас. С этими рудниками нет спешки; сейчас работы, как вы знаете, приостановлены. Надеюсь, вам понятно, что мы ни в коем случае не намерены тратить деньги впустую.
Так говорил великий человек, сидя в своей собственной конторе в большом городе, где другие люди (также обладающие немалым весом в глазах суетной толпы) с живостью следили за каждым мановением его руки. А через год с небольшим, неожиданно появившись в Сулако, он еще раз, не подыскивая слов, с такой же прямотою подчеркнул, что не намерен идти на уступки, поскольку человеку, обладающему его богатством и влиянием, это дозволено. Но, пожалуй, на сей раз он высказался доверительнее и спокойней, так как, изучив, какие работы были произведены на рудниках, а главное, как и в какой последовательности их производили, он убедился, что Чарлз Гулд вполне способен наладить дело так, чтобы оно не пошло вкривь и вкось.
«Этот парень, — подумал он, — станет тут со временем большим человеком».
Мысль эта его порадовала, ибо до сих пор единственное, что он мог сообщить в кругу своих приятелей о молодом человеке, было следующее:
— Мой шурин познакомился с ним в захолустном старинном немецком городке, рядом с которым есть шахты, и прислал его ко мне с письмом. Он из костагуанских Гулдов — они все чистокровные англичане, но родились в этой стране. Его дядюшка занимался политикой, был последним президентом провинции Сулако и расстрелян после боя, где его противники одержали верх. Отец был крупным дельцом в Санта Марте и старался не вмешиваться в политику, но умер в бедности, его разорили их бесчисленные революции. Сами видите, что представляет собой эта пресловутая Костагуана.
Разумеется, даже близкие друзья не осмеливались расспрашивать столь великого человека, какими соображениями он руководствовался. Что касается посторонних, им предоставлялось лишь почтительно размышлять о скрытых причинах его поступков. Он был таким великим человеком, что щедрая благотворительность для «сохранения истинных форм христианства» (принявшая незамысловатую форму пожертвований на строительство храмов, что немного забавляло миссис Гулд) рассматривалась его согражданами как проявление благочестия и смиренности духа. В близких же к нему кругах финансового мира к деловым связям мистера Холройда с рудниками Сан Томе отнеслись, конечно, вполне уважительно, но в то же время эти связи стали предметом сдержанных шуток.
В огромном здании фирмы Холройд (гигантском нагромождении железа, стекла и каменных глыб со сверкающей над крышей паутиной телеграфных проводов) начальники основных отделов фирмы обменивались веселыми взглядами, означавшими, что их никто не посвящал в загадку Сан Томе. Костагуанская корреспонденция (она никогда не бывала обильной — всего один увесистый конверт) невскрытой попадала в кабинет великого человека, и никаких связанных с ней распоряжений оттуда не исходило. В конторе сообщалось шепотом, что мистер Холройд отвечает на эти письма сам — причем даже не диктует, а пишет ответ пером и чернилами, и надо полагать, копии с них переписывает в свою личную тетрадь, недоступную взорам непосвященных.
Некоторые высокомерные молодые люди, незначительные винтики в подсобных механизмах одиннадцатиэтажной мастерской по производству крупных предприятий, откровенно высказывали свое личное мнение, что их великий руководитель наконец-то допустил какую-то глупость и стыдится в ней признаться; другие, немолодые и тоже незначительные, но полные романтического преклонения перед делом, поглотившим их лучшие годы, намекали с видом осведомленных людей, что поступок этот далеко не так прост; что связи фирмы Холройд с республикой Костагуана рано или поздно приведут к полному захвату этой республики названной фирмой.
В действительности же это была просто причуда. Великому человеку интересно было посетить рудники Сан Томе; настолько интересно, что он употребил на свою причуду полный отпуск, а такого большого отпуска он не позволял себе уж бог знает сколько лет. Крупной его затею никак нельзя было назвать; это даже не управление железной дорогой или промышленным предприятием. Он управлял человеком! Успех порадовал бы его чрезвычайно — как приятно вкусить прелесть новизны; а с другой стороны, именно необычность обстоятельств поможет ему немедленно прикрыть дело при первых же признаках неудачи. От человека избавиться легко. Жаль, газеты раструбили на весь свет о его поездке в Костагуану. И хотя он остался доволен Гулдом, но поддержку ему обещал в еще более суровых выражениях, чем прежде. Даже во время их последнего разговора, за полчаса до того, как он выехал со шляпой в руке из внутреннего дворика в карете, влекомой белыми мулами миссис Гулд, он сказал в кабинете Чарлза:
— Продолжайте действовать по собственному усмотрению, а я вам буду помогать, пока вы не сорветесь. Но можете не сомневаться, если начнутся неполадки, мы с вами нянчиться не станем.
На что Чарлз Гулд ответил кратко:
— Оборудование можно выслать сразу же.
Великому человеку понравилась его невозмутимость.
А объяснялась она тем, что Чарлзу были по душе эти жесткие условия. На рудниках Сан Томе нельзя иначе, это представление о них запечатлелось в его памяти с детства; отвечает же за все он один. Дело нешуточное, и он тоже относился к нему со всей серьезностью.
— Разумеется, — говорил он жене, обсуждая свой последний разговор с только что отбывшим гостем; они медленно ходили взад и вперед по галерее, а попугай раздраженно косился на них. — Разумеется, такому человеку, как он, ничего не стоит взяться за любое дело или отступиться от него в любой миг. Он не станет огорчаться от неудач. Возможно, он в чем-то потерпит неудачу, а может быть, он завтра умрет, но великая корпорация серебра и железа не погибнет и в один прекрасный день завладеет Костагуаной, а заодно и всем миром.
Они стояли возле клетки. Попугай, уловив звук знакомого слова, входящего в его лексикон, почувствовал необходимость вмешаться в беседу. Попугаи ведь как люди.
— Viva Costaguana! — воинственно выкрикнул он и тотчас же, взъерошив перья, чванливо нахохлился за сверкающими прутьями клетки.
— Ты в самом деле веришь в это, Чарлз? — спросила миссис Гулд. — По-моему, это просто омерзительный меркантилизм и…
— Милая, меня это нисколько не тревожит, — рассудительно прервал ее муж. — Я смотрю на жизнь трезво и извлекаю пользу из того, что вижу. Не все ли мне равно, говорит ли его устами сама судьба или это всего лишь эффектные фразы? В Америках, и в Северной и в Южной, произносится множество эффектных фраз. Вероятно, самый воздух Нового Света благоприятствует искусству декламации. Разве ты забыла, как наш милейший Авельянос может часами разглагольствовать…
— Ах, но это же совсем другое дело, — чуть ли не с возмущением возразила миссис Гулд. — Крайне неудачное сравнение. Дон Хосе милейший человек, и говорит он превосходно, и верит всей душой в великое будущее рудников Сан Томе. Как ты можешь сравнивать их, Чарли? — воскликнула она с упреком. — Он так пострадал… но по-прежнему полон надежд.
То обстоятельство, что мужчины отлично разбираются в делах, — в чем миссис Гулд ничуть не сомневалась, — представлялось ей удивительным: ведь сплошь и рядом, рассуждая о вопросах, где двух мнений быть не может, они обнаруживали редкостную бестолковость.

Чарлз с напряженным спокойствием, которое сразу же снискало ему горячее сочувствие жены, заверил ее, что он отнюдь их не сравнивает. Он и сам американец, если на то пошло, и, возможно, способен понять и тот, и другой вид декламации… «Если только есть нужда их понимать», — мрачно добавил он. Но он дышал воздухом Англии дольше, чем кто-либо из его родственников на протяжении трех поколений, и искренне просит его извинить. Бедняга отец его тоже умел выражать свои мысли эффектно. Помнит ли она отрывок из его последнего письма, где отец высказывает убеждение, что «господь разгневался на эти страны, иначе он позволил бы хоть лучу надежды проникнуть сквозь устрашающую тьму интриг, кровопролитий и преступлений, окутавшей Королеву Континентов».
Миссис Гулд помнила.
— Ты читал мне это, Чарли, — проговорила она тихо. — Поразительные слова. Я подумала: с какой же глубиною твой отец ощущал неизмеримую печаль этой мысли!
— Кому понравится, когда его грабят! Разумеется, он возмущался, — сказал Чарлз. — Но тем не менее нарисовал вполне правдивую картину. Что требуется в здешних краях — это законность, твердая вера, порядок, надежность. Декламировать может каждый, я же предпочитаю связать свою веру с материальными интересами. Пусть только эти материальные интересы обретут точку опоры, и тогда непременно появятся условия, без которых все наши старания ни к чему не приведут. Вот почему накопление денег оправдано здесь, где царит разор и беззаконие. Оно оправдано потому, что обеспечит спокойную жизнь не только нам, но и угнетенному народу. А потом придет черед справедливости уже в высоком смысле слова. Вот каков он — луч надежды. — Он на миг прижал ее к себе. — И кто знает, не станут ли тогда рудники Сан Томе тем лучом надежды в устрашающей тьме, который бедный мой отец отчаялся когда-либо увидеть?
Она подняла на него восхищенный взгляд. Право же, он умница: сумел облечь ее туманные мечтания в такую четкую великолепную форму.
— Чарли, — сказала она, — милый, милый мой упрямец.
Внезапно он вернулся в комнаты, оставив миссис Гулд на галерее, и надел шляпу, мягкое серое сомбреро, атрибут местной одежды, как неожиданно оказалось, очень подходивший к его английскому костюму. Потом возвратился, держа под мышкой хлыст, застегивая лайковые перчатки; он был полон решимости, и это отражалось на его лице. Жена ждала его на верхней площадке, а он, прежде чем поцеловать ее на прощанье, сказал, заканчивая их разговор:
— Нам одно должно быть совершенно ясно — путь назад закрыт. Где еще мы сможем начать жизнь заново? Что бы с нами ни случилось, наше место тут.
Он наклонился к ее запрокинутому лицу, полный нежности и отчасти угрызений совести. Он так отменно разбирался в своем деле потому, что не строил никаких иллюзий. Концессии Гулда придется сражаться за свою жизнь любым оружием, какое отыщется в этой трясине, где растленность нравов так привычна, что ее почти не замечают. Он был готов воспользоваться этим, может быть, и не вполне благовидным оружием. У него на миг возникло ощущение, что серебряные рудники, убившие его отца, заманили его дальше, чем он собирался пойти; и тут он почувствовал, ибо логика чувств причудлива, что жизнь его имеет цену, только если он достигнет успеха. Путь назад закрыт.
Назад: Часть первая СЕРЕБРЯНЫЕ РУДНИКИ
Дальше: ГЛАВА 7

