VII. Cело Елохово
Я покинул Денисовский переулок и взял курс на Богоявленский кафедральный собор, что в бывшем селе Елохово. Именно там, под сенью старых тополей, в тени куполов, я намеревался получить временный приют. И не ошибся. Село Елохово дало отчизне двух великих уроженцев: юродивого Василия Блаженного и поэта Александра Пушкина. Могла ли эта земля не быть ко мне участлива и милосердна?
Я шел по улице и озирался по сторонам. Прохожие провожали меня сочувственными взглядами. Кто-то тянулся меня погладить, но, вспомнив о лишае и блохах, отдергивал руку. Август был на исходе. Как будто предчувствуя скорый конец лета, солнце жарило из последних сил. Хотелось пить. Все лужи высохли. Я сел передохнуть у входа в метро «Бауманская» и вскоре заснул, а проснувшись, обнаружил перед собой газету с куриными потрохами. Я слопал предложенный обед и опять уснул. Когда же снова открыл глаз, то увидел едва надкусанный гамбургер и миску с водой. Так повторялось несколько раз: я просыпался, и на газете появлялась какая-нибудь новая снедь. Печеночный паштет сменял котлету, наггетсы — чебурек, а фрикадельки — трехпроцентный творог «Саввушку» (разумеется).
Это навело меня на определенные мысли. Я заключил, что, во-первых, чем больше сплю, тем больше вокруг случается хорошего. И во-вторых, увечья, как ни странно, порядком облегчают мою жизнь. Если так пойдет и дальше, я смогу окончательно перестать бороться за свое существование. Я посвящу большую часть жизни, как и полагается котам, сну, в то время как еда сама будет лезть ко мне в пасть по пробуждении. Я решил остаться у метро «Бауманская» на пару дней, проверить свои догадки. И действительно, полицейские, прохожие, простой рабочий люд и, конечно, бабуси — все несли мне пищу, все обо мне заботились. Я даже до некоторой степени переменил свое отношение к печальным событиям весны. Старик меня не убил. Сделал ли он меня сильнее? Едва ли. Но несчастье привлекало ко мне внимание. Да, обо мне заботились и раньше, но только сейчас забота была вызвана не умилением, а состраданием.
На третий день я вспомнил о своей паломнической миссии. Возможно, умнее было бы остаться у метро, но мне надоело лежать на проходе, слышать безостановочный топот и цоканье тысяч пар ног. Я тронулся в путь к храму. Он был уже совсем рядом.
У паперти на привязи скулил старый безродный пес. Он был грустен, на шее его был надет лечебный воротник. Впоследствии я узнал, что еще в щенячестве Боба (так звали пса) сильно покусали сородичи, он носил полгода воротник, но, уже выздоровев, так с ним свыкся, что не расставался до самой своей старости. Я спросил Боба, где бы здесь можно было подкрепиться усталому пилигриму. Боб нагнулся ко мне, обнюхал и молча указал мордой во двор.
Я был отнюдь не первым, кого потянуло к Елоховскому собору. В подворье обитал целый кошачий прайд. Кошки самых разных кровей, мастей и возрастов. Дети, дряхлые старики и даже беременные. Я как раз успел к обеду. Стоял обычный для кошачьей трапезы гвалт. Поначалу коты продолжали есть, не замечая меня. Потом на меня обратил внимание один молодой полосатый кот, другой… По очереди каждый отвлекался от еды и поворачивался в мою сторону. Наконец все смолкли, перестали возиться и уставились на меня. Только сейчас, оказавшись через долгое время среди себе подобных, я уяснил, что же я собой теперь представляю. А представлял я собою нечто такое, что заставило их почтительно расступиться и пропустить меня к еде без лишних слов. Вместо ожидаемого презрения и брезгливости я вызывал уважение и даже почтение.
Кормили здесь неважно. Остатки человечьего обеда были приправлены рыбьими хрящиками и какими-то безвкусными отрубями. Все это было обильно посыпано засохшими хлебными крошками (скорее всего, заплесневевшими просвирками). Для иного животного, которое сутками не держало в пасти маковой росинки, самые тухлые отруби могли бы показаться амброзией. Но я-то еще не успел переварить те изысканные угощения, которыми меня баловали у метро. Я ел, совершенно игнорируя пристальное к себе внимание туземных обитателей. Кто-то из них попробовал было вступить со мной в беседу, но осекся, запутался и отошел за спины других.
Все-таки один серый кот, который стоял ближе ко мне, решился взять на себя роль парламентера. Он сказал:
— День добрый, как говорится. Приятного аппетита. Предлагаю знакомиться. Я Оливер. А вы?
Я ответил Оливеру многозначительным молчанием. Все пристально наблюдали за мной. Их глазами я словно осмотрел себя самого, заглянул вовнутрь и обнаружил, что душа моя зароговела, стала жесткой и неподатливой, как плохо прожаренный кусок телятины. И тогда я понял, что зубчик попал в паз. Мне было удобно оставаться тем, за кого они меня принимают. Я согласился им быть. Я продолжал жевать.
— Прошу прощения, — зашел с новой стороны Оливер. — Если вам не угодно раскрывать вашего настоящего имени, вы можете представиться так, как вас называл хозяин. У нас тут это нормально. В порядке вещей.
Я молчал.
— Многие так делают, — добавил Оливер, как-то скиснув.
Я не хотел называть своего имени — ни настоящего, ни тех, что приобрел. Я увидел вывеску кафе через дорогу и сказал, обратившись ко всем и ни к кому:
— Меня зовут Жиль. Я проделал долгий путь, и сейчас мне нужен отдых. Может быть, в вашем гостеприимном общежитии осталась койка для бедного паломника?
— Да, конечно, спуститесь в подвал. Там вы сможете устроиться на ночлег и оставаться столько, сколько вам вздумается, — сказал Оливер.
Так я и сделал. В проводники мне дали совсем юного кота по имени Изюм. По дороге он объяснил мне, что́ тут и как. Этот прайд был создан что-то около года назад на добровольных началах. Сперва им управляли два отца-основателя, которых сам Изюм уже не застал, но память о них еще жива. Они решили устроить настоящую кошачью коммуну, гавань справедливости и милосердия в океане горя и зла. Каждый сирый, слабый и обездоленный кот мог прийти сюда и запросто стать членом прайда. Насытить чрево свое, испить чистой проточной воды и размять кости игрой в мяч (специально для этого даже была создана игротека). Поначалу дела коммуны шли в гору. Местный настоятель, отец Поликарп, благоволил животным. Коты прибывали поодиночке, парами и даже семьями. Стекались с обеих Басманных, Аптекарского, Горохового, даже Покровки. Один кот (собственно, основатель) пришел с далекого запада, из того края города, где растут серебристые высотки. Без страха за себя и близких горемыки бросали якорь в подворье Елоховского собора. Располагались в подвале и оставались жить.
То первое время совместной жизни все считали парадизом. Но потом что-то разладилось. Говорили, что между отцами-основателями произошла ссора. Никто не мог бы сказать точно из-за чего, но намекали, что причиной были разные взгляды на политический курс прайда. Тот, что был родом из здешних мест, настаивал на преимуществах авторитарного режима, объясняя это множеством внешних угроз (собаки, суровый климат, голод), с которыми может справиться только крепкая лапа. Четкое распределение социальных ролей, субординация и беззаветное служение общему делу — залог процветания и безопасности прайда. Его оппонент, пришедший из-за большой реки, принимая во внимание те же самые обстоятельства, считал, что нужно дать прайду полную свободу поведения. Он говорил, что подчинять кота воле одного индивида, навязывать социальные условности и прививать культ долга — фикция, фантом, эфемерность и, в конце концов, противно самой природе Felis catus. Построение вертикали власти не выручит прайд в трудную минуту, а только скорее его разрушит с помощью бюрократии и перекладывания ответственности с нижнего чина на высший или наоборот (как это и происходит, например, у людей). Здешний ему возражал, что ни о какой «вертикали власти» речи не идет. Он говорил, что вовсе не собирается строить управленческий аппарат, усложнять жизнь прайда введением должностей, чинов и санов. Он собирается сделать проще: назначить себя главным (тут его морда приняла добродушное, даже сочувственное выражение), взять себе в помощники двух-трех смышленых котов (он перешел на шепот и привстал на лапы), а несогласных вышвырнуть вон. Тот, что пришел из-за реки, навострил уши. Он спросил: «Правильно ли я понимаю…» — «Правильно», — перебил его здешний и угрожающе двинулся вперед. «И как же новый властелин прайда собирается поступить со своим другом?» — «А друг как раз сейчас это и узнает», — вежливо ответил тот и остановился. Он вдруг стал очень печальным. Он склонил голову набок и глубоко-глубоко вздохнул, как будто его тяготила какая-то давнишняя, неизбывная скорбь. «Эх, Момус. Какая досада. Какая досада», — грустно сказал он, а потом снова двинулся вперед. «Вильгельм, ты ли это? — сказал Момус, пятясь к стене. — Что-то я перестаю тебя узнавать, старина». Вильгельм ничего не ответил, но в глазах его вместе с грустью была еще какая-то черная точка, похожая на муху, какой-то знак, который можно было перевести как предвкушение немыслимого садизма, который он сейчас учинит. Морда его дрожала, глаза словно стекали вниз от съедающей душу тоски. Позади Момуса внезапно выросли три кота, и он понял, что отступать ему некуда. Он на мгновение замер и, чуть качнувшись назад, резко прыгнул на Вильгельма, но тот успел увернуться, и Момус с разбегу ударился об стену. Вильгельм кинулся на Момуса, полоснул его со всей силы лапой, так что рассек ему морду от брови до подбородка. Момус ответил точным выпадом, мгновенно выскользнул через окошко на улицу и кинулся прочь из подворья. Вильгельм со своей охраной бросились за ним, но Момус успел перелететь через проезжую часть и скрылся во дворах. Больше Момуса никто никогда не видел. Однако Вильгельм недолго наслаждался безраздельной властью. Через пару недель его присмотрела себе одинокая старушка, насильно запихнула в клетчатую каталку и увезла в неизвестном направлении.
— Шекспировские страсти, — сказал я.
— Ей-ей, — подтвердил мой провожатый Изюм.
Что я могу сказать? Тень отца преследовала меня всю жизнь. Я даже не сильно-то удивился, услышав вновь его имя. Хотя, возможно, преследовал его как раз я. Или нет, мы оба преследовали друг друга. Да, именно так, мы оба преследовали друг друга. Круги, по которым мы бегали, сужались, и скоро мы должны были встретиться в самой сердцевине мишени.
В подвал собора, куда мы пришли, вело маленькое окошко, достаточно широкое для кота и слишком узкое для собаки. Юркнув в это окно, кот попадал в каменный коридор, который скоро приводил его в просторный сводчатый зал или, как все говорили, гостиную. В жару здесь было прохладно, зимой жарко. По сути, это была усыпальница. Пол был выложен старыми плитами, на полустертой поверхности которых можно было распознать имена, сан и даты жизни здешних служителей. По дальней стене проходила отопительная труба, обмотанная какой-то ватой, за которой и был устроен ночлег. Коты ложились вповалку. Как мне показалось сперва, каждый устраивался, как ему вздумается. На самом деле это было не так. Новенькие, больные и подростки ложились по внешней окружности, потом шли пожилые и бывалые коты. В центре располагалась аристократия — Оливер и ближайшие друзья. Мне также отвели место в центре. Это было почетно. Чем я снискал такую честь, я не понимал, да поначалу не очень и интересовался.
Так началась моя жизнь в Елоховском подворье.
Я быстро привык к обстановке. Изучил местные нравы и обычаи. Приучился к новому рациону. Каждое утро я делал гимнастику: в течение двух минут кружился вокруг себя в правую сторону, затем в левую. Несколько раз забирался на дерево и обратно. Тщательно точил когти. Я был в прекрасной физической форме. Некоторые елоховцы присоединились ко мне в моих упражнениях. Они выстраивались на площади в шахматном порядке и повторяли за мной мои движения. Я был не против. Это напоминало мне групповые занятия ушу среди китайских пенсионеров, которые я наблюдал много лет назад по телевизору в доме Пасечников.
Прайд питался четыре раза в день. Если какого-нибудь кота замечали за трапезой в одиночестве в неустановленное время, ему делался выговор. После пятого выговора кот подвергался остракизму. Его выгоняли из прайда с правом вернуться через полгода. Впрочем, для котят, беременных и стариков делались исключения. Они могли есть, когда им вздумается. К подобным же нарушениям относились систематические драки, провокации, брань и привод незнакомых зверей без согласования с начальством. Кстати, по поводу начальства. Прайд управлялся коллегиально, «пятеркой достойнейших», как они сами себя величали. Все они были ветеранами Елохова, все относились к первой волне поселенцев. Лидера как такового среди них не было. Самым активным был Оливер, но на должность главного он явно не тянул. Наедине с друзьями он был раскован и остроумен, но как только доходило до публичного выступления — тушевался, терял мысль и заикался. Твердый в намерениях и сильный в теории, он был совершенно нерешителен и мягок, когда дело доходило до поступков. Ему не хватало авторитета. Но, с другой стороны, никто, кроме него, и не претендовал на главенствующую роль. Четверо других «достойнейших» как будто совсем не имели лидерских амбиций. На заседаниях они больше молчали, в нужный момент одобрительно кивали и больше посматривали в сторону паперти, на игру не обремененных властными полномочиями котов. Руководящий аппарат относился сам к себе с некоторой долей недоверия. Бредя на заседание, тот или иной кот спрашивал себя, а нужна ли вообще прайду «пятерка достойнейших», и встречался взглядом с другим котом, который, кажется, задавался тем же вопросом. Тем не менее они шли дальше и заседали. Возможно, все слишком хорошо понимали, насколько прайд зависим от воли одного человека, поэтому играть в управляющего прайдом по меньшей мере было наивно.
Этим одним человеком был отец Поликарп. Официально в среде котов он носил титул «бенефактора-учредителя». Если бы о. Поликарп об этом прознал, то был бы чрезвычайно горд, так как в молодости был человеком честолюбивым и амбициозным, обожал внимание и почет. Но карьера служителя церкви у него не сложилась, не задалась, так что к старости о. Поликарп переключился с человеческих душ на кошачьи: те, в отличие от людей, искренне его ценили и любили.
Настроение у о. Поликарпа было изменчиво. Если вечером он выпивал (а выпивал он регулярно), то раньше полудня в Елохове его ожидать не стоило. Следовательно, о завтраке и первом обеде можно было забыть. Если у него болели зубы (а болели они у него удручающе часто), то он вообще мог не явиться в храм. При этом после каждого посещения стоматолога ему выдирали по одному зубу, и некоторые продвинутые в арифметике коты высчитывали, когда же зубов наконец у него совсем не останется, чтобы больше нечему было болеть. Но, к сожалению, болели не только зубы. Накануне похолодания или дождей у о. Поликарпа ныли кости, и он весь день просиживал на скамейке, охая и кряхтя, так что коты напрасно строились перед ним в каре и по команде хормейстера затягивали песню о пользе регулярного питания. В довершение всего о. Поликарп был страстным болельщиком московского «Динамо». Увы, победы его любимой команды чередовались с поражениями в соотношении один к четырем. Если поражение было особенно чувствительным, то о. Поликарп мог не покормить прайд из чистой злости. Поэтому, когда предстоял матч с принципиальным соперником, некоторые коты забирались на карниз будки охранника у входа в подворье и с волнением наблюдали за результатом поединка. Если «Динамо» побеждало, косточки не ныли, а зубы не болели, о. Поликарп закатывал на всю колонию настоящий пир.
А еще, бывало, о. Поликарп ссорился с супругой. Изгнанный из дома, он мог явиться в Елохово в любое время суток. Глубокой ночью скрипела калитка, Боб салютовал батюшке двумя короткими и одним длинным «ав», и заспанные елоховцы выбегали из подвала к паперти. О. Поликарп, бормоча проклятья старой супруге, размешивал в лохани похлебку отрубей с куриными потрохами, наполнял резервуар чистой водой и залпом опустошал чекушку водки «Белочка». Потом, пьяный или трезвый, за неимением человеческой паствы он читал проповедь котам. И порой, когда вдохновение вдруг по ошибке стучалось в дверь о. Поликарпа, как заблудившийся почтальон, в словах его вдруг начинало биться живое чувство и то наивное и трогательное желание правды и справедливости для всех, которым он был исполнен в далекие отроческие годы. И коты переглядывались и думали, как бы это и в самом деле было бы хорошо: зажить по совести и попробовать стать хотя бы немного лучше.
Прайд в целом жил дружно. Но внутри выделялись две большие партии: те, кто родился на улице, и те, кто потеряли дом. Первые были, как ни странно, здоровее, веселее и выносливее. Вторые держались особняком. Бывшие домашние знали, что́ они потеряли. Горе их было особенным. В отличие от меня, все до единого они покинули дома не по собственному желанию. Все они с утра до вечера занимались решением одной древней задачи — «Что лучше: страстно хотеть и никогда не получить или иметь, но навсегда потерять?» При всем при том нельзя не сказать, что нравы и повадки их были мягкими и учтивыми. Например, два кота спорили за место в очереди к миске:
— Прошу меня пропустить. Я занял очередь раньше вас.
— Вранье!
— Следите за своим языком!
— А то что?
— А вы не думайте о будущем, живите настоящим.
Был еще один полосатый кот, которого почему-то звали Дашей. Мне рассказали, что так его назвали хозяева, приняв поначалу за девочку, но, установив истинный пол Даши, все-таки решили имени не менять. Даша не сильно сопротивлялся, ему было все равно, как его зовут. Но, что интересно, то ли по таинственному воздействию имени на судьбу, то ли потому, что грунтовые воды подсознания текут неисповедимыми путями, Даша с годами превратился в тихого и безнадежного гомосексуалиста. Он долго не мог примириться с потребностями своей натуры. Он всячески сопротивлялся: заводил романы с десятками кошек, дрался с котами за своих подруг. Играя с собственными детьми, уже совсем было уверился, что его склонность только кажущаяся, временная блажь, которая исчезла так же скоро, как и появилось. Но нет. Время шло. Более не в силах врать себе самому, он вдруг ослаб, размяк и отдался на волю жизненных волн. Но волны не прибили Дашу к берегу его желаний. Почему-то им было угодно продолжить страдания Даши. Он не мог встретить свою любовь. К тому же оказался болезненно робким, и те редкие коты, которые разделяли его пристрастия, по какой-то причине не хотели иметь с ним ничего общего. Так или иначе, Даша пристал к прайду в Елохове, обжился, занял свою крохотную ячейку и больше ничего от жизни не хотел.
Об Изюме сказать было почти нечего. Почти! С ним было связано только одно, но уникальное для кошек явление: имя, данное ему при рождении, совпало с тем, которым его наградили люди. Ничем другим он примечателен не был, но эту свою особенность Изюм как будто носил на груди невидимым орденом.
Оливер был тщеславным и хитрым котом. Однако недостаточно хитрым, хотя бы потому, что эта хитрость была всем очевидна. Что он хотел? То же, что хотели все: выстроить заново давно разрушенный дом, где было хорошо. Или казалось, что было хорошо. Память изменчива. Порой она наделяет отжившие времена как раз теми качествами, которых нам в них больше всего и недоставало, когда мы эти времена проживали. Как никогда не говорили древние: в памяти остается не рука, сложенная в собачью морду, а сама тень в форме собачьей морды.
Время тянулось безмятежно. Дни проходили бесшумной чередой. Так миновало больше месяца. Я уже всерьез подумывал, не бросить ли мне навсегда тут свой якорь. Обзаведусь подругой жизни, построю социальную ячейку. Да, маленькую, уютную бездетную ячейку. И я все более склонялся к этой мысли.
Был праздный полдень. Послушник Аркадий поливал цветы. Шланг в его руке танцевал. Можно было подумать, что он выписывает струей имя возлюбленной девушки Нади (которую сам и выдумал). Звери разлеглись на площади перед входом в собор. Горячая эта площадь напоминала какую-нибудь итальянскую piazza, а журчание стекающей в канализационную решетку воды звучало как фонтан и только усиливало это сходство. Два котенка гонялись за своими хвостами. Я и Оливер расположились в тени скамейки и следили за игрой молодняка.
— Знаете, Жиль, — сказал Оливер, наблюдая игру детей, — я думаю, вы совсем не тот, за кого себя выдаете.
— А кто же я?
— Откуда мне знать. Но только Жиль — это название кафе, на которое вы посмотрели, когда я спросил ваше имя при знакомстве. Я, может быть, и не обратил бы на это внимание, да только именно из «Жиля» меня благополучно погнали вот уже два года как. Так что, можете понять, я питаю к этому заведению особенное чувство.
— Ну хорошо. Допустим, у меня были свои основания скрывать настоящее имя.
— Думаю, не было. Думаю, не было. Просто вы такое же, как и все мы здесь, потерянное животное, которое не знает, доживет ли до следующей весны. Или даже до завтрашнего дня.
— И поэтому я скрываю свое имя?
— Нет, не поэтому. Имя вы свое скрываете, потому что, уж извините за пафос, вам больно возвращаться даже мысленно туда, где вам было хорошо. Угадал?
Я молчал и продолжал смотреть на него.
— Что вы молчите?
— А почему вы думаете, что мне было так уж хорошо в прежних местах?
— Судя по вашей морде, когда-то вам было все-таки лучше. Я знаю, что именно так. Но только вот собаки, в отличие от нас, хотя бы могут скулить. Им, не поверите, действительно от этого легче. А мы — уж так распорядилась природа или кто там еще — принимаем удары судьбы стоически, молча. А кричим только веснами, и то совсем не от боли, а, уж простите, от нестерпимого полового влечения.
— Послушайте, зачем вы мне все это говорите?
— Сейчас объясню. Дело в том, дорогой Жиль или как вас там, что вы не могли не заметить, с каким пристальным вниманием вас встретили местные коты.
— Да, я сильно удивился.
— Но только не подали виду. Решили разыграть этакого бывалого, высушенного невзгодами кота. Верно?
— Я никого не играл. Просто у меня…
— Да, тяжелый период в жизни.
— Именно так. Вы и сами видите.
— Так вот, Жиль, резиденты Елохова были поражены, но только, поверьте, совсем не вашим плачевным видом. Дело в том, что вы как две капли воды похожи на одного из наших отцов-основателей. Буквально одно лицо.
— Вы имеете в виду Момуса.
— Точно. Вы, значит, уже наслышаны о нем.
— Так.
Послушник Аркадий закончил поливать цветы. Он осмотрелся, нет ли поблизости кого из начальства, и закурил.
— Смотрите… э-э…
— Темиржан.
— Нет, не Темиржан.
— Август.
— И не Август.
— Хорошо, Пушок.
— Опять не то.
— Савелий.
— О, а вот это больше похоже на правду.
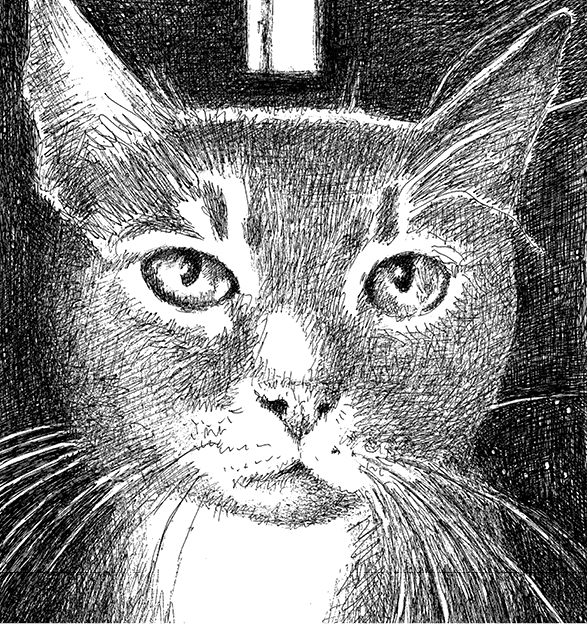
— Как вы поняли?
Оливер, изображая охотника, комически пошмыгал носом по сторонам:
— Чуйка. Да, имен у вас, как у испанской инфанты. Но самое интересное, что из одного только их списка можно довольно точно обрисовать всю вашу биографию. Прекрасная биография, на самом деле. Побили, конечно, хорошо побили, но с кем не бывает? А так — любящая мама, судя по всему. Назвали в честь отца, я так понимаю?
— Нет, — мне понравилось, что он ошибся.
— Ну, неважно. Пара-тройка приличных домов. Последнее пристанище у каких-то узбеков, да?
— Киргизов.
— Вот. Все у вас замечательно. А посмотрите на Аркадия.
Послушник, оставив шланг, прикурил от тлеющего окурка новую сигарету.
— Если я ничего не путаю, по уставу ему строго-настрого запрещено курить. У Чехова где-то есть, как супруги в бане не стеснялись мыться голыми перед своим слугой, потому что не считали его за человека. Вот и Аркадий. Перед начальством-то он, поди, курить не осмелится, а перед нами можно. Мы — никто, — Оливер вдруг уставился прямо на меня серьезно и многозначительно. — Это унизительно, — наконец сказал он и глубоко и сокрушенно вздохнул. Эта искренность ему не шла, но в то же время он этим вздохом как будто проговорился, выдал себя другого, каким он, наверное, почти никогда не бывает даже наедине с собой.
— Послушайте, Оливер…
— Давай на «ты».
— Я ничего про это не знаю и ничего не понимаю. Я мало общался с котами. Я социопат.
— Ну да. Ну да. Так вот, я хочу обратиться к тебе с предложением. Но для начала надо тебе немного рассказать про Момуса. Я не знаю, что ты там про него слышал, но, думаю, в этом было мало правды. Момус был харизматичным котом. Большая личность. Он пришел к нам издалека. Оттуда, — Оливер мотнул мордой на запад, — из-за большой реки. Он жил в порту, удил рыбу. Держал там небольшую, как он выражался, «группу единомышленников». Короче, банду. У него была власть и уважение. Много еды, девок и всякой всячины. Потом он вдруг все бросил и стал актером, представляешь? Узнал, что где-то неподалеку есть кошачий театр. Он пришел туда, сел у служебного входа и стал проситься к ним. День сидел, два, а на третий к нему вышел какой-то мужик с накрашенными губами, румянцем на щеках и в красном колпаке. Мужик посмотрел на Момуса и попросил его изобразить все, что тот умеет. Момус изобразил все, что умеет. Мужик снял с себя колпак и попросил Момуса повторить все, что тот умеет. Момус еще раз повторил все, что умеет. Короче, его сразу приняли в труппу. Он стал звездой. Момус поправил финансовые дела театра. Он объездил с театром полмира, стал сенсацией, его обожали. Школьные автобусы выстраивались от МКАДа до Третьего транспортного кольца, когда шли спектакли с его участием. Даже выпустили футболки и магниты с изображением Момусовой морды. Однако, как известно, театр — террариум, ядовитый гадюшник. Момусу завидовали, строили козни, плели интриги. Но он повел себя верно: тут же обозначил свои права, не вступал ни с кем в конфликты, а просто создал партию, во главе которой поставил себя. Он так все устроил, что артистам было выгодно дружить с ним и враждовать с его неприятелями. Но на пике популярности, снявшись в рекламе какого-то корма, Момус сбежал из театра. За реку, ближе к нам. Ему наскучили сцена и слава. Он стал жить где-то на Таганке. Попробовал себя в роли семьянина, но оказалось, что и домашний очаг — это не для него. Он перебрался в Елохово. Куда бы Момус ни приходил, он, как брошенный в воду камень, всегда оказывался в центре круга. Так произошло и тут. Скоро он образовал вокруг себя прайд. Управлял им умно и грамотно. Снискал любовь подданных. Но его сбил грузовик. Я при этом присутствовал. Страшная картина. Отвратительно было видеть скрытый механизм его драгоценного, насмешливого разума раскатанным по асфальту. Бр-р… — Оливер встрепенулся. — Даже сейчас трясет от этого воспоминания.
Снова помолчали.
— Да, Момус остался великой легендой. Его вспоминают с благоговением. Его не хватает. Очень не хватает. Возможно, он часто был не так уж справедлив и добр к нам… Но, знаешь, кошачья память увивает цветами самую дикую пустыню. Короче, местные не сомневаются, ты — реинкарнация Момуса, хотя большинство из них никогда его и не видели. Они хотят, чтобы ты был главным.
— Зачем мне это?
Оливер как-то обиженно и грустно посмотрел через дорогу.
— Савва, средняя продолжительность жизни кошки в условиях большого города… знаешь сколько? Два с половиной года. Это приблизительная статистика. Но я, основываясь на своих наблюдениях, полгода бы еще убавил. Надо ли тебе расписывать преимущества жизни в прайде? А? Как люди говорят, у Христа за пазухой?
— Возможно…
— Ты думаешь, я не понимаю, что с тобой происходит? Думаешь, ты один такой? По городу бродят десятки тысяч голодных искалеченных животных. Без надежды на исцеление, или дом, или хотя бы кусок мяса на завтрак. Ты что-нибудь слышал про интернет? Целые полчища милых девочек и мальчиков, которые не знают, что делать в жизни, проводят возле экранов своих телефонов и компьютеров сутки напролет. Они отправляют по пятьсот рублей в разные фонды, никак не отслеживая, на что уходит их скромное вспоможение. Зато их уютным нежным душам становится еще уютнее и нежнее от чувства выполненного долга. Они же теперь становятся гражданами. Они такие цивилизованные. Боже мой, они протирают ободки унитазов, если вдруг на них нассут, они сдают кровь раз в месяц для нуждающихся. Они не пользуются косметикой, которую тестируют на животных. Но что их пятьсот рублей для старой кошки с переломанным дверью хребтом? Что эти пятьсот рублей котенку с отмороженными лапами? Что это бедолаге, умирающему от перитонита? Им нельзя помочь. Да, их можно накормить разок от пуза. Удалить из уха клеща. Но это делает их еще несчастнее, потому что зажигает вдалеке маячок надежды на лучшую участь. А в отличие от тебя, они видят только одну дорогу перед собой. И в этом их спасение. У них нет выбора. Во всяком случае, они о нем никогда не думают. Им достаточно поверить, что завтра все будет хорошо, а большего им и не надо. И они правы в этом своем убеждении. Пусть ничего у них никогда и не будет. Пусть их никто не подберет и через месяц они сдохнут в парке от голода, даже не имея сил вырыть себе могилу. Но им надо верить до последнего вздоха, до самого последнего взгляда на солнце, до последней капли слюны им надо верить, что все будет хорошо. Ты очень неглупый. Люди обожают умных животных. Просто обожают. Они смотрятся в нас, как в кривые зеркала. Их умиляет наша недочеловечность. То же чувство они испытывают от просмотра тупых фильмов или разглядывая посредственную живопись. Вид самого умного животного будит в них чувство интеллектуального превосходства. За это нас так сильно любят. И еще черт знает, чем они нас наделяют. Люди думают, что мы какие-то врачеватели, астрологи, алхимики и телепаты в одном флаконе. Знаешь, когда я был в «Жиле», я часто делал вид, что вижу в воздухе что-то необыкновенное, и мотал мордой, как будто следил за какой-то точкой. Как людям это нравилось! Но представляешь, если бы мы могли ответить на телефонный звонок или обыграть их в шахматы? Среди людей началась бы эпидемия самоубийств. Потому как для сотен миллионов превосходство над нами, рождающее то покровительственное умиление и заботу, — последний якорь, который удерживает их на земле. Им надо узнавать себя в нас. Ты меня понимаешь? И как же ты распоряжаешься своим даром? Ты похож на размагниченную стрелку компаса, которая вращается, не в состоянии определиться, какую сторону указать. Это твоя беда.
Я не знал, что ответить. Оливер лег в позу сфинкса, внимательно на меня посмотрел и, не дождавшись ответа, сказал:
— Я предлагаю тебе то, что могло бы тебя спасти. Я бы справился с этой ролью в тысячу раз лучше тебя, но я не обладаю авторитетом. Меня слишком хорошо знают. Я танцую вокруг палки, которую сам и вкопал. С этим я не могу ничего поделать. Такой уж получился. А в тебя они с первого взгляда поверили. Я не знаю, как это происходит, но это так. Чтобы в тебя верили без оглядки, ты должен быть неизвестен. Они тебя не понимают, хотя видят каждый день, разговаривают с тобой, шутят. Вон даже какую-то гимнастику за тобой повторяют. Ты без своей воли заронил в них что-то. Одним своим сходством с тем, первым. Даже если случится землетрясение, если нас отсюда смоет потопом, даже если этот дурак отец Поликарп решит нас вдруг разогнать, когда его «Динамо» опять проиграет, мы всегда сможем устроиться на новом месте. И все до последнего пойдут туда, куда ты им скажешь. Все. Самые строптивые и наглые, котята и старики. Ты просто вытянешь морду в угодном тебе направлении, не зная, что там нас ожидает, но все пойдут. И в этом великая сила.
— Я тебя понял. Я отказываюсь. Это не мое.
— А что твое?
— Не знаю.
Оливер вскочил на лапы. Кажется, он начал терять терпение.
— Так в этом и дело. Тебя как бы и нет, идиот. Почему ты боишься? Ты трусишь! Что тебя останавливает? Ты не маленький. Как ты собираешься жить дальше, не выбирая пути? Или это такое твое высокомерие по отношению к жизни? Ты считаешь, что твой путь неизвестен, уникален — или что? Ты думаешь, что он у тебя будет свой собственный? И какой-то бесплотный дух тебя возьмет за шкирку, как мамка, и перенесет, и поставит на дорогу четырьмя лапами? Ты правда надеешься на что-то особенное? Почему? Почему? — повторил он, повысив голос.
— Оливер. Я надеюсь. Но не на это.
Оливер пристально глядел в мой единственный глаз.
— Я предлагаю тебе в последний раз. Ты становишься главным. Я помогаю тебе руководить и управлять. Я подсказываю тебе нужное решение в каждой сложной ситуации. О привилегиях, которые будут тебе положены, я даже не буду говорить. Поверь, их будет много. Ты, кстати, не кастрирован?
— Кастрирован.
— Ну ничего. Много на свете еще радостей есть. С валерой знаком?
— Что?
— Капли лижешь?
Я вздрогнул, вспомнив о каплях. Мне даже в голову не приходило, что про капли могут знать другие коты.
— Да, знаком… с валерой. Лизал, в общем.
— Ну, представь себе: капли каждый день. И не фуфло всякое, а настоящие, немецкие. Без отходняков.
Пожилая прихожанка с фиолетовыми волосами спустилась с паперти, отвязала сумку-тележку в шотландскую клетку и извлекла из нее пакет. Она распотрошила вокруг себя кулебяку и высоким «кись-кись» стала созывать котят. Те бросили игру и сбежались на угощение. Один дал другому по морде и съел самый большой кусок.
Мы с Оливером следили за этой сценой. Мне почему-то стало противно от того, что наши глаза были обращены на одно и то же. И я понял, что ненавижу Оливера. Я не хотел, чтобы у нас было хоть что-то общее. Даже объект внимания.
Оливер повернулся ко мне. Он как будто прочел мои мысли и даже улыбнулся. Он сказал:
— И еще. На самом деле выбор у тебя небольшой. Либо ты занимаешь место Момуса, либо навсегда покидаешь Елоховский. На ответ я даю тебе сутки.
Я молча встал и ушел в сквер перед собором. Я лег в тени у памятника революционеру Бауману и стал думать. Николай Бауман погиб во цвете лет. Он проезжал в открытом кабриолете мимо толпы рабочих, читая вслух новости газеты «Искра». Но те, чьи интересы, как ему казалось, он защищал, отплатили ему черной монетой. Один из рабочих почему-то решил дать Николаю по голове железной трубой. Николай вскрикнул «ой» и упал замертво, а через сто лет вся округа стала носить его имя. Теперь бронзовый Николай Эрнестович возвышался на постаменте, расставив ноги на ширине плеч, сжимая в руке выпуск «Искры», а другую руку убрав в карман (там скульптор наверняка вылепил невидимый нам револьвер). Бауман смотрел на прохожего, как бы соглашаясь на свою трагическую участь, но при этом хитро подмигивая, мол, «да, мне дали по башке, зато вон сколько улиц и скверов названо моим именем. А ты дурак!».
То, что предлагал мне Оливер, на первый взгляд могло показаться удачей. Безбедное существование, уважение и почет. Но я не верил таким уловкам судьбы. Однажды на бульваре я увидел выставку фотографий «Вокруг света». На одном снимке с высоты птичьего полета был изображен торговый караван, бредущий сквозь пустыню. Едва различимые верблюды отбрасывали исполинские косые тени на много миль вдаль. Это выглядело величественно и прекрасно. Эта фотография была чем-то сродни предложению Оливера. Что мне их драгоценный груз: пряности, шелка, смарагды и гашиш — в сравнении с безразмерной тенью тревоги и страхов, которые всегда будут сопровождать неверную радость? Я не мог разобраться в себе самом. Не мог руководить собственной жизнью. Что же я мог предложить елоховскому прайду? Ничего. Это синекура, это легковесная власть. Что-то подсказывало мне, что за ближайшим поворотом меня будет поджидать скорая расплата. Я принял решение уйти. В то же мгновение Бауман приподнял брови, указал свернутой газетой в сторону центра и снова замер в своей привычной позе.
Я обернулся на собор и без сожалений и тоски в сердце оставил Елохово навсегда.
Назад: VI. Денисовский, 24
Дальше: VIII. Ради чего

