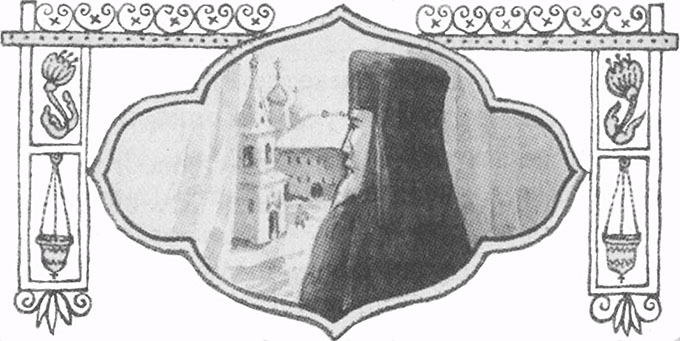
АРХИЕРЕЙ
Епископ Палладий стоит у окна и смотрит на опустелый монастырский двор. Опускаются летние, задумно-тихие сумерки. Благостно, лиловато, недвижно. Столетние липы солнце уходящее ловят. Золотым жаром пламенеет крест на монастырском соборе.
Святые врата ограды распахнуты настежь… Вратаря нет, и закрыть их некому. Давно уже ушла из монастыря вся братия. Кто в мир, а кто и мученическую смерть приял…
Под окнами келий, вместо цветов, дикий бурьян да репейник.
Епископу вспоминается горький плач Иеремии на стогнах разрушенного Иерусалима: «Пути Сиона сетуют, ибо нет идущих на праздник; все врата его опустели; священники его вздыхают…»
Под синим осенением лип, по затравевшей тропинке бредёт старый келейник Илларий. Тяжело шуршит истоптанными сапогами. Тихие, неслышные глаза опущены долу. Ветер дышит на его седую бороду.
За Илларием входит в монастырь мирская молодёжь, парни и девки. Гомонливой толпой садятся у часовни, на святом камне, где некогда явлена была чудотворная икона Пречистыя Богоматери. Гармонь принесли с собой. Хриплые лады её колыхнули монастырскую тишину. В открытое окно донеслись слова частушки:
Приказ мы учредили
И чудотворцев со двора
Убраться попросили…
Архиерей отходит от окна и, придерживая рукой сердце, сутулясь, ходит по молчаливым покоям и думает словами ветхозаветного пророка: «Отверг Господь жертвенник Свой, отвратил сердце Свое от святилища Своего, предал в руки врагов стены чертогов Его; и в доме Господнем они шумели…»
С первых дней революции все отошли от Палладия, и только Илларий, семидесятилетний келейник, остался.
Вместе коротали скудную монашескую жизнь. Щей в котелке сварят — потрапезуют. Утром и вечером в домовой церкви служили. Илларий кадило раздувал и на клиросе пел древним печалующимся напевом. Сквозь стрельчатые окна церкви плыли солнечные прибои, и великолепной казалась в их пёстрой игре поношенная риза епископа.
Перед сном топили печь. Садились около огня и тихо, по-стариковски, разговаривали.
— Ну что, Илларий, как живут в миру- то? — спросил сегодня владыка.
— Мятётся мир, владыко святый… Волнуется море житейское, воздвизаемое зря.
Нашему брату помирать теперь впору. Седни зашёл я к обедне к Глебу, а отец-то Никодим, гляжу, в красной ризе служит. Проповедь сказал, касаемо живой церкви. Народ стоит, а без разумения: что ещё за живая церковь? Стояла со мной рядышком старушка и горестно шептала: «Упокой меня, Господи, возьми от жизни и к обителям Твоим святым причти мя…»
— А был когда-то отец Никодим совсем другим, — раздумчиво шепчет Палладий, — в царские дни, бывало, у него в окнах световые вензеля царственных особ. Всё, Илларий, меняется, проходит, одна земля стоит вовеки…
— А помните, владыка, протодьякона Иорданова?
— Помню, Илларий, как не помнить. Такой мощной октавы и в Москве не было!
— Так он теперь в совнархоз определился. Недавно сан дьяконский снял и на татарке женился. В театре, сказывают, арии богохульные поёт!
Илларий помешал пунцовые угли в печи и опять спросил:
— Про отца Григория Никольского ничего не слышали?
— Так неужели, Илларий, и он переменился? А какая светозарная душа была у него!
— Отец Григорий мученическую смерть приял… Пришли к нему во время Литургии, раскрыли ему рот, выстрелили в него и сказали: «Мы тебя причащаем…»
Палладий перекрестился и заплакал.
Дозвенели в печке угольки. Тишина и тени вошли в покои. Лунный свет голубым дымом упал в окна.
— Обезумел, владыка, мир! — колыхнулся в темноте шёпот Иллария. — Парни-то в святую часовню за нуждой ходят. Пытался усовестить их, да где уж тут, смеются только… А недавно молодёжь упражнялась на кладбище в стрельбе, и мишенью были кресты, и в каком-то клубе икона Божией Матери превращена в шахматную доску!..
По ночам плохо спал архиерей. В бледном зареве свечи читал до рассвета творения Иоанна Златоуста и цепко прислушивался к шуму старых монастырских лип…
В один из вечеров, во время чая, у подъезда кто-то позвонил.
Илларий вздрогнул и заметался:
— Звонят, владыка… Не смерть ли за нами?
— Пуганый ты старичок, Илларий. Поди и открой!
В покои вошёл высокий, упитанный человек, коротко остриженный, в мешковато сидящем смокинге.
Палладий взглянул на посетителя. Перед ним стоял отец Павел Скорбященский, некогда ярый защитник самодержавия, строгий церковный уставщик, знаток канонического права, громивший когда-то духовенство за либеральный образ мыслей, за подстриженные волосы, щегольские рясы и даже белые воротнички… Он был сотрудником крупных консервативных газет и удостаивался похвал за свою верность Престолу и Церкви.
— Чем могу служить? — спросил его епископ.
— Я к вам по важному делу, владыка… Церковь мою постигло некое попущение! На днях, волею законных властей, у меня было произведено изъятие священных сосудов на нужды нашей многострадальной родины. Что ж, я с радостью. Деньги России нужны, а у нас в церквах да монастырях драгоценности понапрасну гуляют…
— Гуляют, говорите? — с горькой улыбкой спросил владыка. — Что же дальше, отец Павел?
— А дальше, владыка, вот что: сосуды-то у меня взяли, а других не дали. Вот я и пришёл к вашей милости. Не дадите ли вы мне сосуды из вашей домовой церкви. Вы, властию вам данной, можете и без них обойтись!
— Каким это образом? Я часто служу Литургию.
— Пустое дело, владыка. Правила апостольские и канонические теперь устарели и необходимо считаться с временем!
— Я вас не понимаю, отец Павел! Что вы этим хотите сказать?
— Слушайте. Вы епископ? Да. Обладаете благодатью Святого Духа? Обладаете. Так что же вам стоит сей стакан превратить в Чашу Господню, а сие блюдечко в дискос? Очень просто! А главное, этой перемены никто у вас не увидит. А у меня, владыка, народ… со стаканом-то мне выходить на амвон зело непристойно!
Палладий нервно сжал пальцами панагию.
— Шутник вы, отец Павел! Раньше, помнится, таким не были!
— Нисколько не шучу. В древности, владыка, сосуды не токмо стеклянные, а даже деревянные были, да зато попы были золотые… А теперь сосуды-то золотые, а…
Епископ встал с кресла. Он не дал договорить отцу Павлу и резко перебил его:
— Дать священные сосуды вам, пренебрегающему апостольскими и каноническими правилами, я не могу! Вы недостойны быть совершителем Святых Христовых Тайн!
Скорбященский долго говорил в прихожей о старомодности епископа. Келейник беззвучно смотрел в окно на тусклый купол монастырского собора.
Медленно, как ледяной «шорох» перед застыванием реки, шло время.
После визита отца Павла Скорбященского епископ испытывал приступы тоски. Было мучительно от созерцания, как на его глазах рушился старый тысячелетний мир…
Чтобы утолить своё беспокойство, он заставлял Иллария подолгу читать ему псалтырь. Епископ сидел в кресле и слушал, как колебалась его душа на волнистых переливах древнего языка и как жизнь с её огорчениями облекалась в голубые небесные ризы.
Каждый день Илларий докладывал владыке то о расстреле того или иного пастыря, то о кощунствах над святынями, то о разрушении церквей и монастырей…
Епископ молча слушал его и всё время прикладывал руку к сердцу. По ночам, охваченный неясной тревогой, поднимался с постели, подходил к тёмному окну и крестил частыми крестами заснувшую русскую землю, и всегда она представлялась почему-то в виде Гефсиманского сада, из которого в страхе бегут ученики Христовы.
В один из снежных декабрьских дней владыка решил объехать ближайшие приходы, чтобы посмотреть, как живёт его паства, не ушла ли она от Христа, не погасли ли в это ветровое время светильники пастырей.
На рассвете епископ Палладий с келейником Илларием на простых крестьянских санях выехал из монастыря, одетый в баранью шубу, тёплую шапку с наушниками и валенки.
Ехали сугробными голубыми полями. Свежий ветер, пахнущий родниковой прохладой, неоглядность поля, похожего на степь, звёздная россыпь снежинок, белые берёзы у края дороги и сам он, одетый по-крестьянски, так не похожий на блистательного епископа, вселяли в душу радость, похожую на румяное бодрое яблоко.
В одном месте сани увязли в глубоких сугробах, и владыка с келейником помогали лошади выбраться на твёрдую дорогу.
Приехали в село Отрадово. Над церковными дверьми висела вывеска: «Народный дом товарища Ленина». В ограде лежал разбитый колокол…
С настоятелем прихода отцом Андреем отслужили молебен в амбаре, превращенном в церковь. За недостатком места богомольцы стояли под открытым небом и все навзрыд плакали…
В селе Преображенском пьяные парни сожгли церковь, а поэтому краткий молебен служили на развалинах, и почти все стояли на снегу, на коленях и громко выкрикивали слова молитв:
— Господи, спаси! Господи, помилуй!
Во время служения в лесу раздалось несколько ружейных залпов.
Пронёсся испуганный шёпот:
— Расстреливают…
В соседнее с Преображенским село Лыково владыка не поехал. На днях убили там священника, а церковь превратили в кооператив.
По дороге к селу Званову среди поля повстречали старика в рясе и с котомкою за плечами.
Владыка остановил лошадь и подозвал к себе путника, оказавшегося священником Василием Нильским.
— Откуда и куда, батюшка? — спросил Палладий, благословляя отца Василия.
— Скитаюсь, владыка. Из села Орехова меня выгнали. Церковь мою запечатали. Хожу я из деревни в деревню с Христом попутчиком да с алтарём Его за спиной…
— Как так с алтарем?
— В котомке у меня антиминс, Чаша деревянная, епитрахиль да служебные книги. Приду в какую-нибудь деревню, разложу в избе или в летнее время в лесу свой антиминс и начну совершать Святые Христовы Тайны.
Владыка не мог сдержать слёз, слушая священника-странника… Когда распрощались, то владыка долго смотрел ему вслед и мысленно благословлял страннические пути его…
Много тяжёлых впечатлений вынес владыка из своих скитаний по приходам. Много слёз, горя и ужасов впитала душа его… И замутился бы разум его от отчаяния, если бы мысль епископа не останавливалась бы в раздумье над огоньками свечей в тёмных амбарах и сараях, превращённых в церковь, на богомольцах, стоящих на снегу, на коленях, и в особенности на том священнике с алтарём за плечами, шагавшем по крестьянским дорогам… с деревянной Чашей Христовой…
После поездки по приходам владыка простудился и слёг в постель. Был сильный жар. Владыка бредил. Илларий смачивал ему голову холодной водой, гладил горячие его руки и часто крестился в углу у тёмных икон.
С каждым днём владыке становилось всё хуже и хуже.
Однажды он позвал в бреду келейника и крепко обнял его.
— Вот бы, Илларий, — говорил он через силу, — обойти бы всю землю русскую в убогом наряде странника, с посохом в руке и сказать всем чающим Христова утешения одно заветное слово… Жжет оно меня, а сказать не могу…
Тихий монастырёк в берёзовом лесу… Слышишь, Илларий, монашеское пение? Это берёзы поют… Иорданов, ты опять выпивший? Что? Не можешь? Больше, говоришь, велелепности, когда выпьешь? Ах, неуспокоенный ты человек!.. А парни-то в часовню за нуждою ходят… Ты, говорит, стакан в Чашу Господню преврати… А берёзы-то поют и зовут… зовут… Вот бы рясу чёрную… Простую… посох… Алтарь за плечи… И пойти, пойти по утренней росе… По лесной дороге… Умыться родниковой водой, цветы послушать и опять пойти… подвиг восприять! А по дороге идёт отец Василий с деревянной Чашей, и вокруг него ночь и падает снег… а он идёт… идёт…
Епископ Палладий умер рано утром. В это время ударили к заутрене в заречной церкви и над снежной землёй, в голубом морозном дыме поднималось солнце.
1925

