Часть III
I
ЖИЛИЩЕ РЕНЕ, ПАРФЮМЕРА КОРОЛЕВЫ-МАТЕРИ
Во времена, когда происходила история, которую мы рассказываем нашим читателям, в Париже для перехода через реку из одной части города в другую было только пять мостов деревянных и каменных; все пять мостов вели к центральной части города. Это были — мост Мельников, Рыночный, мост собора Богоматери, Малый мост и мост Михаила Архангела.
В других местах, где требовался переезд, ходили паромы, худо ли, хорошо ли заменявшие собой мосты.
На всех пяти мостах стояли дома, как до сих пор еще стоят на Ponte Vecchio во Флоренции.
Из всех пяти мостов, каждый из которых имеет свою историю, мы пока займемся только одним — мостом Михаила Архангела.
Каменный мост Михаила Архангела был построен в 1373 году; несмотря на его видимую прочность, разлив Сены 31 января 1408 года частично его разрушил; в 1416 году построили деревянный мост; в ночь на 16 декабря 1547 года его опять снесло; около 1550 года, то есть за двадцать два года до событий, о которых мы ведем рассказ, снова построили деревянный мост, и, хотя теперь он требовал поправки, его считали еще крепким.
Среди домов, вытянувшихся вдоль бортов моста, против островка, на котором когда-то сожгли тамплиеров, а теперь покоятся устои нового моста, обращал на себя внимание обшитый досками дом с широкой крышей, нависавшей над ним, словно веко над огромным глазом. Единственное окошко второго этажа над крепко запертыми окном и дверью в нижнем этаже светилось красноватым светом, привлекавшим взоры прохожих к низкому, широкому, выкрашенному в синий цвет фасаду с пышной золоченой лепкой. Верхний этаж был отделен от нижнего своеобразным фризом с изображением целой вереницы чертей в самых забавных положениях, а между фризом и окном в нижнем этаже протянулась вывеска в виде широкой, тоже синей ленты с надписью:
Рене, флорентиец, парфюмер ее величестваКоролевы-матери
Дверь этой лавочки, как мы сказали, была прочно закрыта на засовы, но лучше всяких засовов охраняла лавку от ночных грабителей слава ее хозяина, слава, настолько страшная, что все, проходившие по мосту Михаила Архангела, описывали в этом месте дугу к противоположной стороне моста, точно боясь, как бы запах разных благовоний не дошел до них сквозь стену.
Больше того — соседи парфюмера справа и слева, несомненно опасаясь, что такое соседство их скомпрометирует, одни за другим удрали из своих жилищ, как только Рене поселился на мосту Михаила Архангела, и, таким образом, оба дома, примыкавшие к дому Рене, давным-давно стояли опустевшие и заколоченные. Однако, несмотря на заброшенность и запустение этих домов, запоздалые прохожие видели пробивавшиеся сквозь запертые ставни лучи света и уверяли, будто оттуда доносились звуки, похожие на стоны, а это доказывало, что какие-то живые существа посещали эти два дома, и только одно оставалось неизвестным — принадлежали эти существа к нашему миру или к миру потустороннему.
Поэтому жильцы двух других домов, примыкавших к двум первым, подумывали иногда, не благоразумнее ли будет, если они последуют примеру своих соседей.
Несомненно одно: именно этой страшной славе Рене был обязан тем, что получил общепризнанное и исключительное право не гасить огня после определенного часа, освященного обычаем. А кроме того, ни ночной дозор, ни ночная стража не осмеливались беспокоить человека, который был вдвойне дорог ее величеству: как парфюмер и как соотечественник.
Предполагая, что наш читатель, вооруженный философией XVIII века, не верит ни в колдовство, ни в колдунов, мы приглашаем его последовать за нами в жилище парфюмера, которое в то время — время суеверий наводило такой ужас на всю округу.
Самая лавка парфюмера в нижнем этаже пустеет и погружается в темноту с восьми часов вечера, — тогда она закрывается с тем, чтобы открыться только на следующий день, иногда совсем рано утром; тут ежедневно идет продажа кремов, духов и всяческой косметики, — словом всего, чем торгует искусный химик. Два ученика помогают Рене при розничной продаже, но ночуют не в лавке, а на улице Каландр. Вечером они уходят перед самым закрытием лавки, а утром разгуливают перед нею, пока им не отворят дверь.

В лавке, на нижнем этаже, как мы сказали, теперь безлюдно и темно.
Внутри лавки, занимающей широкое и длинное помещение, есть две двери, выходящие на две лестницы: одна из лестниц, потайная, пробита в толще боковой стены; другая, наружная, видна и с набережной, — той самой, что теперь называется Августинской, и с высокого берега реки, который теперь называется Ке-Дез-Орфевр.
Обе лестницы ведут в комнату второго этажа.
По величине она точь-в-точь такая же, как и комната в нижнем этаже, но ковер, протянутый вдоль нее, параллельно линии моста, разделяет ее на две половины. В глубине первой половины комнаты есть дверь на наружную лестницу. В боковой стене второй половины — дверь с потайной лестницы, но эта дверь посетителям не видна, так как ее скрывает высокий резной шкаф, соединенный с дверью железными крюками таким образом, что когда открывают шкаф, отворяется и потайная дверь. Секрет этой двери известен только Рене и Екатерине, которая поднимается и спускается по потайной лестнице и нередко, приложив ухо или глаз к пробитым в стенке шкафа дыркам, подслушивает и подглядывает то, что происходит в комнате.
В двух других стенах второй половины есть расположенные друг против друга еще две двери, ничем не скрытые. Одна из них ведет в небольшую комнату с верхним светом — в ней находятся горн, перегонные кубы, тигли и реторты: это и есть лаборатория алхимика. Другая дверь ведет в маленькую келью — наиболее своеобразное помещение во всем доме: она никак не освещена, в ней нет ни ковров, ни мебели, а только некое подобие каменного алтаря.
Полом служит каменная плита, стесанная на четыре ската от центра к стенам кельи, где небольшой желоб огибает всю комнату и кончается воронкой, в которой виднеются воды Сены. На вбитых в стену гвоздях развешены инструменты странной формы: концы их тонкие, как иглы, а лезвия отточены, как бритвы; одни из этих инструментов блестят, как зеркало, у других лезвия матово-серые или темно-синие.
Дальний угол, где трепыхаются две черные курицы, привязанные за ножки одна к другой, представляет собой святилище авгура.
Вернемся в комнату, разделенную ковром на две половины.
Сюда вводят простых посетителей, пришедших за советом; здесь находятся египетские ибисы, мумии в золоченых пеленах, здесь висит под потолком чучело крокодила с открытой пастью, здесь же черепа с пустыми глазными впадинами и оскаленными зубами, наконец здесь пыльные, объеденные крысами козероги, и все эти разнопородные предметы бьют посетителю в глаза, возбуждая в нем разные чувства и мешая ему сосредоточиться. За занавеской стоят мрачного вида, причудливой формы амфоры, флаконы и ящички; все это освещается двумя совершенно одинаковыми маленькими серебряными лампадами, словно похищенными из алтаря Санта Мария Новелла или из церкви Деи Серви во Флоренции; наполненные благовонным маслом, они висят под мрачным сводом на трех почерневших цепочках каждая и разливают с потолка желтоватый свет.
Рене в одиночестве расхаживает большими шагами по второй половине комнаты, скрестив на груди руки и покачивая головой. После долгих и печальных размышлений он останавливается перед песочными часами.
— Ай-ай-ай! Я и забыл перевернуть их, — может быть, песок уже давно пересыпался.
Он смотрит на луну, с трудом пробирающуюся сквозь большую черную тучу, словно повисшую на шпиле колокольни собора Богоматери.
— Девять часов, — бормочет он. — Если она придет как обычно, значит, придет через час или полтора; времени хватит на все.
В эту минуту на мосту послышались чьи-то шаги. Рене приложил ухо к длинной трубке, выходившей на улицу другим своим концом в виде головы геральдической змеи.
— Нет, — сказал Рене, — это не она и не они. Это мужские шаги; сюда идут мужчины… остановились у моей двери…
В это мгновение раздались три коротких удара в дверь. Рене быстро сбежал вниз, но не стал отпирать дверь, а приложил к ней ухо. Три таких же удара повторились.
— Кто там? — спросил Рене.
— А разве надо называть себя? — спросил чей-то голос.
— Непременно, — отвечал Рене.
— В таком случае, меня зовут граф Аннибал де Коконнас, — ответил тот же голос.
— А я — граф Лерак де Ла Моль, — произнес другой голос.
— Подождите, господа, подождите, я к вашим услугам.
Рене принялся отодвигать засовы, поднимать щеколды и, наконец, отворил дверь молодым людям, после чего запер ее, но только на ключ, провел их по наружной лестнице и впустил во вторую половину верхней комнаты.

Входя в комнату, Ла Моль перекрестился под плащом; он был бледен, рука его дрожала: он не мог преодолеть свое малодушие.
Коконнас начал по порядку рассматривать все предметы и, очутившись во время этого занятия перед входом в келью, хотел было отворить дверь.
— Позвольте, ваше сиятельство, — внушительно сказал Рене, положив руку на руку пьемонтца, — все посетители, оказывающие мне честь своим приходом, располагаются только в этой половине комнаты.
— А-а, это другое дело, — ответил Коконнас, — да я и сам не прочь посидеть.
И он сел на стул.
На минуту воцарилась глубокая тишина: Рене ждал, что кто-нибудь из молодых людей скажет о цели их прихода. Слышалось только свистящее дыхание еще не совсем выздоровевшего пьемонтца.
— Господин Рене, — наконец заговорил Коконнас, — вы человек сведущий; скажите мне: я так и останусь калекой, то есть всегда ли у меня будет такая одышка? А то мне трудно ездить верхом, фехтовать и есть яичницу с салом.
Рене приложил ухо к груди Коконнаса и внимательно выслушал легкие.
— Нет, вы, ваше сиятельство, выздоровеете, — сказал он.
— Правда?
— Уверяю вас.
— Очень рад.
Снова наступило молчание.
— Не хотите ли узнать что-нибудь еще?
— Конечно! Я бы хотел знать, серьезно ли я влюблен, — сказал Коконнас, — Серьезно, — отвечал Рене.
— Почем вы знаете?
— Потому что вы спрашиваете об этом.
— Черт побери! По-моему, вы правы! А в кого?
— В ту самую, которая теперь по любому поводу повторяет то же ругательство, что и вы.
— Ей-Богу, вы молодец! — сказал озадаченный Коконнас. — Ну, Ла Моль, теперь твой черед. Ла Моль покраснел и смутился.
— Да говори же! Какого черта?.. — воскликнул Коконнас.
— Говорите, — сказал флорентиец.
— Я не стану спрашивать у вас, влюблен ли я, — тихо и нерешительно начал Ла Моль, но, понемногу успокаиваясь, заговорил увереннее, — не стану спрашивать потому, что сам это знаю и отнюдь не скрываю от себя. Но скажите мне, буду ли я любим, ибо все, что раньше подавало мне надежду, обернулось теперь против меня.
— Возможно, вы не делали всего, что нужно.
— Что же делать, сударь, как не доказывать уважением и преданностью даме моей мечты, что она любима искренне и глубоко?
— Вы прекрасно знаете, — отвечал Рене, — что такие проявления любви иногда не достигают цели.
— Значит, я должен оставить всякую надежду?
— Нет, вы должны прибегнуть к науке. В натуре человека существуют антипатии, которые можно преодолеть, и симпатии, которые можно усилить. Железо не магнит, но если его намагнитить, оно само притягивает железо.
— Верно, верно, — прошептал Ла Моль, — но мне противны всякие заклинания.
— Зачем же вы сюда пришли, если они вам противны?
— Ну, ну, нечего ребячиться? — вмешался Коконнас. — Господин Рене, не можете ли вы показать мне черта?
— Нет, ваше сиятельство.
— Досадно, я бы сказал ему два слова, — может быть, это подбодрило бы Ла Моля.
— Ну хорошо, — сказал Ла Моль, — поговорим откровенно. Мне рассказывали о каких-то восковых фигурках, сделанных по подобию любимого человека. Это помогает?
— Не было случая, чтобы это не помогло.
— Но этот опыт не может повредить здоровью или жизни любимого существа?
— Ни в коей мере.
— Тогда попробуем.
— Хочешь, начну я? — спросил Коконнас.
— Нет, — ответил Ла Моль, — раз уж я начал, то я и закончу.
— Господин де Ла Моль, желаете ли вы знать — желаете ли горячо, страстно, неудержимо, — что вы должны делать? — спросил флорентиец.
— О, страстно желаю! — воскликнул Ла Моль. В эту минуту кто-то тихонько постучал во входную дверь, но так тихо, что только Рене услыхал стук, да и то, вероятно, потому, что ждал его.
Продолжая задавать Ла Молю ничего не значащие вопросы, он спокойно приложил ухо к трубке и услыхал на лице голоса, видимо, очень его заинтересовавшие.
— Теперь сосредоточьтесь на вашем желании, — сказал Рене Ла Молю, — и призывайте ту, кого вы любите.
Ла Моль встал на колени, словно взывая к божеству, а Рене прошел в первую половину комнаты и бесшумно спустился вниз по внешней лестнице; через минуту по лавке прошелестели легкие шаги.
Когда Ла Моль поднялся с колен, перед ним уже стоял Рене; в руках флорентийца была аляповатая восковая фигурка в мантии и с короной на голове.
— Вы по-прежнему хотите, чтобы вас полюбила ваша коронованная возлюбленная? — спросил парфюмер.
— Да, хотя бы мне пришлось заплатить за это жизнью и погубить мою душу! — ответил Ла Моль.
— Хорошо, — сказал флорентиец и, опустив кончики пальцев в кувшинчик с водой, брызнул несколько капель на голову фигурки и произнес несколько слов по-латыни.
Ла Моль вздрогнул: он понял, что совершается святотатство.
— Что вы делаете? — воскликнул он.
— Я нарекаю эту фигурку Маргаритой.
— Но для чего?
— Чтобы вызвать ответное чувство.
Ла Моль уже было открыл рот, намереваясь прекратить святотатство, но его удержал насмешливый взгляд Коконнаса.
Рене заметил это и остановился в ожидании.
— Нужна полная, твердая воля, — сказал он.
— Действуйте, — ответил Ла Моль.
Рене начертал на узенькой полоске красной бумаги какие-то кабалистические знаки, просунул бумажку в ушко стальной иглы и вонзил иглу в сердце статуэтки.
Странное дело: в ранке появилась капелька крови. Тогда Рене поджег бумажку.
Накалившаяся игла растопила воск вокруг себя и высушила капельку.
— Ваша любовь своею силой пронзит и зажжет сердце женщины, которую вы любите, — сказал Рене.
Коконнас, как и полагается вольнодумцу, исподтишка посмеивался, но Ла Моль, любящий и суеверный, чувствовал, что капли холодного пота выступают у корней его волос.
— А теперь, — сказал Рене, — приложитесь губами к губам статуэтки и скажите: «Маргарита, люблю тебя; Маргарита, приди!».
Ла Моль повиновался.
В то же мгновение послышался стук отворяемой двери во второй половине комнаты и чьи-то легкие шаги. Любопытный и ни во что не веровавший Коконнас, опасаясь, что Рене опять сделает ему замечание, как тогда, когда он собирался отворить дверь в келью, вынул кинжал, проткнул толстый ковер, разделявший комнату, приложил глаз к дырке и вскрикнул от изумления. А в ответ ему вскрикнули две женщины.
— Что там такое? — спросил Ла Моль и едва не уронил фигурку, но Рене подхватил ее.
— А то, — ответил Коконнас, — что там герцогиня Неверская и королева Маргарита.
— Ну что, маловер? — с суровой улыбкой сказал Рене. — Вы и теперь будете сомневаться в силе взаимочувствия?
Увидав свою королеву, Ла Моль застыл на месте. На одно мгновение закружилась голова и у Коконнаса, когда он узнал герцогиню Неверскую. Ла Моль вообразил, что Маргарита только призрак, вызванный чарами Рене, Коконнас же, видевший, как в приоткрытую дверь вошли очаровательные призраки, сразу нашел объяснение чуда в области обычного и материального.
Пока Ла Моль крестился и дышал так, словно ворочал каменные глыбы, Коконнас предавался философским размышлениям и отгонял злого духа кропилом, именуемым неверием; в щель задернутого занавеса он видел и изумление герцогини Неверской, и чуть язвительную улыбку Маргариты и решил, что это момент решающий; сообразив, что от лица своего друга можно сказать то, чего нельзя сказать от своего лица, Коконнас подошел не к герцогине Неверской, а прямо к Маргарите и, став на одно колено, подобно царю Артаксерксу в ярмарочных представлениях, произнес довольно громким голосом, к которому примешивались хрипы от раны в легком:
— Сударыня! Сию минуту мэтр Рене, по просьбе моего друга графа де Ла Моля, вызвал вашу тень; и вот, к моему великому изумлению, тень ваша появилась, но не одна, а в сопровождении телесной оболочки, столь для меня драгоценной, что я хочу представить ее моему другу. Тень ее величества королевы Наваррской, соблаговолите приказать телесной оболочке вашей спутницы выйти из-за занавеса!
Маргарита рассмеялась и сделала Анриетте знак, чтобы та подошла к ним.
— Ла Моль, друг мой, — сказал Коконнас, — поговори с герцогиней и будь красноречив, как Демосфен, как Цицерон, как канцлер л'Опиталь, и прими во внимание, что речь идет о моей жизни и смерти и что, стало быть, ты должен убедить телесную оболочку герцогини Неверской, что я самый преданный, самый покорный, самый верный ее слуга.
— Но… — пролепетал Ла Моль.
— Делай, что тебе говорят! А вы, мэтр Репе, позаботьтесь, чтобы нам никто не помешал, — распорядился Коконнас.
Рене спустился вниз.
— Черт побери! Вы остроумный человек, сударь. — заметила Маргарита. — Я слушаю вас. Послушаем, что вы мне скажете.
— Сударыня, я хочу сказать, что тень моего друга, — а он лишь тень, доказательством чему служит его полная неспособность вымолвить хоть одно словечко, — так вот, тень моего друга умоляет меня воспользоваться способностью телесных оболочек говорить вразумительно, чтобы сказать вам следующее: прекрасная тень, вышеупомянутый бестелесный дворянин утратил от ваших суровых взоров не только тело, но и дух. Если бы передо мной стояли вы собственной персоной, я скорее попросил бы мэтра Рене засунуть меня в какую-нибудь дыру, полную горячей серы, чем разговаривать так вольно с дочерью короля Генриха Второго, сестрой короля Карла Девятого и супругой короля Наваррского. Но тени чужды земной гордыне и не сердятся, когда их любят. Поэтому, сударыня, умолите ваше тело хоть сколько-нибудь полюбить душу несчастного Ла Моля, душу, страдающую от небывалых мук; душу, сначала потерпевшую от друга, который трижды вонзал в се нутро несколько дюймов стали; душу, сожженную огнем ваших глаз — огнем, в тысячу раз более жгучим, чем адский пламень. Сжальтесь над этой бедной душой, немного полюбите то, что некогда было красавцем Ла Молем, и, если вы утратили дар слова, ответьте хоть улыбкой, хоть жестом. Душа моего друга очень умная, она поймет все. Итак, начинайте! В противном случае я проткну мэтра Рене шпагой за то, что, вызвав столь своевременно вашу тень, он вместе с тем воспользовался своею властью над тенями и внушил ей, чтобы она вела себя отнюдь не так, как подобает столь любезной тени, какую, на мой взгляд, вы представляете собой.
Когда пьемонтец закончил свою речь и встал перед Маргаритой в позу Энея, спускающегося в преисподнюю, она не смогла удержаться от гомерического хохота и молча, как и подобает в таких случаях королевской тени, протянула ему руку.
Коконнас бережно взял ее руку и позвал Ла Моля.
— Тень моего друга, приди ко мне, не медля! — воскликнул пьемонтец.
Ла Моль, растерянный и трепещущий, повиновался.
— Вот и отлично, — сказал Коконнас, беря его за затылок. — Теперь нагните тень вашего красивого смуглого лица к этой тени белоснежной ручки королевы.
Сопровождая слова действием, Коконнас нагнул голову Ла Моля к изящной ручке Маргариты и с минуту удерживал их обоих в этом положении, хотя белая ручка и не пыталась уклониться от нежного прикосновения губ.
Маргарита все время улыбалась, зато не улыбалась герцогиня Неверская, все еще взволнованная неожиданным появлением молодых людей. Она испытывала болезненное чувство все нараставшей ревности: ей казалось, что Коконнас не должен был до такой степени пренебрегать своими интересами ради интересов чужих.
Ла Моль увидел ее нахмуренные брови, заметил недобрые огоньки в глазах и, несмотря на свою страсть, призывавшую отдаться упоительному волнению его души, он понял, какая опасность грозит его другу, и сообразил, что надо сделать для его спасения.
Встав с колен и оставив руку Маргариты в руке Коконнаса, Ла Моль подошел к герцогине Неверской, взял ее за руку и преклонил колено.
— Самая прекрасная, самая обаятельная из женщин! — заговорил он. — Я имею в виду живых женщин, а не тени, — с улыбкой взглянул он на Маргариту, — разрешите душе, освобожденной от ее грубой телесной оболочки, загладить рассеянность некоего тела, всецело проникнутого земной Дружбой. Перед вами господин де Коконнас — это всего-навсего человек: крепкий, смелый, это тело, может быть, и красивое, однако бренное, как и всякое живое тело — omnis саго fenum. Хотя этот дворянин с утра до вечера говорит мне о вас, сопровождая свои речи самыми горячими мольбами, хотя вы сами видели, как он наносит невиданные во Франции удары, этот силач, столь красноречивый в присутствии тени, не обладает достаточной смелостью, чтобы заговорить с живой женщиной. Вот почему, сам обратившись к тени королевы, он поручил мне говорить с вашей прекрасной телесной оболочкой и сообщить вам, что свое сердце и свою душу он кладет к вашим ногам; что он просит ваши божественные глаза взглянуть на него с чувством сострадания, ваши горячие розовые пальчики — поманить его к себе, ваш звонкий музыкальный голос — сказать ему слова, которые забыть невозможно: если же сердце ваше не смягчится, он умоляет меня пустить в ход мою шпагу — не тень ее, тень у шпаги бывает лишь при солнце, а настоящий клинок, — и еще раз пронзить его тело, ибо он не сможет жить, если вы не позволите ему жить только ради вас.
Насколько речь Коконнаса была полна воодушевления и шутливости, настолько мольба Ла Моля была проникнута чувствительностью, пленительной силой и нежною покорностью.
Анриетта, внимательно слушавшая Ла Моля, оторвала глаза от него и устремила взгляд на Коконнаса, желая убедиться, соответствует ли выражение его лица любовным речам его друга. По-видимому, она была вполне удовлетворена; раскрасневшаяся, еле переводя дыхание, с улыбкой открывая два ряда жемчугов, оправленных в кораллы, она спросила:
— Это правда?
— Черт побери! — воскликнул Коконнас, завороженный ее взглядом и сгорая в том же огне, что и она. — Правда! О да, да, сударыня, истинная правда! Клянусь вашей жизнью! Клянусь моей смертью!
— Тогда подойдите! — сказала Анриетта и протянула ему руку, отдаваясь чувству, которое сквозило в томном выражении ее глаз.
Коконнас подкинул вверх свой бархатный берет и одним прыжком очутился рядом с герцогиней, а Ла Моль, повинуясь жесту Маргариты, призывавшей его к себе, обменялся дамой со своим другом, как в кадрили любви.
В эту минуту у двери в глубине комнаты появился Рене.
— Тише!.. — произнес он таким тоном, что сразу потушил все пламенные чувства. — Тише!
В толще стены послышался лязг ключа в замочной скважине и скрип двери, повернувшейся на петлях.
— Мне кажется, однако, — гордо заявила Маргарита, — что, когда здесь мы, никто не имеет права сюда войти.
— Даже королева-мать? — спросил ее на ухо Рене. Маргарита мгновенно устремилась к выходу, увлекая за собой Ла Моля; Анриетта и Коконнас, обняв друг друга за талию, бросились за ними, и четверо влюбленных улетели, как улетают от подозрительного шума прелестные птички, только что щебетавшие на цветущей ветке.
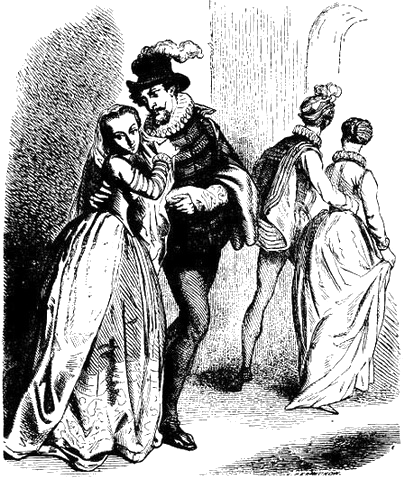
II
ЧЕРНЫЕ КУРЫ
Обе пары исчезли как раз вовремя. Екатерина вставила ключ в замочную скважину второй двери, когда герцогиня Неверская и Коконнас сбегали по наружной лестнице, так что, войдя в комнату, она услышала, как заскрипели ступеньки под ногами беглецов.
Она пытливо осмотрела комнату и подозрительно взглянула на склонившегося перед ней Рене.
— Кто здесь был? — спросила она.
— Влюбленные, вполне довольные моим уверением, что они любят друг друга.
— Бог с ними, — пожав плечами, сказала Екатерина — Здесь больше никого нет?
— Никого, кроме вашего величества и меня.
— Вы сделали то, что я вам сказала?
— Это насчет черных кур?
— Да.
— Они здесь, ваше величество.
— Ах, если б вы были еврей! — пробормотала Екатерина.
— Я — еврей? Почему?
— Тогда вы могли бы прочесть мудрые книги, написанные евреями о жертвоприношениях Я велела перевести для себя одну из них и узнала, что евреи искали предсказаний не в сердце и не в печени, как римляне, а в строении мозга и в форме букв, начертанных на нем всемогущей рукой судьбы.
— Верно, ваше величество! Я слышал об этом от одного моего друга, старого раввина.
— Бывают буквы, — продолжала Екатерина, — начертанные так, что открывают весь пророческий путь, но халдейские мудрецы советуют…
— Советуют… что? — спросил Рене, понимая, что Екатерина не решается продолжать.
— Советуют делать опыты на человеческом мозге, как более развитом и более чувствительном к воле вопрошающего.
— Увы, ваше величество, вы хорошо знаете, что это невозможно, — сказал Рене.
— Во всяком случае, трудно, — заметила Екатерина. — Ах, Рене, если б мы об этом знали в день святого Варфоломея!.. Как это было просто!.. При первой казни… Я подумаю об этом. Ну, а пока будем действовать в пределах возможного. Комната для жертвоприношений готова?
— Да, ваше величество.
— Пойдем туда.
Рене зажег свечу; судя по запаху, то сильному и тонкому, то удушливому и противному, в состав свечи входило несколько веществ. Освещая путь Екатерине, парфюмер первым вошел в келью.

Екатерина сама выбрала нож синеватой стали, а Рене подошел к углу и взял одну из кур, вращавших своими золотистыми глазами.
— Какие опыты мы будем делать?
— У одной мы исследуем печень, у другой мозг. Если оба опыта дадут один и тот же результат, значит, все верно, особенно, если эти результаты совпадут с полученными раньше.
— С чего мы начнем?
— С опыта над печенью.
— Хорошо, — сказал Рене.
Он привязал курицу к жертвеннику за два вделанных по его краям кольца, положил курицу на спину и закрепил так, что птица могла только трепыхаться, не двигаясь с места.
Екатерина одним ударом ножа рассекла ей грудь. Курица прокудахтала три раза, некоторое время потрепыхалась и околела.
— Опять три раза! — прошептала Екатерина. — Предзнаменование трех смертей.
Затем она вскрыла трупик курицы.
— И печень сместилась влево, — продолжала она, — как всегда, влево… три смерти и конец династии. Знаешь. Рене, это ужасно!
— Ваше величество, надо еще посмотреть, совпадут ли эти предсказания с предсказаниями второй жертвы.
Рене отвязал курицу и, бросив ее в угол, пошел за второй жертвой, но она, видя судьбу своей подруги, попыталась спастись и начала бегать по келье, а когда Рене загнал ее наконец в угол, взлетела у него над головой, и ветер, поднявшийся от взмахов ее крыльев, загасил чародейную свечу в руке Екатерины.
— Вот видите, Рене, — сказала королева, — так угаснет и наш род. Смерть дунет на него, и он исчезнет с лица земли… Три сына! Ведь три сына! — грустно прошептала она.
Рене взял у нее погасшую свечу и пошел зажечь ее в соседнюю комнату.
Вернувшись, он увидел, что курица спрятала голову в воронку.
— На этот раз криков не будет, — сказала Екатерина, — я сразу отрублю ей голову.
В самом деле, как только Рене привязал курицу, Екатерина исполнила свое обещание и отрубила голову одним ударом. Но в предсмертной судороге куриный клюв три раза раскрылся и закрылся.
— Видишь! — сказала Екатерина в ужасе. — Вместо трех криков — три вздоха. Три, все время три! Умрут все трое. Все эти души, отлетая, считают до трех и кричат троекратно. Теперь посмотрим, что покажет голова.
Екатерина срезала побледневший гребешок на голове птицы, осторожно вскрыла череп, разделила его так, чтобы ясно были видны мозговые полушария, и стала выискивать в кровавых извилинах мозговой пульпы что-нибудь похожее на буквы.
— Все то же! — вскрикнула она и всплеснула руками. — Все то же! И на этот раз предсказание яснее, чем когда бы то ни было! Посмотри!
Рене подошел.
— Что это за буква? — спросила Екатерина, указывая на сочетание линий в одном месте.
— «Г», — ответил флорентиец.
— Сколько их? Рене пересчитал.
— Четыре! — сказал он.
— Вот, вот! Все так!.. Я понимаю — Генрих Четвертый! О, я проклята в своем потомстве! — отшвырнув нож, простонала она.
Страшна была фигура этой женщины, сжимавшей окровавленные руки, бледной как смерть, освещенной зловещим светом.
— Он будет царствовать, будет царствовать! — сказала она со вздохом отчаяния.
— Он будет царствовать. — повторил Рене, погруженный в глубокую задумчивость.
Однако мрачное выражение быстро исчезло с лица Екатерины при свете какой-то новой мысли, видимо, вспыхнувшей в ее мозгу.
— Рене, — сказала она, не оборачиваясь, не поднимая головы, опущенной на грудь, и протягивая руку к флорентийцу, — была ведь какая-то ужасная история, когда один перуджинский врач отравил губной помадой и свою дочь, и ее любовника — обоих вместе!
— Была, сударыня.
— А кто был ее любовником? — все время думая о чем-то, спросила Екатерина.
— Король Владислав:
— Ах да, верно! — прошептала Екатерина. — А вы не знаете подробностей этой истории?
— У меня есть старинная книга — там есть рассказ об этом, — ответил Рене.
— Хорошо, пройдем в другую комнату, и вы мне дадите эту книгу почитать.
Оба вышли из кельи, и Рене запер за собой дверь.
— Ваше величество, не прикажете ли совершить новые жертвоприношения? — спросил флорентиец.
— Нет, нет, Рене! Я пока вполне убеждена и этими. Подождем, не удастся ли нам добыть голову какого-нибудь осужденного, — тогда в день казни ты сговоришься с палачом.
Рене поклонился в знак согласия, затем, со свечой в руке, подошел к полкам с книгами, встал на стул, взял одну из книг и подал королеве.
Екатерина раскрыла книгу.
— Что это такое? — спросила она. — «Как надлежит вынашивать и питать ловчих птиц, соколов и кречетов, дабы они сделались смелы, сильны и к ловле охочим.
— Ах, простите, я ошибся! Это трактат о соколиной охоте, написанный одним луккским ученым для знаменитого Каструччо Кастракани. Он стоял рядом с той книгой и переплетен в такой же переплет, — я и ошибся. Впрочем, эта книга очень ценная; существуют только три экземпляра во всем мире: один в венецианской библиотеке, другой, купленный вашим предком Лоренцо Медичи, но затем подаренный Пьетро Медичи королю Карлу Восьмому, проезжавшему через Флоренцию, а вот этот — третий.
— Чту его как редкость, — ответила Екатерина, — но он мне не нужен: возьмите его.
Передавая книгу левой рукой, она протянула к Рене правую руку за другой книгой.
На этот раз Рене не ошибся — другая книга была именно той, какая нужна была королеве. Рене слез со стула, полистал книгу и подал Екатерине, открыв на нужной странице.
Екатерина села за стол, Рене поставил перед ней чародейную свечу, и ори свете ее синеватого огонька она вполголоса прочла несколько строк.
— Хорошо, — закрыв книгу, сказала она, — тут все, что мне хотелось знать.
Она поднялась со стула, оставив книгу на столе, но унося в голове мысль, которая только зарождалась и должна была еще созреть.
Рене со свечой в руке почтительно ожидал, когда королева, видимо собиравшаяся уходить, даст ему новые распоряжения или обратится с новыми вопросами.
Екатерина, склонив голову и приложив палец к губам, молча сделала несколько шагов по комнате.
Затем она вдруг остановилась перед Рене и подняла на него свои круглые, устремленные вперед, как у хищной птицы, глаза.
— Признайся, ты сделал для нее какое-то приворотное зелье! — сказала она.
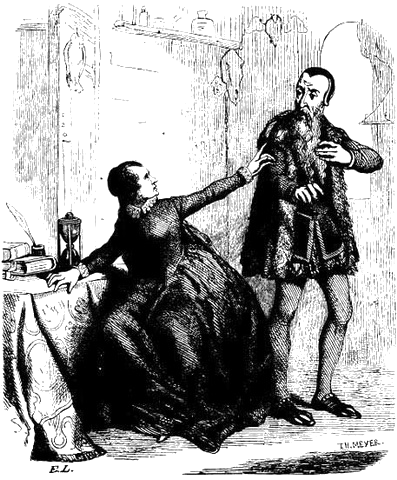
— Для кого? — затрепетав, спросил Рене.
— Для Сов.
— Я? Никогда не делал! — ответил Рене.
— Никогда?
— Клянусь душой, ваше величество.
— А все-таки тут не без колдовства: он безумно влюблен в нее, хотя никогда не отличался постоянством.
— Кто он?
— Он, проклятый Генрих, тот самый, который станет преемником моих трех сыновей и назовется Генрихом Четвертым, а ведь он сын Жанны д'Альбре!
Последние слова Екатерины сопровождались таким вздохом, что Рене вздрогнул, вспомнив о пресловутых перчатках, которые он, по приказанию Екатерины, приготовил для королевы Наваррской.
— Разве он по-прежнему бывает у нее? — спросил Рене.
— По-прежнему.
— А мне казалось, что король Наваррский окончательно вернулся к своей супруге.
— Комедия, Рене, комедия! Не знаю, с какой целью, но все как сговорились меня обманывать! Даже Маргарита, моя родная дочь, и та настроена против меня. Быть может, и она рассчитывает на смерть своих братьев — быть может, надеется стать французской королевой.
— Да, быть может, — сказал Рене, снова уйдя в свою думу и откликаясь, как эхо, на страшное подозрение Екатерины.
— Что ж, посмотрим! — сказала Екатерина и направилась к входной двери, очевидно не считая нужным идти потайной лестницей, будучи уверена, что она здесь одна.
Рене шел впереди, и через несколько секунд оба очутились в лавке парфюмера.
— Ты обещал мне новые кремы для рук и для губ. — сказала королева-мать. — теперь зима, а ты ведь знаешь, как моя кожа чувствительна к холоду.
— Я уже позаботился об этом, ваше величество, и все принесу вам завтра.
— Завтра ты не застанешь меня раньше девяти-десяти часов вечера. Днем я буду в церкви.
— Хорошо, сударыня, я буду в Лувре в десять часов вечера.
— У госпожи де Сов красивые губы и руки, — небрежным тоном заметила Екатерина. — А какой крем она употребляет?
— Для рук?
— Да, для рук.
— Крем на гелиотропе.
— А для губ?
— Для губ она будет теперь употреблять новый опиат моего изобретения; завтра я принесу коробочку вашему величеству, а заодно — и ей.
Екатерина на мгновенье задумалась.
— Она действительно красива, — промолвила королева-мать, словно отвечая самой себе на какую-то тайную мысль, — нет ничего удивительного, что Беарнец влюбился в нее по уши.
— А главное, она предана вашему величеству, по крайней мере, мне так кажется, — сказал Рене. Екатерина усмехнулась и пожала плечами.
— Разве может любящая женщина быть предана кому-нибудь, кроме своего любовника? — сказала она. — А все-таки, Рене, какое-то приворотное зелье ты ей изготовил! — сказала она.
— Клянусь, что нет!
— Ну хорошо, оставим этот разговор. Покажи-ка мне твой новый опиат, от которого ее губки станут еще красивее и свежее.
Рене подошел к полке и указал на шесть одинаковых круглых серебряных коробочек, стоявших в ряд, одна к другой.
— Вот единственное приворотное зелье, какое она у меня просила, — сказал Рене. — И как вы, ваше величество, совершенно верно изволили заметить, этот крем я изготовил специально для госпожи де Сов, так как ее губы настолько чувствительны и нежны, что трескаются и от солнца и от ветра.
Екатерина раскрыла одну из коробочек с помадой карминного цвета удивительно красивого оттенка.
— Рене, дай мне крем для рук; я возьму его с собой. Рене взял свечу и пошел за кремом для королевы в другое отделение лавки. По дороге он быстро обернулся, и ему показалось, что Екатерина стремительным движением руки схватила одну коробочку и спрятала ее под своей длинной накидкой. Но Рене давно привык к таким кражам королевы-матери, а потому не допустил неловкости и не подал виду, что заметил это. Он достал требуемый крем, запакованный в бумажный мешочек с лилиями.
— Вот он, ваше величество, — сказал он.
— Спасибо, Рене! — ответила она и, помолчав с минуту, добавила:
— Не носи этого опиата госпоже де Сов раньше, чем через неделю или десять дней; я хочу попробовать его первая.
Екатерина собралась уходить.
— Ваше величество, прикажете проводить вас? — спросил Рене.
— Только до конца моста, — ответила Екатерина. — а там меня дожидаются мои дворяне с носилками.
Они вышли из лавки и дошли до угла улицы Барийри, где Екатерину ждали четыре дворянина верхом и носилки без гербов.
Вернувшись в лавку, Рене первым делом пересчитал коробочки с опиатом.
Одна из них исчезла.
III
ПОКОИ ГОСПОЖИ ДЕ СОВ
Екатерина не ошиблась: Генрих не изменил своим привычкам и каждый вечер отправлялся к г-же де Сов. Сначала эти посещения держались в глубочайшей тайне, но мало-помалу осмотрительность Генриха ослабла, он перестал принимать меры предосторожности, а потому Екатерине нетрудно было убедиться, что Маргарита лишь называлась королевой Наваррской, а на самом деле ею была г-жа де Сов.
В начале нашего повествования мы успели сказать два слова о покоях г-жи де Сов, но дверь, открытая Дариолой королю Наваррскому, закрылась за ним накрепко, покои г-жи де Сов и место таинственных любовных свиданий пылкого Беарнца остались нам неведомы.
Такие комнаты августейшие особы обыкновенно предоставляют во дворце своим придворным, которых желают всегда иметь под рукой; покои эти были, разумеется, не столь просторны и не столь удобны, как собственные городские квартиры. Как уже известно читателю, покои г-жи де Сов помещались в третьем этаже, почти под комнатами Генриха, и дверь из них выходила в коридор, дальний конец которого освещался готическим окном с маленькими стеклами в свинцовом переплете, пропускавшими лишь тусклый свет даже в самый ясный день. Зимою же после трех часов дня приходилось зажигать лампу, но и зимой в лампу масла наливали столько же, сколько летом, и к десяти часам вечера она гасла, обеспечивая любовникам в эти зимние дни наибольшую безопасность свиданий.
Маленькая передняя, обитая шелком с большими желтыми цветами, приемная, затянутая синим бархатом, и спальня, где стояла кровать с витыми колонками и вишневым атласным пологом, отделенная от стены узким проходом, и где висело зеркало в серебряной оправе и две картины, изображавшие любовь Венеры и Адониса, составляли покои — теперь сказали бы «гнездышко» — очаровательной придворной дамы королевы Екатерины Медичи.
Если поискать внимательнее, то в темном углу, напротив туалета со всеми принадлежностями, можно было заметить дверцу в своего рода молельню. Там, на возвышении, к которому вели две ступени, стояла скамеечка для коленопреклонений. Там на стенах, как бы в противовес упомянутым картинам на мифологические сюжеты, висели три-четыре картинки самого возвышенного, духовного содержания. Между картинами, на золоченых гвоздиках. висело женское оружие, так как и женщины в ту эпоху — эпоху тайных интриг — носили при себе оружие и, случалось, владели им не хуже мужчин.
Вечером, на следующий день после описанной нами сцены у Рене, г-жа де Сов сидела у себя в спальне на кушетке и говорила Генриху о своей любви к нему и о своем страхе за него, доказывая и любовь, и страх той преданностью, какую она обнаружила в ночь, последовавшую за Варфоломеевской, то есть в ночь, когда Генрих, как помнит читатель, ночевал у своей жены, Генрих выражал ей свою признательность. Г-жа де Сов в простом батистовом пеньюаре была очаровательна, а Генрих был ей глубоко признателен.
В такой обстановке Генрих, искренне влюбленный, предавался мечтам. А г-жа де Сов, воспылавшая самой горячей любовью, начавшейся по приказанию Екатерины, пристально всматривалась в Генриха, желая удостовериться, то ли, что губы, говорят его глаза.
— Генрих, — молвила г-жа де Сов, — скажите откровенно: в ту ночь, когда вы спали в кабинете ее величества королевы Наваррской, а в ногах у вас спал Ла Моль, — вы не жалели о том, что этот достойный дворянин лежал между вами и спальней королевы?
— Жалел, душенька моя, — отвечал Генрих. — ведь я неминуемо должен был пройти через ее спальню, чтобы попасть в ту комнату, где мне так — хорошо и где в эту минуту я так счастлив.
Госпожа де Сов улыбнулась.
— А после вы туда ходили?
— И всякий раз говорил вам об этом.
— И вы не пойдете туда тайком от меня?
— Никогда.
— Поклянитесь.
— Поклялся бы, будь я гугенотом, но…
— Что «но»?
— Но католическая религия, догматы которой я сейчас изучаю, научила меня, что клясться не надо никогда.
— Сейчас видно гасконца! — покачивая головой, сказала г-жа де Сов.
— Шарлотта, а если бы я стал вас расспрашивать, вы ответили бы на мои вопросы?
— Конечно, — ответила молодая женщина. — Мне нечего скрывать от вас.
— В таком случае объясните мне, Шарлотта, как случилось, что, оказав мне отчаянное сопротивление до моей женитьбы, вы после нее перестали быть жестокой по отношению ко мне, беарнскому увальню, смешному провинциалу, к государю настолько бедному, что он не может придать драгоценностям своей короны должный блеск?
— Генрих, вы требуете, чтобы я разгадала загадку, которую на протяжении трех тысячелетий не могут разгадать философы всех стран, — отвечала Шарлотта. — Генрих, никогда не спрашивайте женщину, за что она вас любит; довольствуйтесь вопросом: «Вы меня любите?».
— Вы меня любите, Шарлотта? — спросил Генрих, — Люблю, — ответила г-жа де Сов с обаятельной улыбкой, кладя свою красивую руку на руку возлюбленного. Генрих сжал ее руку.
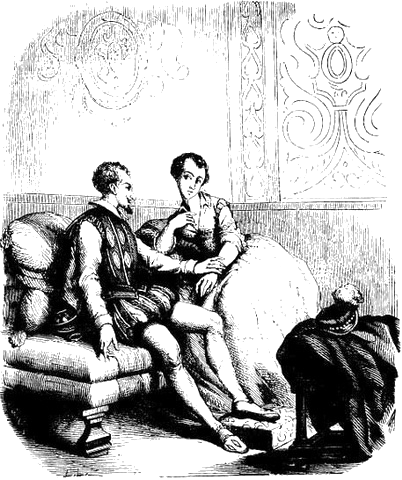
— А что, если бы разгадку, которую тщетно ищут философы на протяжении трех тысячелетий, я нашел, по крайней мере, в вашей любви, Шарлотта? — преследуя свою мысль, настаивал он.
Госпожа де Сов покраснела.
— Вы меня любите, — продолжал Генрих, — значит, мне больше нечего просить у вас, и я считаю себя счастливейшим человеком в мире. Но ведь вы знаете: любому счастью всегда чего-нибудь да не хватает. Даже Адам в раю не чувствовал себя вполне счастливым и вкусил от злосчастного яблока, наградившего всех нас любопытством, а потому всю жизнь мы стремимся узнать то, что нам неведомо. Скажите же, душенька моя, и откройте мне неведомое: может статься, поначалу вам приказала любить меня королева Екатерина?
— Генрих, говорите тише, когда говорите о королеве-матери, — заметила г-жа де Сов.
— O-o! — воскликнул Генрих так свободно и непринужденно, что обманул даже г-жу де Сов. — Когда-то я и впрямь побаивался нашей дорогой матушки и не ладил с нею, но теперь я — муж ее дочери…
— Муж королевы Маргариты! — покраснев от ревности, сказала Шарлотта.
— Лучше говорите тише, — сказал Генрих. — Теперь, когда я — муж ее дочери, мы с королевой-матерью — лучшие друзья. Чего от меня хотели? По-видимому, чтобы я стал католиком. Превосходно: меня коснулась благодать, и предстательством святого Варфоломея я стал католиком. Теперь мы живем одной семьей, как хорошие братья, как добрые христиане.
— А королева Маргарита?
— Королева Маргарита? — переспросил Генрих. — Что ж, она-то и является для всех нас связующим звеном.
— Но вы говорили мне, Генрих, что королева Наваррская на мою к ней преданность ответила великодушием. Если вы сказали мне правду, если королева Маргарита в самом деле относится ко мне великодушно, за что я ей очень признательна, значит, она только звено, которое нетрудно разорвать. И вам не удержаться за него, потому что мнимой близостью с королевой вам никого не провести.
— Однако я держусь за него и езжу на этом коньке уже три месяца.
— Значит, вы обманули меня, Генрих! — воскликнула г-жа де Сов. — Значит, королева Маргарита — ваша жена на самом деле!
Генрих улыбнулся.
— Знаете, Генрих, — заметила г-жа де Сов, — эти улыбки выводят меня из себя, и, хотя вы и король, иногда у меня возникает жестокое желание выцарапать вам глаза!
— Значит, мне все же удается кое-кого провести этой мнимой близостью, — заметил Генрих, — коль скоро бывают случаи, когда вам хочется выцарапать мне глаза, хотя я и король, значит, и вы верите в эту близость.
— Генрих, Генрих! По-моему, сам Господь Бог не знает, что у вас на уме! — сказала г-жа де Сов.
— Я так рассуждаю, душенька моя, — сказал Генрих, — сначала Екатерина приказала вам любить меня, потом заговорило ваше сердце, и теперь, когда заговорили оба эти голоса, вы прислушиваетесь только к голосу сердца. Я тоже люблю вас всей душой, и потому-то, если бы у меня и были тайны, я не поверил бы их вам из боязни повредить вам… ведь дружба королевы-матери ненадежна — это дружба тещи!
Совсем не такого ответа ждала Шарлотта: каждый раз, как она пыталась проникнуть в бездны души своего возлюбленного, ей казалось, что между ними опускается плотный занавес и тотчас превращается в непроницаемую стену, отделяющую их друг от друга. Она почувствовала, что глаза у нее наполняются слезами, и, услыхав, что часы бьют десять, сказала Генриху:
— Государь, пора спать: завтра я должна очень рано явиться к королеве-матери.
— Сегодня вы прогоняете меня, душенька? — спросил Генрих.
— Генрих, мне грустно. А раз мне грустно, вам станет со мной скучно, и вы меня разлюбите. Поймите, что лучше вам уйти.
— Хорошо! — отвечал Генрих. — Раз вы этого хотите, Шарлотта, я уйду, но, ради Бога, сделайте милость, разрешите присутствовать при вашем переодевании!
— Государь! А как же королева Маргарита? Неужели вы заставите ее ждать, пока я буду переодеваться?
— Шарлотта, — серьезным тоном сказал Генрих, — мы условились никогда не говорить о королеве Наваррской, а сегодня мы проговорили о ней чуть ли не весь вечер.
Госпожа де Сов вздохнула и села за туалетный столик. Генрих взял стул, пододвинул его к своей возлюбленной, стал коленом на сиденье и оперся на спинку стула.
— Ну вот, малютка Шарлотта, — сказал Генрих, — теперь я вижу, как вы наводите красу, и притом наводите для меня, что бы вы там ни говорили. Боже мой! Сколько тут разных разностей, сколько баночек с ароматными кремами, сколько пакетиков с пудрой, сколько флаконов, сколько коробочек с помадой!
— Это только кажется, что всего много, — со вздохом отвечала Шарлотта, — а на самом деле очень мало; оказывается, и этого недостаточно, чтобы царить в сердце вашего величества безраздельно.
— Послушайте! Не будем возвращаться в область политики, — сказал Генрих. — Что это за маленькая тоненькая кисточка? Не для того ли, чтобы подводить брови моему Юпитеру Олимпийскому?
— Да, государь, — с улыбкой ответила г-жа де Сов, — вы угадали.
— А этот гребешок слоновой кости?
— Делать пробор.
— А эта прелестная серебряная коробочка с резной крышечкой?
— О, это прислал мне Рене, государь; это его опиат, который он уже давно обещал изготовить для смягчения моих губ, хотя вы, ваше величество, благоволите находить их иногда достаточно нежными без всяких опиатов.
Тут Генрих, как бы в знак согласия с очаровательной женщиной, лицо которой светлело по мере того, как она возвращалась в царство кокетства, поцеловал ее в губы, которые баронесса внимательно рассматривала в зеркале.
Шарлотта протянула было руку к коробочке, служившей темой вышеприведенного разговора, очевидно, желая, показать Генриху, как нужно накладывать на губы эту красную помаду, как вдруг короткий стук в дверь заставил обоих влюбленных вздрогнуть.
— Сударыня, кто-то стучится, — сказала Дариола, высунув голову из-за портьеры.
— Посмотри — кто и доложи, — ответила г-жа де Сов.
Генрих и Шарлотта тревожно переглянулись, и Генрих уже решил было скрыться в молельню, где он не раз находил себе убежище, как снова появилась Дариола.
— Сударыня, это парфюмер Рене.
При этом имени Генрих нахмурился и невольно закусил губы.
— Если хотите, я откажусь его принять, — сказала Шарлотта.
— Нет, нет! — возразил Генрих. — Рене никогда не делает ничего, не продумав своих действий заранее, и если он пришел к вам, значит, не без причины.
— Тогда, может быть, вы спрячетесь?
— Ни в коем случае, — отвечал Генрих, — Рене знает все на свете и, конечно, прекрасно знает, что я здесь.
— Но, может быть, вам, ваше величество, его общество тягостно?
— Мне? Нисколько! — отвечал Генрих с усилием, которого при всем своем самообладании он, однако, не мог скрыть. — Правда, отношения у нас были прохладные, но с кануна святого Варфоломея они наладились.
— Впусти его! — сказала г-жа де Сов Дариоле. Вошел Рене и одним взглядом осмотрел всю комнату.
Госпожа де Сов по-прежнему сидела за туалетным столиком.
Генрих снова уселся на кушетке. Шарлотта сидела на свету, Генрих — в тени.
— Сударыня, я явился принести вам мои извинения. — почтительно, но непринужденно сказал Рене.
— А в чем вы провинились, Рене? — спросила г-жа де Сов с той благосклонностью, какую хорошенькие женщины всегда оказывают всем своим поставщикам, которые теснятся вокруг них и помогают им стать еще более хорошенькими.
— В том, что я давно уже обещал вам потрудиться для ваших красивых губок, и в том…
— И в том, что сдержали ваше обещание только сегодня, да? — спросила Шарлотта.
— Только сегодня? — переспросил Рене.
— Да, я получила эту коробочку только сегодня, да и то вечером.
— Ах да! — произнес Рене, с каким-то странным выражением лица глядя на коробочку с опиатом, стоявшую на столике перед г-жой де Сов и как две капли воды похожую на те, что остались у него в лавке.
«Так я и знал!» — подумал он.
— А вы уже пользовались моим опиатом? — спросил он вслух.
— Нет еще; я как раз собиралась испробовать его, когда вошли вы.
Лицо Рене приняло задумчивое выражение, и это не ускользнуло от Генриха, от которого, впрочем, мало что ускользало.
— Рене, что с вами? — спросил король.
— Со мной, государь? Ничего, — ответил парфюмер, — я смиренно жду, не скажете ли вы мне что-нибудь, ваше величество, до того, как меня отпустит баронесса.
— Полноте! — с улыбкой сказал Генрих. — Вы и без слов прекрасно знаете, что я всегда рад вас видеть.
Рене посмотрел по сторонам, прошелся по комнате, словно исследуя зрением и слухом все двери и обивку стен, и стал так, чтобы одновременно видеть и г-жу де Сов и Генриха.
— Нет, не знаю. — возразил он.
Изумительный инстинкт Генриха Наваррского, подобно какому-то шестому чувству руководивший им всю первую половину его жизни, полную опасностей, подсказал ему, что сейчас в душе парфюмера происходит нечто необычное, похожее на борьбу, и, обратившись к флорентийцу, стоявшему на свету, тогда как сам он оставался в тени, сказал:
— Рене, почему вы пришли сюда об эту пору?
— Разве я имел несчастье потревожить ваше величество? — спросил парфюмер, делая шаг назад.
— Вовсе нет. Но мне хочется задать вам один вопрос.
— Какой вопрос, государь?
— Вы думали, что застанете меня здесь?
— Я был в этом уверен.
— Значит, вы меня искали?
— Во всяком случае, я счастлив вас видеть.
— Вы хотите что-то сказать мне? — гнул свою линию Генрих.
— Быть может, государь! — ответил Рене. Шарлотта покраснела: она задрожала от страха при мысли, что парфюмер, который, по-видимому, хотел раскрыть Генриху тайну, раскроет ему глаза на то, как она вела себя по отношению к Генриху вначале; делая вид, что всецело занята своим туалетом и ничего не слышит, она прервала их разговор.
— Ах. Рене, поистине вы чародей! — открыв коробочку с опиатом, воскликнула она. — У этой помады чудесный цвет, и, раз уж вы здесь, я хочу, из уважения к вам, попробовать ваше изделие при вас!
Она взяла коробочку и кончиком пальца захватила немного красноватой помады, чтобы намазать ею губы.
Рене вздрогнул.
Баронесса с улыбкой поднесла палец к губа.
Рене побледнел.
Генрих, по-прежнему сидевший в полумраке, следил за всем происходящим жадным, напряженным взором, не упустив ни движения г-жи де Сов, ни трепета Рене.
Пальчик Шарлотты почти коснулся губ, как вдруг Рене схватил ее за руку в то самое мгновение, когда Генрих вскочил, чтобы остановить ее.
Генрих бесшумно опустился на кушетку.
— Простите, сударыня, — принужденно улыбаясь, сказал Рене, — этот опиат нельзя употреблять без особых наставлений.
— А кто же даст мне эти наставления?
— Я.
— Когда?
— Как только скажу кое-что его величеству королю Наваррскому.
Шарлотта широко раскрыла глаза, ничего не поняв из таинственного разговора, который велся в ее присутствии; она так и осталась сидеть с коробочкой опиата в руке, глядя на кончик своего пальца, окрашенного помадой в карминный цвет.
Повинуясь мысли, которая, как и все мысли молодого короля, преследовала две цели, одну — явную, другую — тайную. Генрих встал и, подойдя к Шарлотте, взял ее руку и стал поднимать вымазанный кармином пальчик к своим губам.
— Одну минуту, — поспешно сказал Рене, — одну минуту! Соблаговолите, сударыня, вымыть ваши прекрасные руки вот этим неаполитанским мылом, которое я забыл прислать вам вместе с опиатом и которое имею честь принести лично.
Вынув из серебряной коробочки прямоугольный кусок зеленоватого мыла, он положил его в серебряный, золоченый тазик, налил в тазик воды и, встав на одно колено, поднес его г-же де Сов.

— Честное слово, мэтр Рене, я вас не узнаю! — сказал Генрих. — Своей любезностью вы заткнете за пояс всех придворных волокит.
— Какой прелестный запах! — воскликнула Шарлотта, намыливая свои прекрасные руки жемчужной пеной, отделявшейся от душистого куска.
Рене до конца выполнил обязанности услужливого кавалера и подал г-же де Сов салфетку из тонкого фрисландского полотна, чтобы вытереть руки.
— Вот теперь, ваше величество, — обратился к Генриху флорентиец, — вы можете делать все что угодно.
Шарлота протянула Генриху руку для поцелуя, затем уселась вполоборота, приготовляясь слушать, что станет говорить Рене, а король Наваррский занял свое место, глубоко убежденный, что в душе парфюмера происходит нечто необычайное.
— Итак? — спросила Шарлотта.
Флорентиец, видимо, собрал всю свою решимость и повернулся к Генриху.
IV
ГОСУДАРЬ, ВЫ СТАНЕТЕ КОРОЛЕМ
— Государь, — обратился к Генриху Рене, — я пришел поговорить с вами о том, что меня давно интересует.
— О духах? — улыбаясь, спросил Генрих.
— Да, государь, пожалуй… о духах! — ответил Рене, сделав какой-то странный знак согласия.
— Говорите, я слушаю: этот предмет всегда казался мне весьма увлекательным.
Рене взглянул на Генриха, пытаясь, что бы тот ни говорил, прочитать его непроницаемые мысли, но, увидав, что это дело совершенно безнадежное, продолжал:
— Государь, один мой друг должен на днях приехать из Флоренции: он усиленно занимается астрологией…
— Да, — прервал его Генрих. — я знаю, что это страсть всех флорентийцев.
— В содружестве с крупнейшими учеными всего мира он составил гороскопы самых именитых дворян Европы.
— Ах, вот оно что! — сказал Генрих.
— А так как род Бурбонов является знатнейшим из знатных, ибо ведет свое начало от графа Клермона, пятого сына Людовика Святого, то вы, ваше величество, можете быть уверены, что он составил и ваш гороскоп.
Генрих стал слушать парфюмера еще внимательнее.
— А вы помните этот гороскоп? — осведомился король Наваррский, пытаясь равнодушно улыбнуться.
— О! — кивнув головой, произнес Рене, — такие гороскопы, как ваш, не забывают.
— В самом деле? — иронически пожав плечами, сказал Генрих.
— Да, государь, ибо гороскоп утверждает, что вас ждет самая блестящая судьба.
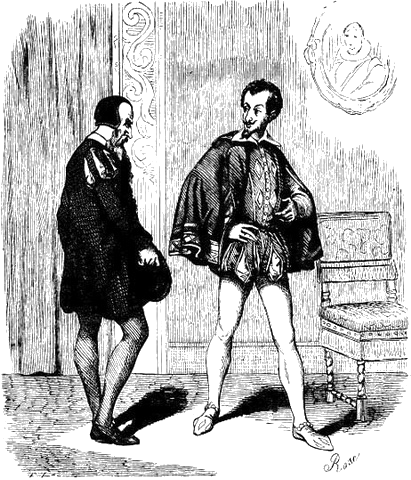
Глаза молодого короля невольно сверкнули молнией, тотчас погасшей в облаке равнодушия.
— Все эти итальянские оракулы — льстецы, — возразил Генрих. — а льстец и обманщик — родные братья. Разве один из них не предсказал мне, что я буду командовать войсками? Это я-то!
И Генрих расхохотался. Но наблюдатель, менее занятый своими мыслями, нежели Рене, почувствовал и понял бы, что это смех деланный.
— Государь, — холодно сказал Рене, — гороскоп предвещает нечто большее.
— Он предвещает, что во главе одного из этих войск я одержу победу?
— Больше того, государь!
— Ну, тогда я стану завоевателем, вот увидите, — сказал Генрих.
— Государь, вы станете королем.
— Да я и так король, — заметил Генрих, пытаясь успокоить неистово забившееся сердце.
— Государь, мой друг знает, что говорит: вы не только будете королем, вы будете царствовать.
— Понимаю, — тем же насмешливым тоном продолжал Генрих, — вашему другу нужны пять экю — ведь правда, Рене? Такое пророчество, особливо в наше время, сильно действует на людей честолюбивых. Слушайте, Рене, я не богат, и потому сейчас я дам вашему другу пять экю, а еще пять экю я дам ему, когда пророчество сбудется.
— Государь, не забывайте, что вы заключили договор с Дариолой, — заметила г-жа де Сов, — не давайте же слишком много обещаний.
— Сударыня, я надеюсь, что, когда это время настанет, ко мне будут относиться, как к королю; следовательно, если я сдержу хотя бы половину своих обещаний, все будут очень довольны.
— Государь, — сказал Рене. — я продолжаю.
— Как, еще не все? — воскликнул Генрих. — Ну хорошо, если я стану императором, я заплачу вдвое больше.
— Государь, мой друг везет с собою из Флоренции ваш гороскоп; когда-то, будучи в Париже, он составил и другой гороскоп, и оба показали одно и то же. А кроме того, мой друг доверил мне одну тайну.
— Тайну, важную для его величества? — оживленно спросила г-жа де Сов.
— Думаю, что да, — ответил флорентиец.
«Он подыскивает слова, — подумал Генрих, не приходя Рене на помощь. — Трудненько же ему, сдается мне, выложить то, что у него на душе».
— Так говорите же, в чем дело! — сказала г-жа де Сов.
— Дело вот в чем, — начал флорентиец, взвешивая каждое слово, — дело в тех слухах о разных отравлениях, которые недавно ходили при дворе.
Ноздри короля Наваррского чуть-чуть расширились, и это был единственный признак, что его внимание к разговору, принявшему неожиданный оборот, удвоилось.
— А ваш флорентийский друг кое-что знает об этих отравлениях? — спросил Генрих.
— Да, государь.
— Как же так, Рене? Вы доверяете мне чужую тайну, да еще такую страшную? — спросил Генрих, стараясь говорить как можно более естественным тоном.
— Этому другу нужен совет вашего величества.
— Мой?
— Что ж тут удивительного, государь? Вспомните старого солдата, участника сражения при Акциуме; у него был судебный процесс, и он просил совета у императора Августа.
— Август был адвокатом, Рене, а я не адвокат.
— Государь, когда мой друг доверил мне эту тайну, вы, ваше величество, еще принадлежали к протестантской партии, вы были первым ее вождем, а вторым — принц Конде.
— Что же дальше? — спросил Генрих.
— Мой друг надеялся, что вы воспользуетесь вашим всемогущим влиянием на принца Конде и попросите его не помнить зла.
— Объясните, в чем дело. Рене, если хотите, чтобы я вас понял, — не меняя ни тона, ни выражения лица, сказал Генрих.
— Ваше величество, вы поймете меня с первого слова: мой друг знает во всех подробностях, как пытались отравить его высочество принца Конде.
— А разве принца Конде пытались отравить? — спросил Генрих с прекрасно разыгранным изумлением. — В самом деле?.. Когда же?
Рене пристально посмотрел на короля.
— Неделю тому назад, государь, — коротко ответил он.
— Какой-нибудь враг? — спросил король.
— Да, — отвечал Рене, — враг, которого знаете вы, ваше высочество, и который знает вас.
— Да, да, мне кажется, я что-то слышал, — сказал Генрих, — но я не знаю никаких подробностей, которые друг ваш собирается мне рассказать; расскажите вы.
— Хорошо! Принцу Конде кто-то прислал душистое яблоко, но, к счастью, в то время, когда яблоко принесли, у принца был его врач. Он взял у посланца яблоко и понюхал, чтобы узнать его запах и его доброкачественность. Через два дня на лице у врача появилась гангренозная язва с кровоизлиянием, которая разъела ему все лицо, — так поплатился он за свою преданность или за свою неосторожность.
— Но я уже наполовину католик, — ответил Генрих, и, к сожалению, утратил всякое влияние на принца Конде, так что ваш друг обратился ко мне напрасно.
— Ваше величество, моему другу может помочь ваше влияние не только на принца Конде, но и на принца Порсиана, брата того Порсиана, которого отравили.
— Знаете что, Рене, — заметила Шарлотта. — от ваших рассказов бросает в дрожь! Вы неудачно выбрали время, чтобы похлопотать за своего друга. Уже поздно, а разговор ваш замогильный. Честное слово, ваши духи интереснее. — И Шарлотта снова протянула руку к коробочке с опиатом.
— Сударыня, — сказал Рене. — прежде чем испробовать опиат, послушайте, как могут воспользоваться такими удобными случаями злоумышленники.
— Рене. — сказала баронесса. — сегодня вы просто зловещи.
Генрих нахмурил брови; он понимал, что у Рене есть какая-то цель, но не мог угадать, какая, а потому решил довести этот разговор до конца, хотя он и пробуждал у него скорбные воспоминания.
— А вы знаете и подробности отравления принца Порсиана? — спросил Генрих.
— Да, — ответил Рене. — Было известно, что на ночь он оставлял у постели зажженную лампу; в масло подлили яд, и принц задохнулся от испарений.
Генрих стиснул покрывшиеся потом пальцы.
— Значит, — тихо сказал он. — тот, кого вы называете своим другом, знает не только подробности отравления, но и отравителя.
— Да, потому-то он и хотел узнать у вас, можете ли вы повлиять на здравствующего принца Порсиана, чтобы он простил убийце смерть своего брата.
— Но я еще наполовину гугенот и, к сожалению, не имею никакого влияния на принца Порсиана: ваш друг обратился бы ко мне напрасно.
— А что вы думаете о намерениях принца Конде и принца Порсиана?
— Откуда же я знаю их намерения. Рене? Насколько мне известно. Господь Бог не наградил меня способностью читать в сердцах людей.
— Ваше величество, вы могли бы спросить об этом самого себя, — спокойно произнес Рене. — Не было ли в жизни вашего величества какого-нибудь события, столь мрачного, что оно могло бы подвергнуть испытанию ваше чувство милосердия, и столь прискорбного, что могло бы послужить пробным камнем для вашего великодушия?
Слова эти были сказаны таким тоном, что даже Шарлотта вздрогнула; в них заключался столь прямой, столь ясный намек, что баронесса отвернулась, дабы скрыть краску смущения и дабы не встретиться взглядом с Генрихом.
Генрих сделал над собой огромное усилие; грозные складки, появившиеся у него на лбу, когда говорил флорентиец, разгладились, и благородная сыновняя скорбь уступила место раздумью.
— Мрачного события… в моей жизни?.. — переспросил он. — Нет, Рене, не было; из времен юности я помню только свое сумасбродство и беспечность, а кроме того, более или менее острые нужды, которые возникают из потребностей нашей природы или являются испытанием, ниспосланным нам Богом.
Рене тоже сдерживал себя и внимательно смотрел то на Генриха, то на Шарлотту, как будто желая вывести из равновесия первого и удержать вторую, так как Шарлотта, чтобы скрыть свое смущение, вызванное этим разговором, повернулась лицом к зеркалу и протянула руку к коробочке с опиатом.
— Скажите, государь, если бы вы были братом принца Порсиана или сыном принца Конде и кто-нибудь отравил бы вашего брата или убил вашего отца…
Шарлотта чуть слышно вскрикнула и поднесла опиат к губам. Рене видел это, но на этот раз ни словом, ни жестом не остановил ее, а только крикнул:
— Государь, молю вас, ответьте ради Бога: что сделали бы вы, если бы вы были на их месте?
Генрих собрался с духом, дрожащей рукой вытер лоб, на котором выступили капли холодного пота, встал во весь рост и в полной тишине, когда Шарлотта и Рене затаили дыхание, ответил:
— Если бы я был на их месте и если бы я был уверен, что буду царствовать, то есть представлять собой Бога на земле, я сделал бы то же, что сделал Бог, — простил бы.
— Сударыня! — вырывая опиат у г-жи де Сов, воскликнул Рене. — Отдайте мне коробочку! Я вижу, мой приказчик принес ее вам по ошибке; завтра я пришлю вам другую.
V
НОВООБРАЩЕННЫЙ
На другой день была назначена охота с гончими в Сен-Жерменском лесу.
Генрих приказал, чтобы к восьми часам утра была готова — то есть оседлана и взнуздана — беарнская лошадка, которую он собирался подарить г-же де Сов, но на которой предварительно хотел проехаться сам. Без четверти восемь лошадь стояла во дворе. Ровно в восемь Генрих спустился вниз по лестнице.
Лошадка была маленькая, но сильная и горячая; она била землю копытом и потряхивала гривой. Ночь была холодная, землю покрывал тонкий ледок.
Генрих хотел было пройти по двору, к конюшням, где его ждал конюх с лошадью, но, когда он проходил мимо часового-швейцарца, стоявшего у дверей, солдат сделал ему на караул и сказал:
— Да хранит Господь его величество короля Наваррского!
Услышав такое пожелание, а главное — голос, который произнес эти слова, Беарнец вздрогнул.
Он повернулся к солдату и сделал шаг назад.
— Де Муи! — прошептал он.
— Да, государь, де Муи.
— Зачем вы здесь?
— Ищу вас.
— Что вам надо?
— Мне надо поговорить с вами, ваше величество.
— Несчастный, — подойдя к нему, сказал Генрих, — разве ты не знаешь, что рискуешь головой?
— Знаю.
— И что же?
— И все же я здесь.
Генрих слегка побледнел: он понял, что опасность, которой подвергался пылкий молодой человек, грозила и ему. Он с беспокойством посмотрел по сторонам и снова отступил, но не так быстро, как в первый раз.
В одном из окон Генрих заметил герцога Алансонского.
Он сразу повел себя иначе: взял из рук де Муи, стоявшего, как мы сказали, на часах, мушкет и сделал вид, что хочет осмотреть его.
— Де Муи! — сказал он. — Уж конечно, весьма важная причина заставила вас броситься в пасть волку?
— Да, государь. Я вас подстерегаю уже целую неделю. Только вчера мне удалось узнать, что вы, ваше величество, будете сегодня утром пробовать лошадь, и я встал у дверей Лувра.
— Но откуда у вас этот костюм?
— Командир роты — протестант и мой друг.
— Вот вам ваш мушкет, несите караул по-прежнему. За нами следят. На обратном пути я постараюсь сказать вам два слова, но если я сам не заговорю, не останавливайте меня. Прощайте!
Де Муи принялся расхаживать взад и вперед, а Генрих подошел к лошади.
— Что это за милая скотинка? — спросил из окна герцог Алансонский.
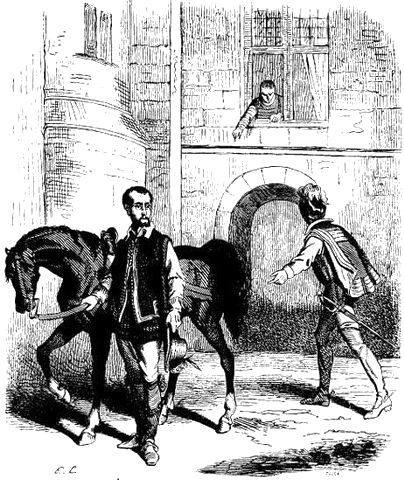
— Это лошадка, которую я должен попробовать сегодня утром, — ответил Генрих.
— Но она совсем не для мужчины.
— Она и предназначена для одной красивой дамы.
— Берегитесь, Генрих! Вы окажетесь предателем, потому что эту даму мы увидим на охоте, и если я не знаю, чей вы рыцарь, то хотя бы узнаю, чей вы шталмейстер.
— О нет! Даю слово, что не узнаете, — с притворным добродушием возразил Генрих, — эта дама сегодня не выйдет из дому: ей очень нездоровится.
— Ах, ах! Бедная госпожа де Сов! — со смехом сказал герцог Алансонский.
— Франсуа! Франсуа! Это вы предатель.
— А что такое с красавицей Шарлоттой? — спросил герцог Алансонский.
— Право, хорошенько не знаю, — отвечал Генрих, пуская лошадь коротким галопом и заставляя ее скакать по кругу. — Дариола сказала мне, что у нее болит голова, какая-то вялость, словом, общая слабость.
— Вам это не помешает ехать с нами? — спросил герцог.
— Мне? Почему помешает? — возразил Генрих. — Ведь вы знаете, что я безумно люблю охоту с гончими и ничто не заставит меня пропустить ее.
— Однако как раз эту вы пропустите, Генрих, — сказал герцог Алансонский, обернувшись и поговорив с кем-то, кто разговаривал с герцогом, оставаясь в глубине комнаты и был невидим Генриху, — его величество король сию минуту известил меня, что охоты не будет.
— Вот так-так! — произнес Генрих с видом глубокого разочарования. — А почему?
— Кажется, пришли очень важные письма от герцога Неверского. Король совещается с королевой-матерью и моим братом, герцогом Анжуйским.
«Ах, вот оно что! — подумал Генрих. — А не получены ли известия из Польши?».
— В таком случае незачем мне рисковать на этой гололедице. До свидания, брат мой! — ответил он герцогу.
С этими словами Генрих остановил лошадь подле де Муи.
— Друг мой, — заговорил он, — попроси кого-нибудь из твоих товарищей сменить тебя на карауле, а сам помоги конюху расседлать лошадь, положи седло себе на голову и отнеси его к золотых дел мастеру в королевскую шорную мастерскую: он должен закончить шитье, которое не успел закончить к сегодняшней охоте. А потом зайдешь ко мне с ответом.
Де Муи поспешил исполнить приказание, так как герцога Алансонского уже не было в окне: видимо, он что-то заподозрил.
И в самом деле: едва де Муи успел выйти за калитку, как у дверей появился герцог Алансонский. На месте де Муи стоял настоящий швейцарец.
Герцог Алансонский очень внимательно осмотрел нового караульного и, повернувшись к Генриху, спросила:
— Брат мой, ведь вы не с ним только что разговаривали?
— Это был парень из моего штата, которого я устроил на службу в отряд швейцарцев; сейчас я дал ему одно поручение, и он пошел его исполнить.
— А-а! — произнес герцог, как будто удовлетворившись этим ответом. — А как поживает Маргарита?
— Я сейчас иду к ней и спрошу ее.
— А разве со вчерашнего дня вы с ней не виделись?
— Нет. Вчера я пришел к ней часов в одиннадцать вечера, но Жийона сказала мне, что Маргарита устала и уже спит.
— Вы ее не застанете, она куда-то ушла.
— Очень может быть, — ответил Генрих, — она собиралась в Благовещенский монастырь.
Разговор не мог продолжаться: Генрих, видимо, решил только отвечать.
Зять и шурин расстались: герцог Алансонский отправился, по его словам, узнавать новости, король Наваррский прошел к себе.
Не прошло и пяти минут, как он услышал стук в дверь.
— Кто там? — спросил Генрих.
— Государь, я с ответом от золотых дел мастера из шорной мастерской, — ответил знакомый Генриху голос де Муи.
Генрих, явно волнуясь, предложил молодому человеку войти и затворил за ним дверь.
— Это вы, де Муи? — воскликнул он. — Я надеялся, что вы еще подумаете!
— Государь, — ответил де Муи, — я думал целых три месяца — этого достаточно. Теперь пришло время действовать.
Генрих вздрогнул.
— Не волнуйтесь, государь, мы одни, а время дорого и я очень тороплюсь. Ваше величество, вы можете одним словом вернуть нам все, что события этого года отняли у протестантов. Давайте поговорим ясно, кратко и откровенно.
— Я слушаю, мой храбрый де Муи, — ответил Генрих, видя, что избежать объяснения невозможно.
— Правда ли, что вы, ваше величество, отреклись от протестантства?
— Правда, — ответил Генрих.
— Да, но устами или сердцем?
— Мы всегда благодарны Богу, когда Он спасает нам жизнь, — ответил Генрих, избегая прямого ответа на вопрос, как он обычно поступал в таких случаях. — а Бог явно избавил меня от страшной опасности.
— Государь, — продолжал де Муи. — признаемся в одном.
— В чем?
— В том, что вы отреклись не по убеждению, а по расчету. Вы отреклись для того, чтобы король оставил вас в живых, а не потому, что Бог сохранил вам жизнь.
— Какова бы ни была причина моего обращения, де Муи, — отвечал Генрих, — тем не менее я католик.
— Хорошо, но останетесь ли вы католиком навсегда? Разве вы не вернете себе свободную жизнь и свободу совести при первой возможности? Теперь такая возможность вам представляется: Ла-Рошель восстала, Беарну и Руссильону довольно одного слова, чтобы начать действовать, вся Гийенна кричит о войне. Скажите только, что вы стали католиком по принуждению, и я вам ручаюсь за будущее.
— Дворян моего происхождения не принуждают, мой милый де Муи. То, что я сделал, я сделал добровольно.
— Но, государь, — сказал молодой человек, у которого сжималось сердце от этого неожиданного сопротивления, — неужели вы не понимаете, что, поступая таким образом, вы нас бросаете… предаете нас?
Генрих был невозмутим.
— Да, да, государь! Вы предаете своих — ведь многие из нас явились сюда, рискуя жизнью, чтобы спасти вашу свободу и вашу честь! — продолжал де Муи. — Мы подготовили все, чтобы добыть для вас престол. Слышите, государь? Не только свободу, но и власть: вы займете тот престол, какой захотите сами, потому что через два месяца вы сможете выбирать между Наваррой и всей Францией.
— Де Муи, — заговорил Генрих, отводя глаза, невольно засверкавшие при этом предложении, — де Муи, я жив, я католик, я супруг королевы Маргариты, я брат короля Карла, я зять моей доброй тещи Екатерины. Де Муи!
Когда я породнился со всеми этими людьми, я принял в расчет не только выгоды, но и обязанности.
— Тогда чему же верить, государь? Мне говорят, что ваш брак — брак только для видимости, мне говорят, что ваше сердце осталось свободным, мне говорят, что ненависть Екатерины…
— Враки, враки! — поспешил перебить его Генрих. — Друг мой, вас нагло обманули! Милая Маргарита на самом деле моя жена, Екатерина на самом деле мне мать, наконец, король Карл Девятый на самом деле мой повелитель, владыка моей жизни и души.
Де Муи вздрогнул, и почти презрительная улыбка мелькнула у него на губах.
— Итак, государь, — сказал он, в унынии опуская руки и пытаясь проникнуть взглядом в потемки этой души, — вот какой ответ я должен передать моим собратьям! Я скажу им, что король Наваррский подал руку и отдал свое сердце тем, кто нас резал! Я скажу им, что он стал льстецом королевы-матери и другом Морвеля…
— Мой милый де Муи, — отвечал Генрих, — король сейчас выйдет из зала совета, и я пойду спрошу его, по каким причинам отложено такое важное дело, как охота. Прощайте! Возьмите пример с меня, мой друг, — бросьте политику, вернитесь на службу к королю и примите католичество.
Генрих проводил или, вернее сказать, выпроводил молодого человека в переднюю как раз тогда, когда его изумление начинало уступать место ярости.
Не успел Генрих затворить дверь, как де Муи не выдержал и дал волю страстному желанию наказать хоть что-нибудь, за неимением кого-нибудь: он скомкал шляпу, бросил ее на пол и стал топтать ногами, как топчет бык плащ, матадора.
— Клянусь смертью! — восклицал он. — Жалкий государь! Пусть же меня убьют на этом самом месте и навеки запятнают короля Наваррского моей кровью!
— Тес! Господин де Муи! — донесся чей-то голос из чуть приотворенной двери. — Тише! Вас могут услышать.
Де Муи резко обернулся и увидел закутанного в плащ герцога Алансонского, который высунул голову в коридор, чтобы удостовериться, нет ли там кого-нибудь, кроме него и де Муи.
— Герцог Алансонский! — воскликнул де Муи. — Я погиб!
— Напротив, — шепотом сказал герцог, — быть может, вы, нашли то, чего искали: вы же видите — я не желаю, чтобы вас здесь убили, как того хотелось вам. Поверьте мне: ваша кровь может найти себе гораздо лучшее применение, не стоит обагрять ею порог короля Наваррского. С этими словами герцог распахнул дверь, которую все время держал полуотворенной.
— Эта комната двух моих дворян, — сказал герцог, — здесь никто нам не помешает, и мы можем поговорить спокойно. Входите, сударь.
— К вашим услугам, ваше высочество! — ответил изумленный заговорщик.
Он вошел в комнату, и герцог Алансонский захлопнул за ним дверь так же поспешно, как король Наваррский.
Де Муи очутился в комнате все еще под гнетом отчаяния, ярости и злобы, но холодный, пристальный взгляд юного герцога Франсуа оказал на гугенотского вождя такое же чудотворное воздействие, какое оказывает лед на пьяного.
— Ваше высочество, — сказал он, — если я правильно понял, вам угодно поговорить со мной?
— Да, господин де Муи, — отвечал Франсуа. — Несмотря на ваше переодевание, мне показалось, что это вы, а когда вы делали на караул моему брату Генриху, я вас узнал. Итак, де Муи, вы недовольны королем Наваррским?
— Ваше высочество!
— Полноте, говорите смело! Вы и не подозревали, что, быть может, я ваш друг.
— Вы, ваше высочество?
— Да, я. Говорите же!
— Я не знаю, что сказать вам, ваше высочество. Я хотел переговорить с королем Наваррским о делах, которые вашему высочеству будут непонятны. Кроме того, — добавил де Муи, стараясь принять равнодушный вид. — и дело-то пустячное.
— Пустячное? — переспросил герцог.
— Да, ваше высочество.
— Такое пустячное, что ради него вы, рискуя жизнью, проникли в Лувр, где, как вы знаете, ваша голова оценена на вес золота? Кому же неизвестно, что вы, король Наваррский и принц Конде — главные вожди гугенотов?
— Раз вы так думаете, ваше высочество, то и поступайте со мной, как подобает брату короля Карла и сыну королевы Екатерины.
— Зачем же я так поступлю? Ведь я же сказал вам, что я ваш друг! Говорите правду!
— Ваше высочество, — отвечал де Муи. — клянусь вам…
— Не надо клясться, сударь. Протестантская религия запрещает давать клятвы, особенно лживые.
Де Муи нахмурился.
— Повторяю, мне известно все, — продолжал герцог. Де Муи молчал.
— Вы не верите? — настойчиво, но благожелательно спросил герцог. — Что ж, дорогой де Муи, придется убедить вас. Судите сами, ошибаюсь ли я. Предлагали вы моему зятю Генриху, вот там, сейчас, — и герцог протянул руку по направлению к покоям Беарнца, — вашу помощь и помощь ваших сторонников для того, чтобы вернуть ему власть в Наварре?
Де Муи растерянно посмотрел на герцога.
— А он с ужасом отверг ваши предложения! Де Муи был ошеломлен.
— Разве не взывали вы к вашей старинной дружбе, к памяти о вашей вере? Разве не манили короля Наваррского блестящей надеждой — столь блестящей, что он был ею ослеплен, — надеждой на французскую корону? А? Ну, скажите, плохо я осведомлен? Не затем ли вы приехали, чтобы предложить все это королю Наваррскому?
— Ваше высочество! — воскликнул де Муи. — Вы так прекрасно осведомлены, что в эту самую минуту я задаю себе вопрос, не обязан ли я сказать вам: «Вы лжете, ваше королевское высочество!» и затеять с вами смертный бой прямо в комнате, чтобы эта страшная тайна была погребена вместе с нами?
— Тише, тише, мой храбрый де Муи! — сказал герцог, не меняясь в лице и не шевельнув пальцем при такой страшной угрозе. — Если мы с вами останемся здравы и невредимы, тайна сохранится куда надежнее, чем если один из нас погибнет. Выслушайте же меня и перестаньте терзать эфес вашей шпаги. В третий раз повторяю вам, что вы имеете дело с другом, — отвечайте же мне, как другу. Разве король Наваррский не отказался от всего, что вы ему предлагали?
— Да, ваше высочество, в этом я могу признаться, ибо это признание не погубит никого, кроме меня.
— А не вы ли, выйдя из комнаты короля Наваррского, топтали вашу шляпу и кричали, что он трус и недостоин быть вашим вождем?
— Да, ваше высочество, это правда. Я это говорил.
— Ах, правда? Вы, наконец, признаетесь?
— Признаюсь.
— И остаетесь при своем мнении?
— Больше чем когда-либо, ваше высочество.
— Так вот что, господин де Муи! Я, я, я — третий сын Генриха Второго, я, принц крови, — я, право же, дворянин достаточно высокого рода, чтобы командовать вашими солдатами! А? Судите сами, достаточно ли я честен, чтобы вы могли положиться на мое слово?
— Вы, ваше высочество? Вы — вождь гугенотов?
— Почему же нет? Вы прекрасно знаете, что в наше время люди то и дело меняют веру. И если Генрих стал католиком, я могу стать гугенотом.
— Конечно, ваше высочество, но в таком случае я жду, что вы объясните…
— Ничего нет проще! В двух словах я опишу вам наше политическое положение. Мой брат Карл избивает гугенотов, чтобы расширить свою власть. Мой брат герцог Анжуйский не мешает избивать их, потому что наследует моему брату Карлу, а мой брат Карл, как вам известно, часто болеет. А я… со мной дело обстоит иначе: я никогда не взойду на престол, во всяком случае на французский, так как у меня два старших брата. И не столько закон природы, сколько ненависть ко мне матери и братьев отстранит меня от трона; я не могу надеяться ни на родственные чувства, ни на славу, ни на королевство, но мое сердце благородно не меньше, чем сердца моих старших братьев. Так вот, де Муи, я хочу своей шпагой выкроить себе королевство в той самой Франции, которую они заливают кровью. Итак, выслушайте меня, де Муи, и я скажу вам, чего хочу. Я хочу стать королем Наваррским не по праву рождения, а по праву избранника. Заметьте, что никаких возражений против этого у вас быть не может: ведь я не являюсь узурпатором, так как брат мой Генрих отверг ваши предложения и, погрязнув в бездействии, открыто заявил, что Наваррское королевство — пустой звук. Генрих Беарнский не даст вам ничего; я дам вам меч и имя. Франциск Алансонский, французский принц, сумеет защитить своих товарищей или своих сообщников — называйте как хотите. Итак, господин де Муи, что вы скажете о моем предложении?
— Ваше высочество, я им ослеплен.
— Де Муи, де Муи, нам придется преодолеть множество препятствий. Так не будьте же с самого начала так несговорчивы и так требовательны к сыну короля и брату короля, который идет вам навстречу!
— Ваше высочество, все было бы уже решено, если бы мои замыслы принадлежали мне одному, но у нас есть совет, и, как бы ни было блестяще предложение, а может быть, именно поэтому, вожди протестантской партии не согласятся на него без определенного условия.
— Это другое дело, ваши слова идут от честного сердца и осторожного ума. Приняв во внимание, как я сейчас поступил с вами. Муи, вы должны признать мою порядочность. Но в таком случае и вы обращайтесь со мной, как с человеком, достойным уважения, а не как с государем, которому только льстят. Де Муи, есть ли у меня надежда на успех?
— Раз вашему высочеству угодно знать мое мнение, я даю вам слово, что, после того как король Наваррский отверг предложение, сделанное мною, у вашего высочества есть твердая надежда на успех. Но повторяю, ваше высочество: я непременно должен условиться с нашими вождями.
— Так уславливайтесь, сударь, — отвечал герцог Алансонский. — А когда ответ?
Де Муи молча посмотрел на герцога и, видимо, решился.
— Ваше высочество! — сказал он. — Дайте мне руку; я должен быть уверен, что мне не грозит предательство, а для этого мне необходимо, чтобы рука французского принца коснулась моей руки.
Герцог Алансонский не только протянул руку, но и сам пожал руку де Муи.
— Теперь, ваше высочество, я спокоен, — сказал молодой гугенот. — Если нас предадут, я скажу, что вы тут ни при чем. Иначе, ваше высочество, сколь ни мала была бы ваша роль в этом предательстве, вы все равно были бы обесчещены.
— Почему вы, де Муи, говорите мне об этом, еще не сказав, когда я получу ответ ваших вождей?
— Потому, ваше высочество, что, спрашивая, когда вы получите ответ, вы одновременно спрашиваете и о месте, где находятся наши вожди. Ведь если я скажу вам: «Сегодня вечером», — вы будете знать, что они в Париже и что они скрываются.
С этими словами де Муи недоверчиво устремил свой пронизывающий взгляд в бегающие, лживые глаза молодого человека.
— Вижу, вижу, господин де Муи: ваши подозрения все еще не рассеялись, — заметил герцог. — Но для первого раза я и не имею права требовать от вас полного доверия. Позже вы лучше узнаете меня. Мы будем связаны общностью наших интересов, и таким образом ваше недоверие будет побеждено. Так вы говорите, сегодня вечером, господин де Муи?
— Да, ваше высочество, время не терпит. До вечера! Но будьте любезны сказать — где?
— Здесь, в Лувре, в этой комнате. Вам это удобно?
— В этой комнате кто-нибудь живет? — спросил де Муи, указывая на две кровати, стоявшие одна против другой.
— Два моих дворянина.
— Ваше высочество, по-моему, прийти в Лувр еще раз было бы с моей стороны неосторожно.
— Почему?
— Потому, что если вы меня узнали, то ведь и у других глаза могут оказаться такими, же зоркими, как у вашего высочества, и меня узнают. Но я все-таки приду в Лувр, если вы, ваше высочество, согласитесь дать мне то, о чем я вас попрошу.
— А именно?
— Охранную грамоту.
— Де Муи, если при вас найдут охранную грамоту, выданную мной, это погубит меня, но не спасет вас. Я могу быть вам полезен только при условии, что в глазах всех мы с вами люди, совершенно чуждые друг другу. Малейшее сношение с вами, если его докажут моей матери или моим братьям, будет стоить мне жизни. Таким образом, мои личные интересы будут служить вам защитой с той минуты, как я скомпрометирую себя сношениями с вождями вашей партии, подобно тому как и сейчас я компрометирую себя, разговаривая с вами. Свободный в своих действиях, сильный своей неразгаданностью, пока я непроницаем, я отвечаю вам за все, не забывайте этого. Итак, вновь призовите ваше мужество и, полагаясь на мое слово, смело идите на то, на что вы шли, не заручившись словом моего зятя. И сегодня же вечером приходите в Лувр.
— Но как я приду сюда? Я не могу рисковать, разгуливая по Лувру в этом костюме. Он хорош в подъезде да во дворе. А мой собственный костюм еще опаснее: здесь меня все знают, а он нисколько не изменяет мою внешность.
— Сейчас соображу, — сказал герцог. — Постойте, постойте… По-моему… Ага! Нашел!
Герцог окинул взглядом комнату, и глаза его остановились на парадном костюме Ла Моля, разложенном на постели, где лежали и великолепный, шитый золотом вишневый плащ, о котором мы уже упоминали, и берет с белым пером, с бордюром из серебряных и золотых маргариток, и, наконец, атласный, серый с золотом, камзол.
— Видите этот плащ, перо и камзол? — спросил герцог. — Это костюм одного из моих дворян, господина де Ла Моля; это щеголь высокого полета. Его костюм произвел при дворе фурор, и Ла Моля узнают в нем за сто шагов. Я дам вам адрес его портного; заплатите ему двойную цену, и к вечеру он сошьет вам такой же. Запомните имя? Де Ла Моль.
Едва герцог Алансонский успел дать этот совет, как в коридоре послышались шаги, приближавшиеся к двери, и вслед за тем в замочной скважине повернулся ключ.
— Эй! Кто там? — крикнул герцог, бросаясь к двери и задвигая задвижку.

— Странный вопрос, черт побери! — отвечал голос из-за двери. — Сами-то вы кто? Забавно, право: прихожу к себе домой, а меня спрашивают, кто там!
— Это вы, господин де Ла Моль?
— Конечно, я. А вот кто вы?
Пока Ла Моль выражал свое изумление по поводу того, что его комната оказалась занята, и пытался узнать, кто этот новый его сожитель, герцог Алансонский, одной рукой придерживая задвижку, а другой прикрывая замочную скважину, быстро повернулся к де Муи.
— Вы знакомы с Ла Молем? — спросил он.
— Нет, ваше высочество.
— И он вас не знает?
— Думаю, что нет.
— Тогда все благополучно. Но на всякий случай сделайте вид, что смотрите в окно.
Де Муи повиновался без возражений: Ла Моль начинал выходить из терпения и изо всех сил барабанил в дверь.
Герцог Алансонский бросил на де Муи последний взгляд и, убедившись, что тот стоит спиной, отворил дверь, — Ваше высочество, герцог! — воскликнул Ла Моль, от изумления делая шаг назад. — Простите, простите, ваше высочество!
— Пустяки, сударь. Мне понадобилась ваша комната, чтобы принять одного человека.
— Пожалуйста, ваше высочество, пожалуйста. Но, умоляю вас, позвольте мне взять с постели мой плащ и шляпу: другой плащ и другую шляпу я потерял ночью на Гревской набережной — там на меня напали воры.
— В самом деле, сударь, вид у вас неважный, — с улыбкой сказал герцог, отдавая Ла Молю требуемые вещи. — Видно, вы имели дело с напористыми молодцами!
Как мы уже сказали, герцог отдал Ла Молю плащ и берет. Молодой человек поклонился и пошел переодеваться в переднюю, нимало не задумываясь над тем, что делал герцог в его комнате: так уж повелось в Лувре, что комнаты дворян, составлявших свиту принцев, служили принцам своего рода гостиными, где назначались всевозможные приемы.
Де Муи подошел к герцогу, и оба, прислушиваясь, стали дожидаться, когда Ла Моль закончит свои дела и уйдет, но Ла Моль сам вывел их из затруднения: переодевшись, он подошел к двери и спросил:
— Простите, ваше высочество, вам не попадался граф де Коконнас?
— Нет, граф, хотя сегодня утром было его дежурство. «Значит, его убили», — подумал Ла Моль и удалился. Герцог прислушался к постепенно затихавшим шагам Ла Моля, затем отворил дверь и, увлекая за собой де Муи, сказал:
— Смотрите хорошенько — вон он идет, и постарайтесь перенять его неподражаемые манеры.
— Буду стараться изо всех сил, — отвечал де Муи, — но, к сожалению, я не дамский угодник, я солдат.
— Как бы то ни было, около полуночи я жду вас в этом коридоре. Если комната моих дворян будет свободна, я приму вас там; если нет — найдем другую.
— Хорошо, ваше высочество.
— Итак, до ночи, до двенадцати часов.
— До двенадцати часов.
— Да, кстати, де Муи! При ходьбе сильно размахивайте правой рукой — это очень характерно для господина де Ла Моля.

