Книга: Философия одиночества
Назад: О. Иаков Коннер. ТОМАС МЕРТОН – СОСТРАДАТЕЛЬНЫЙ МОНАХ И ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ЧЕЛОВЕК[31]
Дальше: Фото А. Кириленкова. Ноябрь, 2006 г.
Монсеньор Уильям Шеннон[51]. РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ЭССЕ ТОМАСА МЕРТОНА «ЗАМЕТКИ О ФИЛОСОФИИ ОДИНОЧЕСТВА»[52]
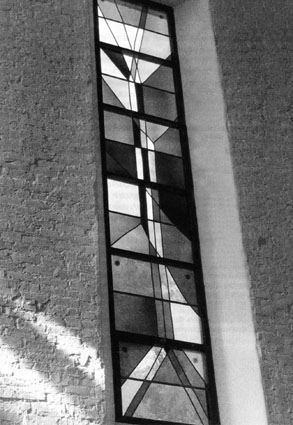
В 1933 г. восемнадцатилетний Том Мертон путешествовал по Европе и на пути из Рима домой ненадолго заехал во Флоренцию. Художник, у которого он остановился, позвал его на фильм с Гретой Гарбо. Мертон, недолго думая, принял приглашение, потому что очень любил эту актрису. Фильм назывался «Королева Кристина». Позже, сыграв ещё несколько главных ролей, Грета Гарбо заявила, что «хочет быть одна», и удалилась в свой знаменитый затвор, никем так и не нарушенный.
Мертона тоже влекло в затвор, но мотивы у него были иные. Он стремился к одиночеству большую часть своей монашеской жизни, но получил его только в 1965 г., прожив в монастыре почти четверть века. В скиту неподалеку от Гефсиманского аббатства он поселился в день памяти св. Бернара.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЭССЕ
Об одиночестве Мертон писал много. Сначала – в «Знамении Ионы», позже – в «Одиноких думах» (напечатаны в 1958 г.) и, наконец, в пространном эссе «Заметки о философии одиночества», вошедшем в сборник «Спорные вопросы». Последнее было Мертону очень дорого. В неопубликованном дневнике 1965-1966 гг. он цитировал Рильке: «Произведение только тогда хорошо, когда создано по необходимости», и далее писал, что «Философия одиночества» – именно такое произведение. 20 декабря 1962 г. в письме Джону By он говорил: «Рад, что Вам понравилась „Философия одиночества”. В ней я высказал всё самое главное, быть может, единственное, что я должен был высказать». Наконец, в последний год жизни он делился с Джун Янгблат, исследовательницей его трудов: «„Заметки о философии одиночества” – самое существенное в „Спорных вопросах”».
Орденские цензоры думали иначе. Они сочли, что Мертон слишком рьяно защищает одинокую жизнь (иначе говоря – отшельничество) и разрушает основы жизни общинной. Не понравились им и «прямые нападки на начальство, духовников и исповедников», и то, что эссе учит человека самостоятельно распознавать волю Божью, а следовательно – «не доверять установленной Богом власти».
О противоречиях с цензурой Мертон рассказывал сестре Терезе Ленфер в письме от 30 мая 1960 г.:
Мою заметку ругают так, будто это непристойный роман. Орден лихорадит от одного лишь намёка на одиночество. Наша традиция неприглядна. Мы почему-то решили, что общинная жизнь – это пе plus ultra, и стоим до последнего. Что за вздор! Вместо того, чтобы следовать истине и традиции Церкви, орден, как и всякий институт, плодит шаблоны. Ну и в переплёт же я попал.
В том же письме он сообщил и кое-какие подробности:
Я переписывал текст трижды. Первый вариант появился в 1955 г. (или чуть раньше) и опубликован только на французском [«Dans le desert de Dieu»] и итальянском [«Nel Deserto»]. Никто, кроме наших цензоров, не нашёл в нём ничего крамольного. Когда же я всё окончательно вычистил, цензор заявил, что я «нападаю на орденское начальство и авторитет Церкви». Он ухватился за что-то вроде: «те, кто говорит, что достаточно одного внутреннего одиночества, не понимают, что говорят», и решил, что речь идёт о начальстве, как будто никто другой такого не скажет.
В другом месте [sic] я написал, что главная мука одинокой жизни в том, что отшельника никто не направляет, и воля Божия открывается ему напрямую. Цензор же, не обратив внимания на слова о муке, выдернул остаток фразы и заявил, что я проповедую непослушание, отвергаю духовное руководство и призываю жить прямым водительством Духа Святого. Что за нелепость! Глава ордена [Габриэль Сортэ], прочтя отзыв, пришёл в ярость и заклеймил меня как упрямого еретика.
Пока цензоры спорили об эссе, Виктор Хаммер опубликовал его на свой страх и риск под названием «Одинокая жизнь» (Е2 по моей классификации. – См. прим. 62). Тираж был маленький, всего 50 экземпляров.
Как ни странно, распря с цензорами пошла Мертону на пользу. Внося правки, он заново всё продумал, и текст от этого выиграл. 17 сентября 1960 г. он писал Марку ван Дорену:
Благодарю тебя за отклик на брошюру об одиночестве [«Одинокая жизнь», ограниченное издание]. Я знал, что она тебе понравится и что ты её поймёшь. Посылаю тебе «Спорные вопросы», куда вошёл тот же текст, только немного дополненный. Цензоры заставили меня говорить яснее прежнего. Вот, поистине, – прелести цензуры! Вне Церкви этого не понимают. Цензоры невольно похлестывают автора, распаляют его, делают его текст более внятным, сжатым и, в конце концов, вынуждают его сказать то, что иначе осталось бы невысказанным.
Переписав эссе по замечаниям цензоров, Мертон полагал, что сделал его лучше, но, по-моему, это не совсем так. Дело в том, что в первой (французской) версии он просто защищал отшельничество, а в последней (полное эссе из «Спорных вопросов») – значительно расширил тему и стал писать об одиночестве как таковом, не обязательно монашеском. Это объясняет, почему он использует то слово «отшельник» (эремит, hermit), то – «человек, любящий уединение» (solitary). Слово «отшельник» встречается девять раз и только во «французской» части эссе (версии E1, E2. - См. прим. 62). Возможно, Мертон плохо отредактировал окончательный вариант. (Ему вообще было гораздо интереснее творить новое, чем дорабатывать уже написанное. Правда, машинописные тексты редактировать гораздо сложнее, чем набранные на компьютере.) Но возможно, что он намеренно оставил слово «отшельник», пытаясь выразить две вещи. Во-первых, что отшельник – это прообраз всякого любящего уединение. А во-вторых, что отшельничество никак не противоречит порядкам Траппистского ордена. Частые стычки с цензорами научили Мертона разным уловкам, помогавшим ему сохранить свободу.
ПОДХОД К МАТЕРИАЛУ
Должен признать, что я очень долго не мог подступиться к эссе. Все прочие тексты Мертона легко раскрывали мне свои секреты, но на этот раз всё было по-другому. Я пытался подытожить эссе, но заметки получались длиннее оригинала, а главное – не складывалась общая картина. В мысли Мертона не было сквозной логики; одна мысль часто не вытекала из другой, и ничто методично не вело меня от начала к концу.
Честно говоря, я был озадачен и расстроен. Эссе, которым я восхищался, казалось неприступным. Наконец, я не понял, что упускаю из виду два очевидных обстоятельства – название эссе и его структуру. В оглавлении «Спорных вопросов» стояло: «Философия одиночества», а в самом тексте: «Заметки о философии одиночества». Значит, стройной системы не было, а были всего лишь заметки. Кроме того, текст разбит на части и пронумерованные параграфы (9 – в части 1, 22 – в части 2 и 12 – в части 3). Та же структура была и у вышедшего в 1955 г. сборника «Нет человека, который был бы как остров». Мой сборник, писал Мертон тогда, «не полный свод всего самого важного, а заметки о том, что считаю важным я сам».
Не следовало искать у Мертона стройной философии одиночества, выверенной последовательности идей. Он переходил от мысли к мысли, часто повторяясь, и не подводил читателя к определённому выводу. Как и в «Нет человека, который был бы как остров», он просто размышлял, не претендуя на полноту.
Коль скоро Мертон писал от опыта, то и я решил ничего не подытоживать, а поделиться с читателем тем, что почерпнул из эссе я сам. Я решил раздать людям золото, которое добыл на этом прииске, и помочь им добыть свое. Используя другой образ, скажу, что эссе Мертона похоже на алмаз, но ещё грубый, не прошедший через руки искусного мастера.
ЭССЕ
Вариант, вошедший в «Спорные вопросы», начинается с длинного примечания и поделён на три части: «Засилие развлечений», «В гибельном море», «Духовная нищета».
Во вводном примечании Мертон поясняет, что эссе написано не только и не столько для монахов или верующих, принесших те или иные обеты, сколько для одинокой души вообще, поскольку одиночество – неотъемлемая часть человеческого бытия и присуще каждому из нас. «В моих заметках человек, любящий уединение (solitary), вполне может быть мирянином, очень далеким от монашеской жизни, как, например, Туро или Эмили Дикенсон».
Часть первая. «Засилие развлечений»
Для меня в этой части были важны следующие темы.
А) Уединённость и общество. Одинок каждый человек. Но далеко не каждый любит быть один или чувствовать себя одиноким (последнее случается и с теми, кто находится в обществе). Уединённости не избежишь, даже если захочешь. Оно присуще человеку. Как бы общительны мы ни были, мы всё равно бываем одни (и довольно часто). Ночью, например, когда нам не спится. Тот, кто спит рядом, не нарушает нашего одиночества. На ум приходят самые разные мысли: мелкие и случайные, глубокие и неясные. Мы с ними – один на один. Даже в толпе можно быть одиноким, если нас ничто с ней не связывает. Уединённость сопровождает нас по жизни и во всей полноте проявляется тогда, когда та подходит к концу. Сколько бы нас ни окружало дорогих нам людей, свою смерть мы встречаем одни. Каждый из нас умирает в одиночку.
Уединённость, одну из сторон человеческой жизни, дополняет другая сторона – общение с людьми, принадлежность к обществу. Если бы общество было общиной, оно превратило бы нашу уединённость в истинное одиночество, где мы опытно переживаем своё единство с братьями и сёстрами. Но чаще всего оно вырождается в коллектив, которому одиночество чуждо и который противится ему изо всех сил.
Б) Развлечение. Общество как коллектив не может полностью оградить нас от одиночества, поэтому оно делает всё, чтобы мы о нём забыли. Оно вовлекает нас в придуманную, оторванную от реальности жизнь, порабощает нас развлечению. Первая часть эссе Мертона так и называется: «Засилие развлечений». Как я уже говорил (см. прим. 62), она есть только в окончательном варианте эссе. Её внушительный объём говорит о том, что Мертон считал эту тему очень важной.
Термин развлечение Мертон заимствовал у Паскаля, который понимал его как divertissement, постоянную и намеренную рассредоточенность, позволяющую, как пишет Мертон, «окончательно избавить человека от самого себя». Развлечение – это пустое и отупляющее времяпрепровождение, поверхностные и бессмысленные действия, отрывающие человека от настоящей жизни. Мы вправе говорить о «засилии» развлечений, потому что они подчиняют нас себе, лишают нас свободы быть теми, кто мы есть на самом деле.
Чтобы объяснить, к чему ведёт развлечение и откуда оно рождается, Мертон использует слова: «иллюзия», «домысел», «оцепенение», «безразличие». Они рисуют образ человека, грезящего наяву, выпавшего из реальности. Не спорю, такой человек может быть очень успешен в вещах поверхностных. Но глубин жизни он никогда не коснется, потому что развлечение отгородило его от них. «Развлечения для того и нужны, – пишет Мертон, – чтобы усыпить человека, погрузить его в тёплое, оцепенелое равнодушие коллектива, который, в свою очередь, тоже хочет только забав» (ч. 1, пар. 1). Мыльные оперы и смешные сериалы вполне могут привязать к себе человека. Они заменили нам «хлеб и зрелище» древнего Рима. Поскольку римское общество было весьма неблагополучно, императоры помогали людям забыть, как пошло и бессмысленно их существование, предлагая им хлеб и зрелища. Наше общество делает то же самое, только с помощью современных технологий.
В) Отшельник, отметающий развлечения. Человек, любящий уединение, – это тот, кто отказался от развлечений. Он не хочет бежать от реальности, но намерен найти её и жить ею, чего бы это ему ни стоило. Он принимает жизнь, как она есть, во всей её нелепости. Он открыт мучительному «осознанию того, что под нашей, казалось бы, понятной, хорошо упорядоченной, разумной жизнью лежит бездна иррационального, беспорядка, бессмыслицы, самого настоящего хаоса» (ч. 1, пар. 2). Человек, любящий уединение, развеивает иллюзию самодостаточности, которую рабы развлечений питают в отношении себя и своего мирка. Он готов принять непостижимость жизни и не хочет притворяться, будто её нет.
Г) Вера истинная и вера ложная. Чтобы принять реальность, как она есть, нужна настоящая вера. «Во внутреннем одиночестве, – пишет Мертон, – едва ли не самое главное – это вера, с которой человек берёт на себя ответственность за свою внутреннюю жизнь» (ч. 1, пар. 3). Вера погружает нас в тайну жизни. Если же она принимает традиционные формулы, не желая вникать в их смысл, то она сама может стать развлечением. Вера, которая не идёт дальше готовых ответов на главные вопросы жизни, и есть развлечение. Настоящая же вера, пишет Мертон, заставляет человека «повернуться лицом к собственной тайне и в одиночку, непостижимым и неописуемым образом идти сквозь её мрак, чтобы открыть, что его тайна и тайна Бога сходятся в одну – и единственную – реальность» (ч. 1, пар. 3). Реальность же состоит в том, что Бог живёт в нас, а мы – в Боге, что наше сердце бьётся в Его сердце. В Калькутте Мертон говорил: «Мы открываем не новое, а старое единство. Мои дорогие братья, мы уже едины, хотя нам кажется, что это не так... Мы должны стать теми, кто мы уже есть».
Человек, любящий уединение, не удаляется от общения с людьми, а отрекается от мнимого единства, чтобы достичь истинного в Боге. Он призван к сверхъестественному единству, которое глубоко и нерасторжимо. «Он ищет внутри себя самого единство духовное и простое, которое, если он его находит, становится, как это ни странно, единством всех людей – поверх разделений, противоречий и расколов» (ч. 1, пар. 5).
Д) Итоги. Мертон пишет, что мы можем жить на трех уровнях. Первый уровень – «феноменальный», поверхностный, когда нам удается отвлечь себя от дисгармонии, отгородиться от всего, что досаждает нам, тревожит и тяготит нас. Это уровень развлечений. Здесь не живут реальностью. «Большинство людей не могут полноценно существовать без домыслов», – пишет Мертон (ч. 2, пар. 4).
Второй уровень человеческого существования – экзистенциальный, когда мы перестаем скользить по поверхности и соприкасаемся со сложностью жизни, её дисгармонией, абсурдностью, противоречиями. Отсюда начинает свой путь человек, любящий одиночество и отказавшийся от развлечений.
Третий уровень – созерцательный. Человек, любящий уединение, начинает ощущать себя созерцателем, проходит сквозь мнимую бессмысленность бытия и вступает в тайну истинного «я» и одновременно – в тайну Бога. Именно на этом уровне жизнь перестаёт быть абсурдной, а её, противоречия разрешаются. В одной из своих книг Мертон называл это «эсхатологической тайной» Иулиании Норвичской. «Всё будет исцелено», – писала она. Господь придёт к нам с окончательным ответом на нашу муку. «Последний день» – это не разрушение и месть, а милость и жизнь. «Все мелкие чаяния будут отменены, и всё будет исправлено».
Мертон так подытоживает первую часть своего эссе:
Человек, действительно любящий уединение, живёт не среди доморощенных домыслов и иллюзий, а в пустоте, смирении, чистоте, вне досягаемости для лозунгов и тяги к развлечениям, отчуждающим его от Бога и от самого себя. Такой человек живёт в единстве. Его одиночество – это не спор, не обвинение, не упрек и не проповедь. Оно существует само по себе. Оно есть, и потому не привлекает к себе внимания. Да оно и не хочет этого делать, оставаясь, в сущности, совершенно невидимым (ч. 1, пар. 8).
Часть вторая. «В гибельном море»[71]
Первая часть рисует нам идеальную картину: человек, любящий уединение (solitary), становится созерцателем и преодолевает бессмысленность и нелепость жизни, которую отказываются видеть рабы развлечений. Он подходит к тайне истинного «я» и открывает Бога, единство с Ним и со всем сущим. Казалось бы, всё легко и просто. Но на самом деле путь от поверхности в глубь бытия, где мы находим самих себя, полон опасностей и ловушек.
На мой взгляд, вторая часть эссе очень неоднородна. В ней много блестящих отрывков, но много и повторов, и стилистических недоработок. Часть «В гибельном море» говорит о трудностях, которые ждут человека в уединении, и о том, как с ними справиться.
А) Ложное одиночество. Если отшельник отделяет себя от общества, чтобы подчеркнуть собственную индивидуальность, то его одиночество ложное. На самом деле он нуждается в обществе и ждёт от него одобрения. Даже если общество враждебно по отношению к нему, он утешается тем, что общество его замечает. Притворное одиночество требует к себе постоянного внимания.
Мертон хорошо знал, кто такой «ложный отшельник». В июле 1956 г. он был в Коллегвиле, на конференции в Университете св. Иоанна. Там он беседовал с Грегори Зилбургом, известным психиатром, недавно обратившимся в католичество, и тот высмеял его (более мягкого слова я подобрать не могу), заявив, что его стремление к одиночеству патологично и что на самом деле он хочет быть «отшельником на Таймс-Сквер», чтобы над его скитом висела огромная надпись «ОТШЕЛЬНИК». Но Мертон лучше Зилбурга понимал, что неправильное отношение к одиночеству ведёт к отделённости от людей и становится ещё одним развлечением.
Б) Настоящий отшельник. Настоящий отшельник не отрекается от людей. Он «ценит в отношениях с другими людьми всё самое существенное, человеческое... Отвергает же... пустые претензии на общность, которые норовят подменить собой общность настоящую, неумело маскируя внутреннюю порчу, безответственность и эгоизм» (ч. 2, пар. 2).
В) Ответственность за свою внутреннюю жизнь и путь к тайне Бога. Человек, любящий уединение, берет ответственность за свою внутреннюю жизнь и потому отвергает поверхностные общественные представления, которые заставляют его «видеть и взращивать в себе только то, что предписано обществом, как полезное и похвальное для его членов» (ч. 2, пар. 2). Он не хочет терять опыт в обмен на слова, лозунги и понятия, которые предлагает ему общество, и «презирает преступное, кровожадное высокомерие своей страны и своего класса не меньше, чем высокомерие „врага”» (ч. 2, пар. 3).
Настоящий отшельник ненавидит агрессивность и в себе, и в своекорыстных политиках. Но свою ненависть он не переносит на тех, кто живёт общественными домыслами. Отшельник разделяет свое одиночество со всеми. Он един со всеми не в домыслах и пустых символах, которые часто подменяют собой настоящее единство, и не в пустых интересах и устремлениях поверхностного общественного бытия, а в опасности, грозящей каждому из людей, в уготованной им муке. Значит, «одиночество – это основа для глубокого, чистого, сердечного сострадания другим людям, независимо от того, понимают они, сколь трагична их участь, или нет. Более того – это путь, которым отшельник входит в тайну Бога, а потом и других приводит к этой тайне силой своих любви и смирения» (ч. 2, пар. 6).
Г) Свидетельство отшельника. У человека, любящего уединение, полагает Мертон (здесь он почему-то использует слово «отшельник», hermit), есть своя роль в обществе. Будучи внешне отделён от общества, он свидетельствует о первичном, духовном, мистическом характере Церкви. «Христианский отшельник часто ближе к сердцевине Церкви, чем те, кто с головой ушёл в апостольские труды» (ч. 2, пар. 10).
В варианте, переданном цензуре (Е4), Мертон далее пишет: «Жизнь и единство Церкви видимы и должны быть таковыми. Но это не значит, что они исключительно и преимущественно видимы». Один из цензоров обратил внимание на эту фразу и счёл, что она подчеркивает невидимый аспект Церкви, принижая видимый, и может навести на мысль, что «нет нужды принадлежать Церкви видимой», поскольку «личное просвещение от Духа Святого важнее всего». Мертон эту фразу вычеркнул, и в напечатанный вариант она не вошла. И всё-таки он настаивает на том, что отшельник, прислушиваясь к Духу Святому и собственной совести, может дать обществу новые ценности. Он помогает забыть о том, насколько продуктивно или практически полезно то или иное, и ставит во главу угла любовь, сострадание, заботу о всём народе Божием. Отшельник не просто усердно молится о тех, кому некогда молиться. Он свидетельствует о пустоте домыслов, которые навязывает нам развлечение, пытаясь нас ослепить и отгородить от реальности.
Часть третья. «Духовная нищета»
А) Нищета отшельника. Размышление об общественном свидетельстве отшельника подводит нас к третьей части эссе, где сказано о духовной нищете. Быть одиноким не значит быть великим созерцателем, свободным от тревог и дел, не значит вести беззаботную жизнь. Напротив, молитва отшельника может быть гораздо суше молитвы тех, кто живёт в сообществе. Как и все смертные, отшельник иногда болеет, его гложут сомнения, но не в вероучительных истинах, а в том, что касается самых корней существования и смысла избранной им жизни.
Именно это сомнение погружает отшельника в молчание. Тогда, перестав задавать вопросы, он действительно познаёт, что Бог присутствует как единственная реальность посреди его сомнений и ничтожности. Он знает, куда идёт, но не уверен, «правильной ли дорогой». Его путь непонятен ему самому, но когда он доходит до места, понимает, что дошёл. «Чем ближе он к цели, тем дальше он от всего, что напоминает ему о „пути”. Таков его путь. Отшельник его не понимает. Не понимаем и мы» (ч. 3, пар. 4).
«Поэтому уединенная жизнь – это жизнь в любви, но без утешений. Она плодотворна, потому что объята и переполнена волей Божией, а всё, в чём Его воля, исполнено значимости, даже если иногда кажется совершенно бессмысленным» (ч. 3, пар. 6).
Б) Воля Божия. Размышления Мертона о воле Божией вызвали негодование цензоров. Особенно вот это: «Ужас одинокой жизни состоит в непосредственности, с которой душе открывается воля Божия. Куда спокойней и безопасней жить, когда её преподносят нам общество, человеческие законы или чьи-то приказы» (ч. 3, пар. 7). Цензор усмотрел здесь недоверие к установленной Богом власти, которая направляет нас и помогает отличить Божию волю от воли человеческой или дьявольской. В ответ Мертон заменил «непосредственность» на «тайну и неизвестность, которыми воля Божия томит душу», и добавил, что познать её помогают «духовники и старшие». По сути дела, он сдался, отказавшись от своих слов, но другого выхода у него не было. Цензор же, заканчивая свой отзыв, заискивающе писал главе ордена:
Таковы, Ваше преподобие, мои мысли. Оставляю их на Ваш суд. Ничего не могу поделать, но в этом MS, равно как и во многих других текстах отца Людовика, я усматриваю склонность к непослушанию, к неприличествующей монаху строптивости. Я очень хотел бы ошибиться, но всё время думаю о том, что, если бы отец Людовик следовал цистерцианскому призванию во всей его полноте, если бы он получил всю его благодать и помощь, то не нашёл ли бы он всё, что искал; не сделал ли бы он гораздо больше для Церкви, чем он делает теперь, отвлекаясь на эти свои писания и на духовные проблемы людей за стенами монастыря?
В) Внешнее одиночество. Защищая внешнее одиночество, Мертон ещё раз досадил цензуре и вынужден был вернуться к самому первому, французскому варианту, где он писал об отшельнической жизни как части цистерцианской традиции. В окончательном варианте он пишет: «Часто говорят, что внешнее одиночество не только опасно, но и совершенно не нужно; что главное – это сохранить одиночество внутреннее» (ч. 3, пар. 10). А потом добавляет, что, хотя в этих словах есть доля истины, их неправильно понимают.
Истина же состоит в том, что если Бог призвал человека к одиночеству, то он будет одинок, даже живя в общине. Мертон, несомненно, имеет в виду самого себя. Он был одинок задолго до того, как переселился в скит (это произошло в 1965 г.). Продолжая свою мысль о внешнем одиночестве, Мертон пишет: «В этом легковесном утверждении есть правда, куда более страшная, чем могут себе представить те, кто его делает, пытаясь оправдать свою наполненную развлечениями жизнь». Цензор, процитировов отрывок, заключает довольно резко:
В этих сентенциях мне видится прямое противление начальникам, духовникам, исповедникам, вообще всем, чей долг – рассудить, действительно ли тот или иной человек призван к одиночеству. Автор не уважает установленную Богом власть, через которую нам, как правило, и открывается воля Божия.
После такой критики Мертон вынужден был выразиться иначе: «В этих словах есть своя правда, но те, кто их произносит, не представляют, сколь эта правда страшна и сколько в ней скрыто иронии» (ч. 3, пар. 10). Тот, кто призван к одиночеству Богом, но живёт в общине, одну за другой рвет нити, связывающие его с ближними. Он перестаёт «черпать силы из рутины совместной жизни», чтобы жить связями более глубокими, безмолвным общением в искренней любови. Одиночество понуждает человека любить ближних сильнее, чем прежде, быть может, – впервые в жизни любить по-настоящему.
Заключение
Двенадцатый и последний параграф третьей части эссе есть только в окончательном варианте из «Спорных вопросов». Не подумайте только, что Мертон схитрил и приписал его после того, как договорился с цензорами. Последние три абзаца эссе – это великолепное крещендо на тему, начатую им годом раньше во «Внутреннем опыте» и продолженную годом позже в «Семенах созерцания». Это тема постепенного исчезновения преходящего «я» и становления «я» вечного. Погружаясь в одиночество, человек теряет себя: «В пустоте одиночества исчезает «я» поверхностное, общественное, ложное, образ, сотканный из предрассудков и прихотей, плод позерства, фарисейского эгоизма и фальшивой преданности, наследие ограниченного и несовершенного общества» (ч. 3, пар. 12).
Глубинным, истинным «я» невозможно обладать. Его невозможно приобрести. Это вообще не объект, не вещь. Оно не моё и не может быть моим, потому что оно не пустое «я» индивида и не средоточие наших стремлений к успеху и обладанию. Это глубинное «я» духа, одиночества и любви, которое «может только быть и действовать по глубоким внутренним законам, не выдуманным людьми, а исходящим от Бога» (ч. 3, пар. 12).
Внутреннее «я» всегда одиноко. Но оно и универсально, едино с миром и людьми. Как и всё сущее, оно исходит от Бога. Мертон пишет: «...в нём моё собственное одиночество встречает одиночество других людей и Самого Бога» (ч. 3, пар. 12). Внутреннее «я» выше разделений, границ, самоутверждения: «Только это внутреннее и одинокое «я» по-настоящему любит любовью и духом Христа. Это «я» – Сам Христос, Который живёт в нас. Но и мы живём в Нём, а через Него – в Отце» (ч. 3, пар. 12).
Как я уже сказал, этот волнующий заключительный параграф есть только в окончательном варианте. Он был написан летом 1960 г. и вышел 26 сентября в «Спорных вопросах». Спустя короткое время, в начале 1961 г., Мертон начал серьёзную правку своей старой книги «Семена созерцания». Он добавил к ней две новые начальные главы, где писал, что созерцание, как и одиночество, – это опыт обретения истинного, внутреннего «я». Так последняя часть «Философии одиночества» подводит нас прямо к ставшим духовной классикой «Новым семенам созерцания».
Мертон очень поэтично пишет об одиночестве, поэтому и свои размышления я хотел бы завершить его стихом из сборника Emblems of a Season of Fury, напечатанного в 1963 г. Вполне возможно, что стих вышел из-под его пера в одно время с эссе.
Песнь: Если ты ищешь...
Если ищешь небесный свет,
Я, уединение, – поводырь!
Я веду тебя в пустоту;
Неземную зарю бужу,
Открываю окна
Твоих сокровенных покоев.
Когда я, одиночество, дам знак,
Тихо следуй за мной; иди, куда я маню!
Не бойся, малодушный упрямец,
Слово и зверь:
Я, уединение, – ангел,
Молящийся за тебя.
Взгляни на пустую, щедрую ночь,
На скитальцев луну!
Я – назначенный час,
«Ныне», что мечом
Рассекает время.
Я – внезапная вспышка
За пределами «нет» и «да»,
Предтеча Божиего Слова.
Иди по моей дороге
К златовласым солнцам,
Логосу и музыке, чистой радости,
Что вопросов не любит
И ответов не ждёт.
Ибо я, одиночество, – твоё «я»,
Я, ничтожность, – всё для тебя,
Я, молчание, – твой Аминь.
Назад: О. Иаков Коннер. ТОМАС МЕРТОН – СОСТРАДАТЕЛЬНЫЙ МОНАХ И ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ЧЕЛОВЕК[31]
Дальше: Фото А. Кириленкова. Ноябрь, 2006 г.

