Глава 13
— Джек, — сказала Молли, входя в тесную комнату брата, — оставь ты свой микроскоп хоть на полчаса, у тебя вид совсем измученный.
Джек отвел покрасневшие глаза от препаратов. Он еще не отрывался от них с тех пор, как вернулся из больницы. Субботними вечерами всегда столько времени и сил отнимал прием приходящих больных в переполненной амбулатории; а сегодня от сырого ноябрьского тумана, от удушливых запахов светильного газа, человеческого тела и несвежего белья Джек, при всей своей выносливости, чувствовал себя усталым до тошноты.
— Не вздумай приниматься за срезы, пока не пообедаешь, — сказала Молли. — И не сделаешь как следует, и голова разболится.
— Да я ничего, просто с амбулаторными больными трудно столковаться. Погода мерзкая, да еще они говорят все сразу. Бедняги шлепают по грязи как ломовые лошади, и, конечно, все издерганные и злые. Я тоже пришел весь в грязи с головы до пят.
Молли обвила рукой его шею. Они прожили под одной крышей почти четыре года и привыкли понимать друг друга с полуслова, как умеют только близкие друзья. Никто, кроме Молли, не догадался бы по тому, как сжались губы Джека, что он не только устал, но и подавлен.
— Плохие новости? — тихонько спросила она, прильнув щекой к его волосам.
— Да нет, ничего. Очень глупо вешать нос, когда я получил наконец хорошую должность, да еще так повезло с конгрессом врачей!
— Наверно, в этом все дело. Когда мы жили впроголодь, меня вовсе так не волновали еженедельные счета, как теперь, когда у меня есть на хозяйство целых три фунта в неделю.
— Зря ты волнуешься, старушка. Через месяц мы расплатимся с последними долгами. Ты же знаешь, все трудное позади, и даже моя частная практика начинает процветать.
Молли засмеялась и поцеловала его.
— Поэтому ты и захандрил? Мы с тобой презренные обманщики, наше мужество годится только на тяжелые времена, а едва нам улыбнется удача, оно сразу улетучивается.
— Ты права, — серьезно сказал Джек. — Грош мне цена. Два года назад, когда малыш был болен, а в доме хоть шаром покати, я бы не стал расстраиваться из-за тумана и прочих мелочей. Я избаловался, Молли, и это ты виновата. Нельзя так со мной нянчиться, а то я стану жирным и капризным брюзгой, — знаешь, как богатые старухи, у которых только и дела, что выдумывать себе всякие болезни.
— Нет уж, тогда я напущу на тебя Джонни. Он живо найдет тебе занятие.
— Да, но у меня сейчас и так работы по горло, а я тут бью баклуши. Для чего же меня приглашают на конгресс показывать мои препараты, если мне и показывать еще нечего. К пятнадцатому все надо приготовить и отослать в Эдинбург.
— Погоди-ка, — сказала Молли, все еще обнимая его за шею, — ты так и не сказал, что это у тебя за «прочие мелочи»? Твои больные?
— Да, больные тоже. И еще Тео.
— Ты утром получил письмо?
Она говорила ровным, спокойным голосом, склонясь над Джеком, так что глаз ее он не видел.
— Да, он меня очень заботит. Он сочиняет сюиту для струнного оркестра на темы польских народных танцев и пишет, что звуки обретают форму и цвет и все ночи напролет кружатся у его постели. И почерк у него опять нетвердый, а ты ведь знаешь, что это означает.
Большими печальными глазами Молли смотрела куда-то поверх головы Джека. Он вздохнул и продолжал устало:
— На этот раз он не пишет, кто она, но ясно, что влюблен. Как видно, без этого он просто не может творить. Не понимаю, как можно быть таким непостоянным.
Минуту они молчали, потом Молли мягко сказала:
— Что поделаешь, радуга тоже не отличается постоянством, но она чиста и прекрасна. Художник — большое дитя, он не замечает грязи, и она к нему не пристает.
— Тем хуже, — угрюмо перебил Джек. — Если бы он заводил пошлые интрижки со светскими кокетками, как другие преуспевающие музыканты…
— Тогда он не написал бы «Симфонию крокусов».
— Это верно, его музыка тоже стала бы пошлой. Зато никто бы не страдал. А так… Молли, мне больно за женщин, которые его любили. Вот хоть та девочка — австрийская принцесса, — помнишь, в тот год, когда родился Джонни? Я долго с ней разговаривал. Бедняжка всерьез верила, что Тео полюбил ее на всю жизнь, а еще хуже, что он и сам в это верил. Наверно, она оправилась от удара и вышла за того, кого выбрал для нее отец, но ты думаешь, все это для нее прошло бесследно? Он разбил ее юность, а потом нашел себе другую игрушку.
— Так сделал бы и Джонни, если бы дать ему в руки хрустальную вазу. Это право младенцев и богов, и всех беззащитных и избранных: они берут нашу радость и разбивают ее вдребезги, а мы потом утешаемся осколками.
Брат круто обернулся и обнял ее. Несколько минут оба молчали.
— С тех пор как родился малыш, ты стала добрее и снисходительней, Молли. Иногда ты напоминаешь мне маму.
— Мать Тео?
— Да. И богоматерь. Мама всегда напоминала мне мадонну, как ее понимают католики: мать всех людей.
— А так как я мать Джонни… могу ли я быть к кому-то недоброй, Джек, когда у меня такой ребенок?
Она подсела к огню и придвинула корзину с одеждой, ждавшей починки. Джек, насвистывая, склонился над микроскопом, а Молли озабоченно принялась штопать чулок; обоим больше не хотелось разговаривать.
— Мамочка! — жалобно позвал из другой комнаты детский голосок. — Мой дом сломался!
Молли встала и распахнула створки двери. Кубики рассыпались по ковру, а среди развалин сидел Джонни — глаза круглые, несчастные, вот-вот заплачет. Мать подхватила его на руки и понесла к Джеку.
— Ничего, сынок, завтра построим другой. Поиграй пока здесь, скоро будешь пить чай. Только смотри не толкни стол, Джек работает.
Джонни вывернулся у нее из рук и подбежал к столу, голубые, полные любопытства глаза его так и сияли. У него было ангельское личико и повадки заправского деспота.
— Дядя, дай посмотреть! — сказал он, протягивая пухлую лапку к микроскопу. — Дядя!
Это слово было новинкой в его словаре, и он им гордился. Горничная Сьюзен только что ему растолковала, что маленьким мальчикам не полагается называть дядю просто по имени.
Джек быстро поднял левую руку и впился в нее зубами. Но тотчас вспомнил, что даже боги не чужды милосердия и что детство его миновало.
— Дай посмотреть! — властно повторил Джонни. Он не привык ждать.
— Не мешай Джеку, милый, — сказала сыну Молли. — Он занят.
— Он мне вовсе не мешает, пусть побудет со мной. Джек наклонился и посадил ребенка к себе на колени.
— Что ты хочешь посмотреть, приятель? Сегодня смотреть-то не на что.
— Пускай зверюшки скачут.
— Какие зверюшки?
— Это он про инфузории, — пояснила Молли. — В прошлый раз ты ему показывал каплю воды.
— Вот оно что. Нет, зайчонок, сегодня у меня нет воды из пруда, а в воде из-под крана зверюшкам скакать не разрешается.
— Почему?
— Чтоб они не вскочили тебе в рот, а то у тебя заболит горло. Ну-ка, влезай на свой стул и садись рядом, да смотри не толкни меня под руку. А, чтоб его, этот винт!
Джек ниже пригнулся к микроскопу и, хмурясь, стал его подкручивать. Глава семьи смотрел на него критически.
— Неправильно вертишь, — строго сказал он.
— Вот это верно, сынок. Но мне очень трудно вертеть правильно, когда ты головой заслоняешь свет.
— Кажется, Сьюзен идет, — заметила Молли. — И, по-моему, к чаю у нас сегодня горячие булочки. Давай-ка поскорее вымоем наши грязные лапы.
Она отворила дверь, и Джонни, сияя в предвкушении булочек, побежал к Сьюзен. Через минуту из кухни донесся восторженный визг.
— Молли, — сказал Джек, ниже склоняясь над микроскопом, — прошу тебя, не позволяй ему называть меня дядей.
* * *
Эпидемия дифтерии, охватившая юг Англии, достигла Корнуэлла. В Порткэррике и окрестных деревушках дети мерли как мухи. Осень была ненастная, море неспокойно, трудное время для рыбаков. Много жизней унесли бури; а скудный улов, который было нелегко свезти на рынок по раскисшим дорогам и исхлестанной ветром равнине, приносил гроши — слишком жалкую награду за все труды и опасности. С тех пор, как начались сентябрьские штормы, нищета, горе и усталость тяжким грузом давили беззащитные рыбачьи деревушки, теперь, на рождество, нагрянула еще и болезнь.
Если бы не викарий Реймонд, жителям Порткэррика пришлось бы совсем плохо. Доктор Дженкинс — уже немолодой, усталый, обремененный заботами о многочисленном семействе при весьма скромных доходах, — выбивался из сил; но хоть и отзывчивый и добросовестный, он не мог бы устоять под натиском бедствия, охватившего всю округу, если бы не поддержка человека более стойкого и выносливого. Не кто иной, как викарий, находил добровольных помощников, и собирал пожертвования, и шагал по набухшему водою, точно губка, вереску от одного домишки к другому, навещая больных и обездоленных, вникая в каждое несчастье, подыскивая временное прибежище для братьев и сестер заболевшего ребенка, чтобы уберечь их от заразы. В эти черные дни он был на ногах с раннего утра и до глубокой ночи; он совсем поседел и двигался уже не так быстро, как в ту пору, когда под его кровом жил Джек, но в остальном почти не изменился, держался по-прежнему прямо и был все так же непреклонен.
И миссис Реймонд оставалась все той же преданной женой. Слишком слабая, грузная, страдающая астмой, она уже не могла ходить по камням и болотам, как ее супруг, а мужества ей не хватало не только для других, но и для себя; она не смела бросить вызов богам и не пыталась утешить мать, потерявшую ребенка; но то немногое, что могла отдать эта нищая духом, она отдавала покорно, не жалуясь. Она уже в который раз перелицевала свое старое черное шелковое платье, чтобы оно послужило еще год, и робко вложила в руку викария деньги, которые откладывала на покупку нового платья: «Это на уголь и одеяла, Джозайя». По утрам она стряпала супы и кисели для больных, днем вязала для них и шила, но раздавать эти дары приходилось самому викарию. В старости, как и в молодые годы, она укрывалась за спиною своего повелителя и на каждом шагу испрашивала его одобрения, — кроткая Гризельда, состарившаяся в покорности, — и в глубине ее глаз все еще таился вечный страх.
Дождь, надрывавший душу, наконец перестал, и однажды утром»- накрывая стол к завтраку в безукоризненно опрятной унылой комнате, миссис Реймонд почти с удивлением увидела на скатерти солнечный зайчик.
Прежде всего она возблагодарила бога за то, что он не остался глух к молитвам: если дожди наконец прекратятся, может быть, и болезнь пойдет на убыль. А потом привычно, как делала всю жизнь, расстелила на полу газеты, чтобы от солнца не выгорел ковер.
К обеду викарий привел санитарного инспектора из Труро; они наскоро перекусили, им надо было еще присутствовать на заседании комитета, а затем проверить, все ли дома содержатся в должной чистоте.
— Должно быть, я вернусь поздно, — сказал викарий жене. — После обхода мне надо пройти в Зеннор Кросс, там опять умер больной.
— Поберегите свои силы, — заметил гость. — Что будет с Порткэрриком, если вы не выдержите?
— Надеюсь, что не выдержит дифтерия, — храбро ответил викарий, — мы очень скоро с ней покончим, если милосердный господь ниспошлет нам хорошую погоду.
Инспектор одобрительно кивнул. Он и сам работал не покладая рук и любил добросовестных тружеников — неутомимость викария приводила его в восторг.
— Замечательный старик! — сказал он однажды доктору Дженкинсу. — С виду сухарь сухарем, но какая энергия!
И теперь он с неподдельным восхищением смотрел на это высохшее суровое лицо.
— Кстати, о дифтерии, — заговорил он. — Вы, случаем, не в родстве с доктором Реймондом из Блумсбери? Он в последнее время проводит опыты с возбудителями дифтерии, на днях я читал об этом в «Ланцете»; он должен выступить с докладом на конгрессе в Эдинбурге. Похоже, что его теория привлекает общее внимание.
Если бы инспектор обернулся к хозяйке дома и увидел ее испуганные глаза, он, конечно, замолчал бы; но он смотрел на викария, а в этом сером, без кровинки лице не дрогнул ни один мускул.
— Да, он нам родственник.
— Вот как? Поистине тесен наш мир! Прошлым летом я целую неделю жил в одном пансионе с доктором Реймондом; я отдыхал на южном побережье, а он приехал туда с сестрой — молодая женщина, вдова, если не ошибаюсь, и у нее ребенок, очаровательный мальчуган!
Тут только он заметил, как неестественно вытянулись и застыли лица хозяев, и умолк.
— Он нам родственник, — повторил викарий, — но мы незнакомы.
После этого разговор уже не клеился, и через несколько минут гость взглянул на часы.
— Кажется, нам пора.
В саду викарий вдруг остановился.
— Прошу извинить, — сказал он инспектору, — я забыл кое-что передать жене. Я вас догоню.
И он вернулся в дом. Жена стояла на том же месте, где они ее оставили, не шевелясь, не поднимая глаз.
— Сара, — начал он и замялся на пороге.
Миссис Реймонд вздрогнула, потом овладела собой и подошла к мужу.
— Ты что-нибудь забыл?
Он ответил не сразу, глядя в сторону:
— Я так мало бываю дома. Может быть, тебе тоскливо одной?
— Нет, Джозайя. Я привыкла к одиночеству.
— Да, верно. — Он опять помолчал. — А ты не хочешь… Тебя иногда могла бы навещать меньшая дочка доктора Дженкинса. Она славная, спокойная девочка, а ты всегда так любила детей…
Слова замерли у него на губах: жена отшатнулась, протянула руки, словно защищаясь, в ее расширенных глазах был ужас.
— Нет, нет, Джозайя! Не приводи сюда детей! Лицо викария окаменело.
— Сара, что ты хочешь сказать?
Минуту они молча смотрели друг на друга. У викария было больше твердости. Жена опустила глаза, старческие руки теребили юбку.
— Я… силы у меня уже не прежние… а от детей столько шуму…
Викарий и бровью не повел.
— Как тебе угодно, — сказал они вышел.
Она видела в окно, как он шел по лужайке — черное, мрачное пятно, режущее глаз в этот солнечный день; прямой, седовласый, священнослужитель с головы до пят, ни годы, ни позор так его и не согнули. Миссис Реймонд подсела к своему опрятному рабочему столику и принялась штопать ему носки.
Пробили церковные часы; подняв глаза, миссис Реймонд увидела, как распахнулись двери школы, и из них, смеясь, болтая, размахивая школьными сумками, гурьбой выбежали девочки. Она отложила работу.
— Что-то глаза у меня стали сдавать, — сказала она вслух, как будто в пустой комнате ее мог слышать кто-то, перед кем, как всегда, надо притворяться и соблюдать приличия. — От шитья побаливают. — И торопливо провела по глазам рукой.
Потом она встала, бережно, чтобы не помять, отодвинула белоснежную накрахмаленную занавеску и выглянула из окна. Дети бежали по лужайке; некоторые пробегали мимо, не взглянув на нее; другие, подняв голову, окидывали ее, старую, жалкую, одиноко стоявшую у окна, тем взглядом, каким она когда-то смотрела на Меченую.
Она съежилась, как съеживалась Меченая, когда кто-нибудь проходил по двору, и снова задернула занавеску. Но между сборчатым краем занавески и ставнем оставалась щель, и миссис Реймонд продолжала украдкой смотреть на детей. Все это были чужие дети, с холодными, неласковыми глазами; но у иных были нежные атласные щеки, кое-где обрызганные веснушками; и все они были проворные, быстроногие, и все голоса звенели смехом, а у одной девочки (но когда она проходила мимо, миссис Реймонд отвернулась) были густые золотисто-каштановые кудри, которые искрятся на солнце, когда какая-то другая женщина расчесывает их, и отводит со лба, и перевязывает лентой.
* * *
Джонни опасно болен. Дифтерия. Плачет, зовет тебя.
Снова и снова Джек повторял про себя эти слова. Их выстукивали колеса поезда; в дребезжанье оконных стекол, в дыхании спящих соседей по вагону, в тяжких ударах чего-то, что больно стучало то ли в груди у него, то ли в мозгу, зачем-то опять и опять повторялись эти слова. Иногда этот неотступный припев на мгновение обрывался, и тогда Джек слышал другие слова, еле различимые из-за тех, первых, но не смолкавшие ни на миг:
Опоздаешь, опоздаешь, опоздаешь…
Среди окутанных сумраком полей промелькнуло в окне вагона неясное пятно — несколько прокопченных улиц, — это, конечно, Сент-Олбэнс. Теперь уже скоро. Но целая вечность прошла с тех пор, как за завтраком в Эдинбурге его застигла телеграмма Молли и он кинулся на вокзал, торопясь к первому поезду на Лондон. С тех пор могло случиться все что угодно. И зачем только он поехал на этот конгресс, зачем!
Джек поднял шторку и выглянул. Уже смеркалось, но зимой темнеет так рано… Кое-где на равнине чуть поблескивали островки снега.
До этого дня Джек и сам не понимал, что значит для него Джонни. В сущности, у него никогда не оставалось времени задуматься о своих привязанностях, он всегда был слишком занят: тут и больница, и микроскоп, и студенты, которых он брался готовить к экзаменам, чтоб свести концы с концами. Когда надо прокормить три рта и еще отложить хоть что-нибудь на ученье Джонни, не приходится брезговать случаем заработать несколько фунтов лишних. А если и выдавалось свободное время, Джек валился с ног от усталости, либо тревожился за своих больных, либо мчался в скором поезде через всю Европу на отчаянный призыв Тео…
Бедный Тео! Постоянные его трагедии с герцогинями и графинями почему-то всегда разыгрывались в самое неподходящее время, и всякий раз он так бурно их переживал. Всего лишь год назад он вместе с молоденькой и хорошенькой непонятой женой некоего лысого посланника пытался покончить с собой, закрыв раньше времени каминную трубу. Его прощальная телеграмма застала Джека в постели, больного инфлюэнцей, но он кое-как поднялся и все-таки поспел на почтовый поезд до Брюсселя. (Природа была очень любезна, когда наградила его лошадиной выносливостью.) Он приехал как раз вовремя: успел распахнуть окна, не пустил на порог репортеров, поддержал обоих взрослых младенцев сначала лекарствами, а затем и утешениями и отеческими советами. А теперь они оба, наверно, и думать забыли друг о друге.
Опоздаешь. Опоздаешь…
Не жестоко ли, что это именно дифтерия — та самая болезнь, на которую за последние три года он положил столько сил и трудов, которую втайне надеялся одолеть. Он уже почти уверен, что напал на верный след и до открытия совсем недалеко; но какой толк в открытиях, если они не спасут ребенка, который тебе всего дороже. Какой толк в том, что дается слишком поздно?
Джек снова опустил шторку и, закрыв глаза, откинулся в своем углу. Он еще из Эдинбурга выехал усталый, а сейчас в голове точно паровой молот стучал. Надо хоть несколько минут посидеть спокойно и не вслушиваться в назойливый стук колес.
Опять лестница… дядя толкнул дверь, она заскрипела… каморка под крышей, скошенный потолок… две балки… Джек вздрогнул и открыл глаза. Опять он очутился в детстве, в Порткэррике, в комнате пыток. А ведь уже несколько лет его не мучил этот сон — тот самый, что преследовал его после смерти Елены. Он провел рукой по лбу — ладонь стала влажная.
Какая нелепость. Когда у тебя впереди столько дела, нельзя распускаться и дрожать от страха, словно Тео. Только бы ребенок выжил…
— Ваши билеты!
Дверь распахнулась, и Джек резко выпрямился; так вот оно что, кажется, во сне он пытался сторговаться с каким-то неведомым богом — обещал забыть Порткэррик, навсегда стереть из памяти каморку на чердаке, лишь бы малыш остался жив.
Сестра встретила его на площадке лестницы, которая завешена была простыней, смоченной в дезинфицирующем растворе. Лицо какое-то отрешенное, словно ее неожиданно разбудили, и она еще не очнулась от сна.
— Молли, — начал Джек и осекся, потом повторил шепотом: — Молли?..
Она прислонилась лбом к его плечу.
— Ты опоздал.
* * *
Они вошли в комнату. Здесь было уже прибрано; затемненная абажуром лампа горела подле кроватки, в которой лежал Джонни, точно большая восковая кукла с рассыпавшимися по подушке золотыми кудрями. В правую руку ему вложили букетик подснежников. Джек опустился на колени у кроватки и надолго застыл в молчании. Наконец он поднял голову и поцеловал холодные ручонки мальчика. Поднимаясь с колен, он задел рукавом абажур и сдвинул его. Полоса яркого света упала на кроватку, и в этом свете отчетливо выступил профиль мертвого ребенка. То был профиль Елены.
Джек замер. Тянулись нескончаемые минуты, а он все стоял и смотрел. Что-то в нем иссохло и обратилось в прах. В жизни совершаешь столько ошибок, а когда они откроются, понимаешь, что это совсем не так важно, да и ничто на свете не важно.
Что-то шевельнулось по другую сторону кроватки. Молли. Джек поднял глаза, и их взгляды встретились. Она протянула руки, словно он ее ударил.
— Не надо так, это жестоко! Он хотел тебе сказать. Он не виноват, виновата я!
— Виноват я, — устало сказал Джек. — Я мог бы понять.
Он отошел к давно угасшему камину, прислонился к нему и вперил невидящий взгляд в холодную золу. Молли подошла к нему.
— Я не могла тебе сказать, родной, ты бы его возненавидел. Никто на свете не любит его по-настоящему, только ты и я, а меня он забыл. Если ты от него отвернешься…
Ояа не договорила. Джек будто закаменел, лицо его оставалось все таким же суровым. Сестра обвила рукой его шею, как делала когда-то Елена.
— Не забудь, он не такой, как все. Если он и причиняет нам боль, несправедливо его осуждать: он как ангел или жаворонок, он просто не понимает, что значит быть перед кем-то в ответе. Не его вина, что он гений. Я родила ему ребенка, но ведь и он подарил мне свое дитя, свою первую симфонию. И если даже он в чем-то виноват, я давно простила. Должен же кто-то платить за его музыку.
Джек безнадежно покачал головой.
— Ты не понимаешь. Я думал не о тебе. Пока я жив, ты не одинока; и в конце концов ты взрослая и можешь не хуже других постоять за себя, насколько это возможно в нашем мире. Но мало ли что бывает — а если бы мы с тобой умерли, а ребенок остался… и попал бы в руки дяди… Неужели он ни разу об этом не подумал?
Молли прижалась щекой к его щеке.
— Родной, это зло и несправедливо и не похоже на тебя, ведь ты всегда был справедлив. Джонни это не грозило. Уж, наверно, либо ты, либо я сумели бы спасти его от такой участи, хотя бы каплей хлороформа. Во всяком случае, судьба милостива: что бы там ни было с нами, а Джонни она пощадила. Джек, ты не имеешь права его возненавидеть, перед ребенком он не виноват. Он никому не сделал зла, только мне, а я никогда не жаловалась.
Джек вздохнул.
— Не бойся, — сказал он. — Ничто не изменится, ничто не может измениться. Он сын Елены, у него есть права на меня. Я должен снести и это.
Он круто обернулся: в дверь с улицы постучали.
— Кажется, телеграмма. Наверно, из Эдинбурга, сегодня вечером мне надо было там демонстрировать кое-какие препараты. Это мне, Сьюзен? Нет, ответа не будет.
Он затворил дверь, и в комнате стало тихо.
— Из Эдинбурга? — спросила Молли и оглянулась. Джек стоял у стола, не выпуская из рук телеграммы. Услыхав ее вопрос, он обернулся, и у Молли сжалось сердце. Странное у него было лицо, едва уловимая горькая тень улыбки на мгновение тронула губы.
— Нет, — сказал он, — видно, опять что-то неладное какой-нибудь герцогиней.
Он протянул сестре телеграмму. Она была из Парижа:
Случилось ужасное несчастье. Жду тебя. Тео.
Молли молча отложила телеграмму и вернулась к мертвому ребенку.
Джек провел рукой по глазам. Неясная тень давнего детского горя мелькнула перед ним и скрылась, полузабытый образ птицы, улетающей из отворенной клетки. Он подошел к кроватке.
— Молли, сколько у нас в доме денег?
— Три соверена и немного мелочи. Джек посмотрел на часы.
— Я возьму их с собой, а тебе оставлю чек. Где у нас карболка? Я продезинфицируюсь, а ты скажи Сьюзен, пусть позовет извозчика. Я только-только успею, поезд отходит с Черинг-Кросс в девять.
Минуту он молча смотрел на восковое личико Джонни; потом наклонился и закрыл его простыней.
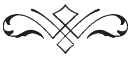
Назад: Глава 12
Дальше: ОЛИВИЯ ЛЭТАМ (роман)

