Глава седьмая. Семен Лагинский
Волны русской революции расходятся по миру.
Ходят волны по Европе, смешивая нации и языки, делая врагами братьев и братьями врагов, которые еще недавно стреляли друг в друга из окопов мировой войны.
Колесит по Европе Семен Лагинский. Одна у него мысль, одно желание, одна заветная цель — забыть о России. Ведь живут же, не печалясь, вдали от родины итальянцы, немцы, турки, неужели он, молодой и сильный человек, не может заставить себя уподобиться им, начать жизнь, заново, неужели нет на свете силы, которая помогла бы ему вычеркнуть из памяти все, что берет за сердце в одинокие тоскливые ночи? Что за власть такая у России над человеком? Почему он не чувствовал, не ценил всего этого там, на родине?.. Лучше не иметь, чем иметь и потерять. Он верил, что ненадолго расстается с Россией. Что люди с мозолистыми руками, которые захватили власть, не продержатся, что им не дано справиться с великой и могучей страной, никогда ничьей не терпевшей узды. Они показали, что могут разрушать… Что смогут они воздвигнуть на разрушенном месте? В стране, которой в пору пускаться по миру с протянутой рукой.
России по миру… Господи, благослови отчизну мою и не дай погибнуть ей, укрепи, бог милосердный, всемогущий и справедливый, волю мою, помоги забыть, помоги забыть Россию… И помоги вернуться в нее!
Лагинский не обзаводился ни семьей, ни домом. Ждал.
Власть рабочих и крестьян держалась неведомым образом. Где и у кого они могли научиться строить, организовывать, править? Он читал о заводах, электростанциях и школах, читал заметки, набранные самым мелким шрифтом на задворках газет, и верил и не верил.
Перед глазами стояло его имение. Имение с большим садом, которое начал создавать дед и которое сделал образцовым отец Семена Лагинского, биолог и почвовед Афанасий Петрович Лагинский, имение, которым восхищались немцы, приезжавшие на всероссийскую выставку незадолго до войны, — это имение было разграблено, уничтожено и разнесено за несколько дней. А отец убит. Семен Лагинский не знал в точности, кто это сделал: анархисты ли, красные ли или банда атамана Чернова, хозяйничавшая в этих краях до прихода красных… Да не в этом было дело: он знал одно — пока не было революции, его имение стояло, росло, помогало ему жить безбедно и учиться живописи в Петербурге у известного баталиста.
Разнесенное имение казалось ему символом России.
Он знал, что в начале двадцатых годов большевистская Россия была одной из самых бедных стран в мире. Он знал о голоде в Поволжье, об эпидемиях, уносивших целые селения, и спрашивал себя: «Доколе? За что такое испытание России?»
Не дано было знать жившему далеко Семену Лагинскому о великом союзнике, которого имели большевики, о надежном союзнике по имени время.
Пока единственное, что имели на своей стороне большевики, было будущее.
Если бы было дано постичь это Лагинскому! Постичь Бунину, Шаляпину, Алехину… не потеряла бы их Россия в тяжелую и светлую пору многовековой истории своей.
Первые полтора года Лагинский жил собственными сбережениями и теми ссудами, которые выделяли офицерам бывшей русской армии верные союзническим обязательствам Англия и Франция. Рана в животе время от времени напоминала о себе, за тяжелую работу браться не решался. Снимал комнату на шестом этаже, недалеко от Святой капеллы, где по преданию в стародавние времена хранился терновый венец Христа, купленный за баснословную сумму Людовиком Святым у византийского императора. Однажды, в предутренний час, снедаемый бессонницей, он подошел к окну покурить и вдруг увидел купол, позолоченный солнцем, а внизу у забора бедно одетого пожилого человека, молившегося на коленях.
Солнце всходило, свет и тени образовывали на узорчатых стенах капеллы сочетания, напоминавшие давно забытый рисунок к детской сказке. Ему вдруг захотелось написать все это и передать в картине то, что испытал он так неожиданно в этот ранний час… Не было бы теней, свет не казался бы таким ярким… Не было бы несчастий, боли, горя, испытаний — кто знал бы, что такое радость и счастье! И если судьба улыбнется вдруг тому одинокому и, судя по всему, несчастному мужчине, не сможет ли он оценить счастье больше и глубже, чем тот, кто не знал горя?
И сам он, Лагинский, испытавший потерю, какая только может быть у человека, потерю родины, не должен ли он верить и думать, что придет час, когда возместятся ему все горькие думы в часы одиночества, все несчастья, которые испытал он в чужой, гостеприимной и дружелюбной, но все же чужой стране? Не должен ли он сам что-то сделать? Не должен ли хотя бы попытаться понять тех, кто совершил переворот в самой большой стране мира, не должен ли попытаться трезво посмотреть на вещи?
Около трех месяцев он писал капеллу. К нему возвращалось рабочее настроение, он снова чувствовал себя способным заняться делом. Не столько сама картина, сколько эта возвращавшаяся способность сделала его счастливым, а когда картина была готова, он равнодушно выслушал комплименты знакомых и малознакомых ценителей искусства и продал ее не торгуясь владельцу книжного магазина на Монмартре.
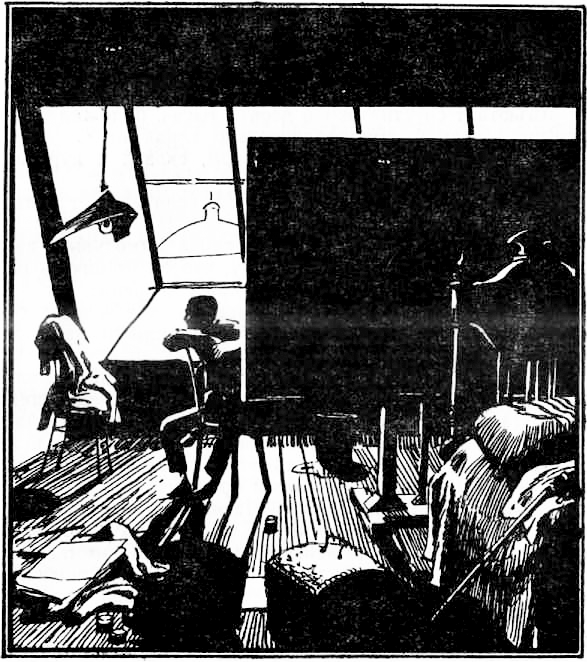
Когда картина была готова, он равнодушно выслушал комплименты знакомых и малознакомых ценителей искусства и продал ее не торгуясь владельцу книжного магазина на Монмартре.
Планшет Давида Девдариани с письмом к сыну лежал на самом дне походного офицерского сундучка. Время от времени Лагинский разворачивал письмо, перечитывал его и переносился в давно минувшие дни. Автор казался Лагинскому непонятным, загадочным человеком. В самом деле, какую правду искал он в революции, почему пошел против своего класса, что разглядел он в революции такого, ради чего жертвовал жизнью?
Лагинский не знал пока, как поступит с письмом; то, что на конверте были слова: «Открыть 21 октября 1930 года», давало ему возможность не торопиться с принятием решения.
Недалеко от Оперы, там, где улица Четвертого сентября смыкается с Бульваром капуцинов, был в двадцатые годы маленький уютный ресторанчик «Гусиная лапка». Содержал его старый и добродушный вояка, помнивший бесчисленное множество разных фронтовых историй и рассказывавший о них с легкой иронией человека, который хорошо знает, что скрывается иногда за героическими сводками с переднего края. Но о своей медали, завоеванной в какой-то неожиданной стычке с немецким патрулем, повествовал не без гордости; эту историю знали едва не наизусть завсегдатаи «Гусиной лапки». Старику прощали небольшую слабость и охотно приходили к нему, ибо никто в этом уголке Парижа не мог лучше готовить жареного гуся с яблоками и соусом, манящим своим запахом самых далеких прохожих.
Старик с одинаковым достоинством носил медаль, бакенбарды и фамилию Бизе, прославленную на веки веков его далеким родственником Жоржем Бизе. Морис Бизе, дабы подчеркнуть кровную связь с автором «Кармен», повесил у входа метровый цыганский бубен, на котором был изображен белоснежный гусь, высоко задиравший лапку и гордо взиравший на мир.
Как и многие другие небольшие парижские ресторанчики, «Гусиную лапку» содержала и обслуживала одна семья: сам Морис, его деловитая, приветливая и вечно занятая жена и их дочь — говорливая полногрудая двадцатилетняя Софи.
Занимал ресторан три просторные комнаты в полуподвале старого толстостенного кирпичного дома; в той, что была поменьше, стояли два бильярдных стола — один для пирамиды, другой — без луз — для карамболя. Сюда охотно заглядывали игроки со своими мелками в кармане — профессионалы высшего качества, — и их сражения затягивались, случалось, до утра.
Любил заходить в «Гусиную лапку» и Лагинский. Когда-то в имении его отца стоял бильярд, выписанный из Берлина; Семен считался хорошим игроком и не раз в офицерском собрании принимал вызовы самых азартных мастеров. В дни, когда сбережения стали подходить к концу, старое искусство начало приносить ему небольшой, но весьма сносный доход.
Однажды в бильярдной провел вечер отчаянно ухаживавший за Софи адъютант генерала Аксенова — дерганый-передерганый Зураб Чхенкели, человек, которому в разное время суток можно было дать и двадцать пять, и сорок лет. Лагинский знал его по русскому землячеству. Рассказывали, что год назад он выиграл в Ницце в рулетку двести тысяч франков, ставя всю ночь только на две цифры: 19 и 21. После этого он надолго запил и теперь только-только «возвращался в норму».
Чхенкели играл с Лагинским в пирамиду, проигрывал, горячился, много говорил и все увеличивал и увеличивал ставки. Лагинский молча и хладнокровно принимал предложения, хорошо понимая, что может давать партнеру по меньшей мере десять очков.
Адъютант спустил около десяти тысяч, положил проигрыш в лузу и, многозначительно глядя на Софи, с интересом следившую за поединком, сказал с дурным французским прононсом:
— Я все время думал о том, что если повезет в игре, то не повезет в любви.
Софи, однако, пропустила эти слова мимо ушей, давая понять щеголеватому офицеру, что он ее ничуть не интересует, а Лагинскому улыбнулась искренне.
Этот немногословный и уверенный в себе человек со светлыми волнистыми волосами, зачесанными на пробор, показался Софи симпатичным.
Больше она ничего не знала о Лагинском, да, кажется, и не испытывала желания знать. На следующий день Лагинский принес ей в подарок маленький флакон духов, Софи поцеловала его и сразу же закрыла щеки ладонями, виновато заглядывая в лицо Лагинскому, как бы раскаиваясь в невольном проявлении чувств.
Софи ответила на любовь Лагинского гораздо быстрее, чем он мог предполагать, сделав это с истинно французской непосредственностью и ясным умом.
Лагинский проводил дни в бильярдной, а ночи в спальне Софи; хозяин и его жена делали вид, что ничего не замечают. Всю первую неделю Софи клялась в вечной любви, в перерывах говорила о том, что давно мечтала выйти замуж за иностранца и поехать в свадебное путешествие на Мадагаскар, где живет ее закадычная подруга, бежавшая с одним чернокожим князем. Лагинский сумел выяснить также, что его приятельница любит цирк и не очень любит книги. К исходу первого месяца они не знали, о чем говорить друг с другом.
Лагинский не писал, не работал, новая профессия бильярдиста требовала не только меткого глаза, но и известной изворотливости. Лагинский все хуже и хуже думал о себе, не зная, долго ли будет продолжаться такая жизнь и сможет ли он изменить ее.
Их пылкая любовь довольно быстро остыла. Софи ни разу не заговаривала с ним о женитьбе, а он не знал, как оборвать этот тяготивший его все более роман. Его сбережения давным-давно кончились; Софи время от времени ссужала его деньгами. Делала она это тактично, и все же, выходя иногда по ночам на пляс Пигаль и встречая на углах щеголеватых мужчин с тонкими усиками и помятыми физиономиями, Лагинский спрашивал себя: намного ли он лучше их?
Лишь в 1924 году он почувствовал вдруг какой-то интерес к жизни. По просьбе Мориса Бизе Лагинский сделал эскиз новой витрины ресторана, вписав цыганский бубен в одно из пяти переплетенных олимпийских колец: в Париже начиналась Олимпиада.
В дни игр этот скромный ресторан благодаря случаю приобрел особую популярность. Здесь обедали всей командой жившие неподалеку, на улочке святого Августина, футболисты Уругвая. Сперва никто не придавал этому значения, но после того, как уругвайцы выиграли несколько игр, их тренер заявил полушутливо в одном интервью, что секрет успехов команды в покрытых лаком гусиных лапках с цепочкой, которые вручил им в виде талисмана потомок знаменитого композитора. На следующий день Морису Бизе пришлось нанимать трех официантов и посудомойку.
Когда же уругвайцы побили в финале Швейцарию, они устроили в «Гусиной лапке» банкет, пригласив сюда своих наиболее верных почитателей, Среди приглашенных оказался Зураб Чхенкели. Он был запанибрата с монументальным и широкоскулым футболистом. Увидев Лагинского, Чхенкели пригласил его разделить компанию:
— Знакомьтесь, слава и гордость уругвайского футбола, защитник Насадзи. Я ему говорю, что он грузин, а он говорит мне, что он баск. Вы случайно не говорите по-испански, нет? Очень жаль. Что мне с ним делать? Откуда у него такая фамилия? У меня живет в Тифлисе один родственник, артиллерийский полковник Вахтанг Насадзе. Ну спроси его, пожалуйста, откуда у него такая фамилия?
— Одну минуту, — сказал Лагинский, сразу вспомнив письмо, лежавшее на дне его офицерского сундука, — я постараюсь объясниться с тренером, кажется, он говорит по-немецки.
Ему пришлось довольно долго ждать, пока тренер, ошалевший от счастья, поздравлений, тостов, окажется на секунду свободным. Тренер переключался долго и трудно и, наконец, поняв, что от него хотят, подошел к Насадзи и о чем-то спросил его. Потом улыбнулся Лагинскому:
— Он говорит, что родом из Бискайи. У него в селе многие были с такой фамилией. Но он баск… О… это настоящий спортсмен. — И, чокнувшись с Лагинским и Чхенкели, тренер улыбнулся футболисту.
— Послушайте, господин Чхенкели, если это вас интересует… такое вот совпадение имен, я мог бы вам кое-что показать. У меня некоторым образом, совершенно случайно, оказалось письмо одного вашего земляка. Может быть, оно заинтересует вас.
— Все это ер-рр-унда, — пропел уже изрядно захмелевший адъютант.
Через несколько дней за партией с Чхенкели Лагинский как бы между прочим напомнил про случайно попавшее к нему письмо одного красного офицера, грузина, который рассказывает любопытные вещи про басков.
— Как фамилия? — партнер сосредоточенно намеливал кий, готовясь использовать подставку.
— Давид Девдариани… Командовал ротой, а до того в университете учился, в Москве… Мне удалось под видом вестового проникнуть в его отряд. Вот эти часы за то самое дело. Кстати, нет ли среди ваших знакомых любителей такого рода безделиц?.. Кто согласился бы приобрести. За весьма умеренную плату. Как-никак подарок самого Деникина.
Чхенкели неторопливо положил четырнадцатый шар в лузу, вытащил и любовно разглядел его, мельком взглянул на часы и сделал вид, что не расслышал предложения, не достойного офицера — продать именную награду.
— Интересно, не родственник ли это нашего Георгия Девдариани? Весьма возможно, родственник.
— Да, он был Давидом Георгиевичем.
— Почему «был»?
— Его расстреляли.
— А, вот какое дело? А с отцом встречались?
— Нет, я с ним незнаком.
— Принесите мне это письмо, я прочитаю, может быть, и отнесу отцу.
— М-да, — говорил на следующий день Чхенкели. — Старик Девдариани плох. Жену потерял вскоре после переезда. Не знает, что Давид погиб, все мечтает встретиться с ним. Как сказать ему об этом письме, еле ходит человек. А с другой стороны — как не сказать? Можешь дать мне письмо на несколько дней? Я посоветуюсь со своими земляками, вместе решим, как быть…
Возвращая через несколько дней конверт, Чхенкели хмуро пробурчал:
— Лучше все же было бы не показывать, — и больше к разговору о письме не возвращался.
Тоскливыми вечерами, сидя в душной прокуренной бильярдной, часто спрашивал себя Лагинский, долго ли это будет продолжаться, долго ли еще будет он так вот убивать вечера и годы… Он завидовал продавцу газет, мусорщику, почтальону, даже старому одноногому шарманщику с его глупым важным попугаем завидовал: у каждого из них было хоть и маленькое, но свое дело, была семья и ответственность, без которой мужчина перестает быть мужчиной.
У Лагинского не было семьи, не было забот и не было сил порвать со своей опостылевшей, изъедающей душу жизнью и давно опостылевшей любовью.
Однажды зимой, когда у него кончился уголь и из всех щелей дул мерзкий ветер, Лагинский, не побрившись, вышел на улицу, не зная, куда себя деть. Ноги сами понесли его к Бульвару капуцинов. Не найдя Софи в ресторане, он поднялся к ней и застал ее в объятиях Чхенкели. Софи с безразличным видом подошла к зеркалу, давая возможность мужчинам самостоятельно выяснить отношения. Адъютант вскочил, выпятил грудь, как бы говоря, что в любой момент готов принять вызов; Лагинский молча подошел к кровати, вытащил свои шлепанцы, единственное, что принадлежало ему в этом доме, и, пробормотав первое пришедшее на ум: «Желаю приятного времяпрепровождения», направился к двери.
Он заложил в ломбард главные свои ценности — часы и цейсовский бинокль; часы — награду от его превосходительства Деникина пропил за два дня, а деньги за бинокль дал слово растянуть никак не меньше чем на неделю, надеясь за это время найти работу.
Ему повезло: компания «Клебер-Коломб», открывавшая новые междугородные автобусные линии, объявляла набор на шоферские курсы, предоставляя принятым небольшую долгосрочную ссуду. Через пятьдесят дней он вместе с инструктором первый раз повел быстрый и послушный многоместный автобус в горы, в Байонну.
Вообще компания открывала три новых рейса из Парижа: прямо на восток — в Страсбург, на запад — в Сан-Брие и на юго-запад — к границе с Испанией — Байонну. Наиболее удобными водители считали первые два маршрута, и за право попасть на них бросали жребий — две большие игральные кости. Лагинский, когда назвали его имя, взял кости в руки, но не торопился бросать их — подошел к карте, внимательно посмотрел на нее и с удивлением обнаружил, что Байонна — совсем рядом со Страной Басков. Будучи по натуре человеком, верящим в предопределения, он, к немалому удивлению товарищей, сказал, что бросать кости не будет, а возьмет себе Байонну добровольно.
После трех пробных рейсов Лагинскнй освоился с трассой и скоро стал на ней своим человеком.
Он уже хорошо знал многих пассажиров, и многие хорошо знали его. Иногда, чтобы удружить знакомому из Байонны, он доставлял его прямо домой. Лагинского приглашали пообедать или переночевать, он чувствовал, что эти приглашения искренни, и принимал их запросто. Он научился довольно быстро отличать баска от испанца или француза.
Теперь Лагинский все реже виделся с земляками, чтил, как и в былые времена, церковные праздники и только в русском соборе встречался с дряхлеющими генералами, спесивыми адвокатами и промотавшимися помещиками, которых знал уже много лет. Каждый из них (так казалось Лагинскому) старался скрыть полнейшую никчемность и безбудущность свою многозначительной важностью; каждый хотел показать, что значит и стоит гораздо больше, чем об этом думают окружающие…
Весной 1930 года в русском соборе в Париже шла необычная заутреня. С хором пел Шаляпин.
Под сводами, заполняя собор, беря в плен слушателей, звучал голос певца; Лагинский почувствовал легкий озноб; он давно не испытывал ничего похожего, думал, что огрубел и зачерствел, и обрадовался, когда почувствовал этот озноб. Он скосил глаза в сторону, стараясь по лицам догадаться, что испытывают в эту минуту другие, и увидел старого человека с седыми усами, который показался ему знакомым. Все лицо старика состояло из одних впадин и глубоких морщин; он напоминал Лагинскому иллюстрацию к «Боярину Орше» из старого-старого лермонтовского однотомника.
Едва шевеля губами, старик повторял за хором, слегка отставая от него. Показалось Лагинскому, что мыслями тот далеко от этого собора, от этой толпы.
Коль славен наш господь в Сионе
Не может изъяснить язык,
Велик он в небесах, на троне,
В былинках, на земле велик.
Лагинский посмотрел на старика. Тот, словно почувствовал взгляд, неторопливо повернул лицо. Лагинский знал, что с этим лицом, с этими глазами под густыми бровями связано какое-то важное событие в его жизни, он клял себя за то, что не может вспомнить, где, когда и при каких обстоятельствах встречался с этим человеком… и не мог вспомнить, и у него испортилось настроение: стареет… Стареет. А что он сделал в жизни, какую память о себе оставит?
И, словно вторя этим мыслям, издалека долетал до слуха Лагинского голос проповедника:
«Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, ты препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь».
Эти знакомые с детства слова евангелия наполнились вдруг для Лагинского новым смыслом. Он подумал, что не хотел бы кончать счеты с жизнью, как этот человек с густыми бровями и глубокими морщинами на щеках. Раз он пришел в такой день в собор один, значит, у него нет близких, значит, он потерял все, что дано потерять человеку, а что нашел на чужой земле?
«В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь».
«И познаете истину, и истина сделает вас свободными».
Где она, истина? Там ли, где искал ее Лагинский и где искали все эти постепенно уходящие в другой мир люди?
Лагинский снова посмотрел в сторону старика и вдруг увидел, как тот качнулся, неловко упал на колени словно для того, чтобы воздать молитву, не удержался на коленях и тяжело опустился на подкосившиеся руки.
Вскрикнула стоявшая невдалеке женщина, прервал проповедь священник, несколько мужчин бросились к лежавшему, силясь помочь ему. Кто-то подложил под голову пиджак, кто-то поднес ко рту стакан воды. Все смотрели на того, кто пытался нащупать пульс. Он стоял на коленях, приложив палец к губам, будто это могло помочь ему уловить пульс. Потом он встал и, помедлив немного, сказал:
— Все, господа, все. Удар и мгновенная смерть. Счастливая мгновенная смерть.
Кто-то, нервически моргая и неестественно поводя плечами, пробирался сквозь толпу к покойнику. Люди почтительно расступались.
— Это что, сын? — услышал Лагинский.
— Нет, у Георгия Николаевича сын остался в Советах. Это его земляк, адъютант генерала Аксенова Чхенкели. Смотрите, плачет. Эти грузины слишком уж чувствительные и впечатлительные люди.
Лагинский протиснулся ближе к говорившим. Только сейчас понял он, почему казалось ему таким знакомым лицо старика.
— Простите, — тихо спросил он, — это не Георгий Николаевич Девдариани?
— Да, Георгий Николаевич Девдариани, профессор словесности Петербургского, Московского и Берлинского университетов. Упокой, боже, душу раба твоего.
Вскоре после похорон Лагинский отправил письмо Давида Девдариани по адресу, который был указан на конверте. О смерти Георгия Девдариани Лагинский решил не сообщать.
Назад: Глава шестая. Давид Девдариани
Дальше: Глава восьмая. Синяя папка

