Николай Асанов
ОГНЕННАЯ ДУГА
Повести и рассказы

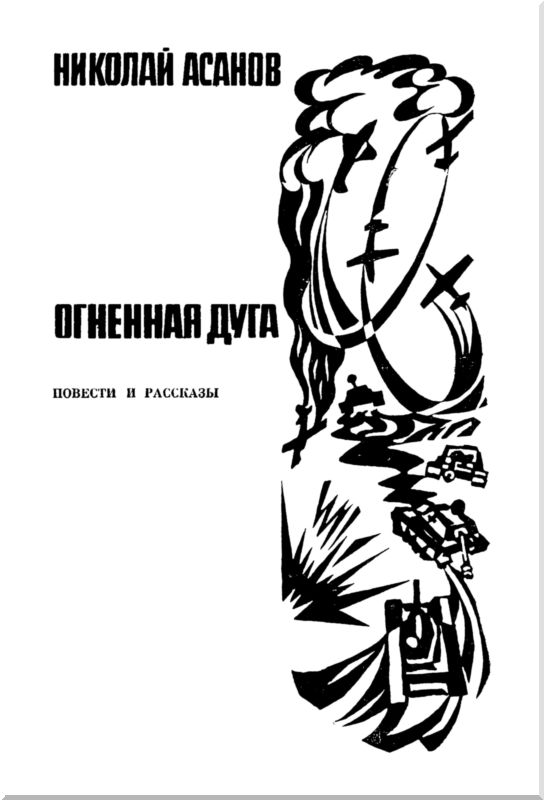
ПОВЕСТИ

ОГНЕННАЯ ДУГА

Часть первая
Глава первая. Главное условие боя…
1
«16 февраля наши войска после решительного штурма, перешедшего потом в ожесточенные уличные бои, овладели городом Харьковом…»Совинформбюро. 16 февраля 1943 г.
В середине февраля майора Толубеева внезапно вызвали на госпитальную комиссию… Все эти дни раненые жили взволнованно-приподнято. Врачи с изумлением наблюдали, как, казалось бы, безнадежные пациенты вдруг начинали поправляться, интересоваться событиями в мире и на фронтах. Лежачие больные требовали костыли и сызнова учились ходить. А еще вчера считавшиеся «трудными» сегодня просились на выписку.
Но госпитальные врачи знали, что эти чудеса зависят совсем не от медицины, не от лекарств.
Это было всеобщее чудо возрождения, охватившее всю страну.
Всего лишь две недели назад, первого февраля, было опубликовано сразу ставшее достоянием истории знаменитое сообщение Совинформбюро, начинавшееся словами: «НАШИ ВОЙСКА ПОЛНОСТЬЮ ЗАКОНЧИЛИ ЛИКВИДАЦИЮ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК, ОКРУЖЕННЫХ В РАЙОНЕ СТАЛИНГРАДА».
Хотя последние месяцы Совинформбюро ввело новую рубрику «В последний час» и часто передавало радостные сообщения о победах на том или другом фронте, но нужно чувствовать себя солдатом, чтобы полностью представить себе масштабы этой победы под Сталинградом. И со второго февраля количество «чудесных» исцелений в госпитале все увеличивалось, возле репродукторов шла непрерывная дискуссия на тему: а какой фронт будет назван сегодня? — местные стратеги определяли по им только ведомым признакам участки, где начнется новое наступление, и все это естественно способствовало бодрости духа, которую даже скептики-врачи начали принимать во внимание, определяя ту или иную методу для лечения раненых.
Новые раненые в этот госпиталь не поступали: в нем долечивались те, кто получил тяжкие ранения еще в сорок втором году, в дни ожесточенных оборонительных боев во время серии фашистских ударов по Ленинграду, а затем при неудавшейся попытке прорвать блокадное кольцо под Синявино, в затяжных боях под Демянском, под Волховом. Этим бойцам, сражения которых не принесли видимой удачи, наверно, больше, чем кому бы то ни было, нужно было узнать, что их подвиги и даже страдания помогли другим бойцам выковать подлинную победу…
Майор Толубеев не хуже других понимал, что действия его батальона легких танков в те дни, даже и не принесшие настоящего успеха, все равно бросили свою долю на чашу весов, которая сейчас окончательно перевешивала всю могучую мощь фашистских армий. Но сам-то он был очень еще плох, чтобы надеяться на скорое возвращение к своим солдатам.
Вот почему вызов на госпитальную комиссию для него оказался неожиданным.
Пулевая рана в живот совсем еще недавно считалась смертельной. И Толубееву казалось, что ему необыкновенно повезло: его выходили, почти уже вылечили, только три последовательные операции чрезмерно истомили его. На комиссию он шел с полным пониманием того, что ничего утешительного врачи ему не скажут…
Комиссия, к удивлению майора, оказалась весьма представительной: присутствовали несколько госпитальных врачей, два каких-то крупных медицинских начальника и еще некий молчаливый остроглазый полковник, чрезвычайно пристально разглядывавший Толубеева.
Но сначала Толубеев не обратил внимания на этого человека. Его поразила новая форма офицеров: погоны, еще не обношенные, лежавшие дощечками на плечах, серебряные у медиков, золотые у военкома и остроглазого полковника. До сих пор Толубеев, как и другие ходячие больные, видел солдат и офицеров в погонах только через окно госпиталя, когда они проходили по улицам, еще и сами не узнавая себя, порой косясь на эти новые знаки различия на собственных плечах и необыкновенно пристально разглядывая их на плечах встречных военных. Погоны были только что введены и как-то необычно изменили вид любого воина…
Остроглазый полковник был поначалу интересен Толубееву только своими красивыми погонами с крупными серебряными звездами. Но тут майор уловил настороженный, изучающий взгляд полковника, и ему вдруг показалась, что он уже где-то видел это узкое, с высокими надбровьями, лицо, эти светлые прищуренные глаза, которые словно бы изучали его или, во всяком случае, запоминали, как запоминают чужой облик глаза художника, собирающегося писать портрет, а пока что исследующего натуру.
И внезапно Толубеев вспомнил: месяц назад, во время последней операции, когда он уже засыпал под наркозом, едва сопротивляясь слабости и тошноте, он услышал быстрые шаги, — они отдавались в усталом мозгу подобно барабанному грохоту, — и кто-то подошел к операционному столу, встал в ногах у Толубеева, пристально вглядываясь, спросил горячим быстрым шепотом:
— Ну, как?
— Надеемся! — сухо ответил госпитальный хирург, голос которого Толубеев узнал сквозь начинающееся забытье.
— Имейте в виду, он нам очень нужен! — решительно произнес неизвестный и словно бы растаял: это уже начинался глубокий обморок от наркоза.
«Хотел бы я услышать твой голосишко, — неприязненно подумал Толубеев. — Если это был ты, когда я на смертном одре лежал, — я бы тебя спросил: „А по какому праву ты мне умереть не позволял?“»
Впрочем, эта неприязненная мысль тут же и исчезла. Сейчас-то майор не на смертном одре лежал, а находился перед официальной комиссией, только чувствовал себя дурно. Он уже разделся до трусов и стоял перед столом, за которым сидели все эти люди, а тот, быстроглазый, похожий на гипнотизера, все так же пристально приглядывался к нему, но вопросов не задавал, живот ему не мял, — этим занимался госпитальный хирург, другие просто смотрели со стороны.
А рассматривать, на взгляд Толубеева, было что. Весь живот в шрамах, втянут куда-то внутрь, и мнилось Толубееву, что госпитальный хирург, прикасаясь к его животу, запросто прощупывает под бледной кожей позвонки, так живот стал пуст и тощ. И тут же услышал голос быстроглазого гипнотизера:
— Ну, как?
«Он! Точно, он!» — поразился Толубеев. Но тут же забыл, что собирался задать ему вопрос: «А что, мол, вам надобно, почему вы мне не даете спокойно умереть?» Во-первых, теперь он умирать не собирался, во-вторых, ему и самому хотелось услышать мнение хирурга о собственной персоне. А хирург, помявшись, недовольно буркнул:
— Ничего хорошего. Нужен длительный отдых для восстановления сил…
Вопрошатель умолк, уставившись взглядом в стол перед собой, и тут Толубеев приметил перед ним свое личное дело. Ему сразу стало не по себе. Выходит, это не посторонний человек! Личным делом обычно интересуются в двух случаях: или ты совершил ошибку, пусть ты и не знаешь какую, — там сами дознаются! — или в смысле кадровой передвижки. А ни того, ни другого Толубееву не хотелось: он уже совершил в своей жизни крупную ошибку и с той поры старался ошибок не совершать. А с передвижкой и совсем был не согласен: привык к полку, к дивизиону, с которыми воевал с тридцатого июня тысяча девятьсот сорок первого, сроднился с людьми и лучшего не желал…
И в эту минуту мелькнуло у него еще одно подозрение: а не сидел ли именно этот востроглазый человек в сторонке за столом, когда другой крупный начальник разбирал прежнюю «ошибку» Толубеева и грозил ему всеми карами за эту «ошибку» и обещал сломать ему если не всю жизнь, так «карьеру»? Но как это могло быть? То дело начиналось задолго до войны… И с легким сердцем Толубеев подумал, что это последнее видение именно привиделось, — просто не понравился ему этот худой, остролицый и остроглазый человек, по какому-то неясному поводу интересовавшийся личным делом заурядного офицера-танкиста, лежащего после тяжелого ранения в заурядном офицерском госпитале в Москве.
— Одевайтесь, майор! — сухо приказал хирург и попросил сестру пригласить следующего офицера.
А наутро тот же хирург, как-то робко и словно бы извиняясь, сказал на врачебном обходе Толубееву:
— Владимир Александрович, мы вас выписываем. Документы подготовлены, зимняя форма тоже. Советую сначала пообедать…
«Так. Но что же все это значит? Сначала явная немилость — выписывать офицера с незаживленными ранами, значит, обрекать его на скорое появление в другом госпитале, только тот будет похуже и поближе к фронту. А затем тут же зимняя форма и диетический обед. Конечно, попал он сюда осенью, зимняя форма необходима. Ну, а обед… Известно, какие сейчас обеды в столовой резерва… А может, меня прямо на вокзал?»
Все было удивительно, все было не так, как положено.
Обеда дожидаться он не стал. Если уж идти навстречу судьбе, так делать это надо без промедлений.
Не только погоны, но и шинель, шапка, сапоги — все было новенькое, с иголочки. Одевшись, Толубеев полюбовался на себя в зеркало, пощупал на плечах твердые дощечки погонов с двумя полосками и звездой меж ними, — подходяще, хотя и не так солидно, как у вчерашнего полковника, но, вспомнив полковника, поскучнел, пошел за документами. Сержант из выздоравливающих, почтительно козырнув погонам, предупредил:
— Тут для вас, товарищ майор, срочное предписание…
Толубеев взял плотный конверт с официальным грифом в углу: «Совершенно секретно!»
Он нетерпеливо вскрыл конверт. В нем лежала небольшая бумажка с тем же грифом, длинным казенным номером и совершенно не казенными словами:
«Уважаемый Владимир Александрович!
Звоните мне в начале каждого часа с любого телефона, какой окажется под рукой. Возможно, освобожусь очень поздно. Вам заказан номер в гостинице „Москва“. Талоны на питание получите вместе с ордером на номер. Мой телефон: К-4-42…
Дружески: Корчмарев».
И все. За тем лишь исключением, что никакого Корчмарева майор Толубеев никогда не знавал.
Сержант из выздоравливающих покопался в связке ключей и открыл дверь склада, где хранились личные вещи находящихся на излечении. Нырнул туда на минуту, вернулся и поставил у ног Толубеева лакированный чемодан с ключами, привязанными к ручке.
— Что это такое? — растерянно спросил Толубеев.
— Приданое. Приказано вручить при выписке, — отрапортовал сержант, глядя на Толубеева с тем почтением, какое вызывают события и вещи непонятные. Толубеев и сам смотрел бы столь же почтительно, случись все это с кем другим.
Тут он вспомнил о записке, которую все еще держал в руке, шагнул к телефону. Телефон отозвался длинными гудками, но трубку никто не поднял.
Толубеев попробовал чемодан на вес. Тяжел, собака. Но сержант предупредительно сказал:
— Не беспокойтесь, товарищ майор. Машина начальника госпиталя в вашем распоряжении до двенадцати ноль-ноль. — И крикнул в дверь: — Устинов! Отвезите товарища майора!
Тотчас же появился лихой шофер, схватил чемодан и поволок к выходу, Толубееву ничего не оставалось делать, как кивнуть сержанту, все так же почтительно взиравшему на него, и выйти.
Дверь госпиталя захлопнулась, словно отрезала все, что было до сих пор, а вот что будет? Толубеев попытался было не думать об этом, глядя на зимнюю Москву, но под ложечкой посасывало…
2
«17 февраля на Украине наши войска в результате упорных боев овладели городом и железнодорожным узлом Славянском, а также заняли города Ровеньки, Свердловск. Богодухов, Змиев.В Курской области наши войска, продолжая развивать наступление, заняли город Грайворон».Совинформбюро. 17 февраля 1943 г.
Неизвестный Толубееву Корчмарев отозвался только в двадцать три ноль пять.
Все это время Толубеев провел в гостинице, боясь отойти от телефона, — а вдруг тот зазвонит? Ведь телефоны для того и существуют, чтобы зазвонить в самое неожиданное время.
Правда, он спустился обедать в ресторан и был приятно поражен тем, что ресторан оказался настоящим, с проворными, хотя и весьма пожилыми официантами. За столами было много военных, но, судя по очень чистой форме, все это были тыловики. Прислушавшись к разноголосому гулу, Толубеев понял, что тут обедали корреспонденты, писатели, штабники, командировочные с фронта и из глубокого тыла, но эти люди тоже носили военную форму, а многие из них, как сообразил Толубеев, оказались в Москве лишь на несколько дней, а то и часов, и он понимал их стремление к этому маленькому осколку давно уже позабытой «мирной жизни». Было много женщин, — с мужчинами и по одиночке, — может быть военных вдов, которым стала тяжка одинокая жизнь, может быть, просто искательниц приключений, а может быть, и таких, кто напряженно прислушивался к разговорам военных, собирая «информацию». Слышалась и иноязычная речь: Толубеев понял, тут обедают и иностранные корреспонденты. Они постоянно поминали русское слово «сводки» и ставшее привычным всему миру название «Совинформбюро». Все было ясно: прошли те времена, когда корреспонденты гадали — недели или месяцы продержатся русские под натиском фашизма? Шел тысяча девятьсот сорок третий, только что сдался фельдмаршал Паулюс, и над Сталинградом снова взвилось красное знамя, были освобождены Курск и Воронеж, прорвана блокада под Ленинградом, и хотя положение на фронтах начало стабилизироваться, сводки Информбюро по-прежнему пестрели названиями освобожденных городов и населенных пунктов. Вот почему иностранные корреспонденты, судя по отрывкам их разговоров, гадали на своей кофейной гуще уже о будущем фашизма: как долго гитлеровцы продержатся перед небывалыми фронтальными и охватывающими ударами русских? Недаром они частенько поминали и еще одно русское словечко: котел. Но всю эту болтовню Толубеев оставил на совести самих иностранных корреспондентов, сейчас его больше занимал обед.
Оказалось, что неизвестный Корчмарев предусмотрел все: диетический обед и даже бутылку сухого вина. А позже, в двадцать часов, когда Толубеев спустился ужинать, его ожидала и вторая бутылка. Если так пойдет и дальше, то можно не торопить события. Однако ж неизвестный Корчмарев не на того напал! И Толубеев регулярно звонил по таинственному телефону «в начале каждого часа…».
И вот в двадцать три ноль пять телефон заговорил человеческим голосом.
— Вас слушают! — сказал он устало и неприветливо.
— Я прошу товарища Корчмарева! — пытаясь скрыть волнение, но так и не превозмогши его, произнес Толубеев.
— Одну минуточку. — Пауза. — Кто его спрашивает?
— Майор Толубеев.
Несколько неясных слов, произнесенных в сторону от трубки. И затем широкий радушный голос:
— Владимир Александрович? Очень рад. Я — Корчмарев. Как ваше самочувствие?
— Хотел бы доложить при встрече.
— Понимаю, понимаю. Одну минуточку! — «Черт бы их побрал с этими „минуточками“!» — подумал Толубеев, жадно вслушиваясь в слова. — Подождите у телефона. — Опять уходящий в сторону голос. И снова к Толубееву: — Ну что же, машина будет у вас через тридцать минут. Шофер позвонит в номер, так что до звонка не спускайтесь, сегодня довольно холодно, да и шофер не найдет вас. К тому же, комендантский час…
— Благодарю… — с облегчением произнес Толубеев. Ему показалось, что все тайны наконец окончатся. И чем скорее, тем лучше.
Он вернулся к содержимому чемодана, который таил его «приданое». Днем он уже рассмотрел штатский костюм, несколько отличных сорочек, галстуки, запонки, булавки, золингеновскую бритву и электрическую «Филипс». Все это наводило на определенные размышления, но так «размышлять» было пока что опасно. Поэтому он просто достал «Филипс» и побрился еще раз, открыл флакон какого-то одеколона, протер лицо и почувствовал себя как будто лучше.
Телефон зазвонил. Конечно, шофер. Назвал номер машины.
Толубеев спустился в вестибюль.
В вестибюле толпилось несколько человек — мужчин и женщин, по-видимому, пропустивших комендантский час. У них проверяли документы. Однако Толубеева пропустили без расспросов. Краем глаза он заметил какую-то фигуру, которая словно бы сделала знак проверяющим, на так торопился, что не стал разглядывать. И только подойдя к названной машине, приметил, что шофер идет следом. Вероятно, этот человек уже знал его в лицо и дал ему возможность выйти не задерживаясь.
Действительно, шофер открыл дверцу перед ним, усадил рядом с собой, и машина покатила по пустым улицам.
Вместе вошли они в какое-то бюро пропусков. Толубеев предъявил свое предписание, выданное Корчмаревым. Вахтер повертел бумажку, сказал:
— Водитель проводит вас.
Лифт вознес их на седьмой этаж. «Коридоры в коридоры, в коридорах двери!» — вспомнилось Толубееву. Водитель вежливо постучал в одну из дверей, пропустил Толубеева и остался за порогом.
За двумя столами, друг против друга, сидели двое. Одного Толубеев сразу узнал: узкое длинное лицо, гипнотизирующие светлые твердые глаза, которые увидел перед тем, как заснул от наркоза, и еще раз — на перекомиссии, когда тот смотрел этими острыми глазами на худое израненное тело Толубеева. Второй показался Толубееву попроще и посимпатичнее. Довольно полный, седоватый, с крупными залысинами на высоком и без того лбу. Оба были в штатском, хотя все вокруг было строго по-военному, да и само здание больше всего походило на штабное.
— Майор Толубеев, явился по вызову товарища Корчмарева… — сказал он точно, строго, а глаза так и бегали с одного лица на другое, — кто есть кто? — как говорят англичане.
Полный, седовласый поднялся, пошел навстречу, протягивая руку:
— Здравствуйте, Владимир Александрович.
Потом указал на второго, знакомя:
— Полковник Кристианс.
Кристианс тоже протянул сухую твердую руку. Толубеев подумал: спортсмен. Гребец и теннисист. По-видимому, эстонец. Вот почему у него невыразительный голос. Он говорит не на родном языке.
— Мы пригласили вас… — начал Корчмарев, но взглянул на Кристианса и закончил другим тоном:… — на маленькое совещание…
Оба двинулись к двери, и Толубеев оказался как бы под конвоем: впереди — толстенький коротенький Корчмарев, замыкающим — длинноногий Кристианс. Так они и шли по длинному коридору, иссеченному безмолвными тихими дверями.
Коридор упирался в другой коридор, а уж в том показалась открытая дверь в большую приемную, где вскочил и щелкнул каблуками капитан, настоящий гвардеец по выправке, а из приемной в обе стороны еще двери — обитые кожей тамбуры. В одну из этих дверей, что справа, прошел Корчмарев, пробыл там минуту, — ни звука не слышалось оттуда, — потом раскрыл дверь, сказал с каким-то торжественным звоном в голосе:
— Прошу вас, Владимир Александрович!
Кристианс беззвучно замкнул шествие и закрыл за собой двери — и наружную, и внутреннюю.
В большом кабинете было полутемно: настольная лампа посреди пустынного стола, еще стол, придвинутый к первому торцом, и торшер в углу возле круглого столика, окруженного несколькими креслами. За главным столом сидел пожилой человек в штатском, еще трое ютились около торшера, стоя пили кофе, как будто не имели никакого отношения ни к человеку за столом, ни к тем троим, что вошли только что. Человек за столом поднялся, — Толубеев заметил, что выглядит он очень усталым, — протянул руку, назвал себя невнятно и указал на кресло перед собой. Корчмарев отошел к круглому столику, перекинулся несколькими непонятными словами со стоящими там, поколдовал немного и вернулся к длинному столу, поставил перед Толубеевым чашку дымящегося кофе. Кристианс остался в самом конце длинного стола, где было совсем темно.
Перед усталым пожилым человеком на столе лежала папка, и это опять было «личное дело» Толубеева.
Трое в углу примолкли, расселись вокруг столика, но торшер не столько освещал их лица, сколько затенял.
— Выпейте кофе, товарищ майор! — неожиданно звонким голосом сказал хозяин кабинета. — Вы, наверно, устали? — и сам принялся позванивать ложечкой в своей чашке.
Хотя впервые названное в этом кабинете скромное звание Толубеева призывало к строгим мыслям о войне и подчеркивало, кроме того, что все остальные тут, конечно, выше по званию, но офицер как-то вдруг успокоился. Может быть, оттого, что на войне дела решает приказ, его не опротестуешь, и тут уже все зависит от самого майора: сумеешь — выполнишь! Толубеев даже с удовольствием прихлебнул кофе из чересчур, по его мнению, маленькой чашечки.
— Вы ведь металлург по профессии, Владимир Александрович? — спросил хозяин, отставляя свою чашечку. — Почему же вы не воспользовались броней, которую вам предоставил наркомат обороны?
— В сущности-то я чрезвычайно узкий специалист, — несколько недоумевая, так не вязался вопрос с обстановкой, ответил Толубеев. — Я занимался редкими металлами, ну, а во время войны… Одним словом, руководство уважило мою просьбу…
— А вы полагали, что редкие металлы во время войны не понадобятся?
— Войны решают чугун, железо и сталь! — ответил Толубеев словами из своего давнего рапорта.
— А ванадий, вольфрам, марганец, одним словом, присадочные металлы и минералы? — спросил один из сидящих в углу.
— В сорок первом от каждого требовалось одно: быть на самом тяжелом участке.
— Да, психологически вы, вероятно, правы, — задумчиво произнес хозяин кабинета, и Толубеев благодарно взглянул на него.
— А почему в анкете добровольца вы ничего не сказали о знании языков? — вдруг спросил Кристианс.
— Ну какое там знание! — усмехнулся Толубеев. — Английский и немецкий — кое-как да норвежский — слабо. А с добровольцев знания языков и не спрашивали…
— Вы долго были в Норвегии? — спросил хозяин.
— С сентября тысяча девятьсот тридцать восьмого по десятое апреля тысяча девятьсот сорокового. Сразу после нападения Гитлера на Норвегию наше посольство предложило нам прекратить все закупочные операции и немедленно выехать на родину. Но выехать удалось только в конце апреля. Факт пребывания за границей в анкете отмечен, — осторожно добавил он.
— Только по этому факту в анкете вас и разыскали! — вроде бы даже с улыбкой сказал хозяин.
— А сколько времени искали! — сердясь на что-то, заметил Кристианс.
— Однако ж нашли! — миролюбиво остановил полковника хозяин.
— У вас остались в Норвегии друзья? — это Корчмарев берет быка за рога. Толубеев невольно опустил глаза и сказал слишком тихо:
— Да.
Из угла чей-то голос задумчиво произнес:
— Я помню ваш тогдашний доклад о состоянии норвежской и шведской металлургической промышленности и о захвате этих рынков немцами. Такой доклад без деятельных и умных помощников было бы невозможно составить. Как вы полагаете, ваши друзья не могли подвергнуться преследованиям?
— Ну, в Норвегии люди, которые мне помогали, никаких секретных фактов не разоблачали. Думаю, что немецкое гестапо ими не интересуется. А друзья — шведы в полной безопасности. Швецию немцы не захватили.
— А могли бы вы восстановить эти связи? — Это опять Корчмарев. Он, по-видимому, любит торопить события. Но ведь сначала Толубеев должен знать, чего от него хотят. Французы говорят, что и самая красивая девушка не может дать больше того, что она имеет. А у Толубеева нет ничего.
— Вы имеете в виду — восстановить их отсюда? — осторожно спросил он.
Сидевший в углу человек вдруг поднялся и вышел на свет. Он подвинул кресло и сел рядом с хозяином кабинета. Только тут Толубеев узнал его: заместитель наркома тяжелой промышленности. Когда-то этот человек оформлял его заграничную командировку. Заместитель наркома жестко сказал, будто с кем-то спорил:
— Я думаю, нам следует поговорить начистоту. — Но потом улыбнулся, словно хотел смягчить свою неожиданную резкость, добавил: — Туркмены говорят: «Сядем хоть наискось, но поговорим прямо…».
Хозяин кабинета вежливо сказал:
— Пожалуйста. Мы слушаем.
Заместитель наркома заговорил тихо, медленно, но так, словно хотел вбить в сознание Толубеева каждое слово:
— Владимир Александрович, вы, я вижу, уже поняли, что от вас ждут чего-то очень важного. Меня вы знаете. Эти товарищи руководят различными отделами разведки генерального штаба. Наш хозяин — генерал Коробов — занимается, в частности, запасами стратегического сырья, находящегося в распоряжении противника. Как раз он и поставил нас в известность, что у немцев происходит какая-то перегруппировка заказов на поставки сырья. А так как гитлеровские пропагандисты после сталинградского поражения не нашли ничего лучше, как хвалиться неким «несокрушимым» оружием, нам приходится принимать в расчет и эту похвальбу. Даже в гитлеровской пропаганде попадаются крупицы правды… А теперь, уважаемый товарищ Кристианс, ваши аналитические данные!
В руках у Кристианса появилась откуда-то кожаная папка, он встал в конце длинного стола для заседаний, и все передвинулись к этому столу.
— Первые данные о перегруппировке немецких заказов мы получили из совершенно достоверных источников в начале января. Норвежские и шведские промышленники вдруг начали разрабатывать даже нерентабельные рудники, строить обогатительные фабрики и отгружать в Германию по очень выгодным ценам большое количество марганца, вольфрама, ванадия. Примерно в это же время из Германии поступили сведения о введении на некоторых заводах Крупна особых условий секретности. Вначале это были только сталелитейные заводы. Затем те же правила особой секретности были распространены на металлообрабатывающие и сборочные цехи. Но самое любопытное в том, что этой чести удостоились только танкосборочные заводы и заводы самоходных орудий…
— Одним словом, мы полагаем, что речь идет о броневой стали особого качества, — резюмировал заместитель наркома.
— Что же должен сделать я? — тихо спросил Толубеев.
— Вы, конечно, помните рассказ о том, как Менделеев вывел формулу бездымного пороха по одним только накладным на грузы, поступавшие на завод? — заместитель наркома остро посмотрел на Толубеева. — Вам придется вернуться в Норвегию и сделать что-то вроде этого…
— Но ведь я-то не Менделеев! — воскликнул майор.
— Но вы известный металлург! — жестко ответил заместитель.
— Хорошо сказать — поехать в Норвегию! — но ведь Норвегия оккупирована и там хозяйничают фашисты… — Толубеев и сам почувствовал, что эта отговорка уже доказывает — он сдается! — но ему нужно было время для размышления, и еще ему нужны были знания: как собираются его перебросить; что он должен там делать; на кого он сможет опираться в этой новой и неожиданной для него роли разведчика… Но у заместителя наркома, казалось, были готовы ответы на все!
— Вы же сами сказали, что вряд ли норвежская полиция обратила какое-нибудь нежелательное внимание на вас и ваших друзей в то короткое времяпребывание в их стране, — значит, вы сможете кое-кого разыскать. Ну, а уж как туда добраться, решат ваши новые начальники…
Наступило длительное молчание.
Толубеев с некоторым смятением в душе думал о том, как странно сложилась его жизнь. Он довольно быстро добился успеха в своей профессии. Сложная металлургия, многокомпонентные сплавы только что нашли свое место в технике, и безвестный проповедник этих сплавов как-то внезапно оказался нужным и начальству и самому делу. Та командировка в Норвегию могла бы стать переломным моментом в его биографии. Он видел, что передовая наука постепенно перемещается с Запада на Восток. После Норвегии ему прочили поездку в Англию, потом в США. Это не было бы дипломатической карьерой — Толубеев был и оставался металлургом. Но он мог узнать секреты фирм и применить их у себя на родине, мог улучшить технологию получения некоторых сплавов, стать автором новых металлов, но одна его «ошибка» разрушила все.
На эту «ошибку» начальство торгпредства указало Толубееву еще в конце марта сорокового года и предложило молодому инженеру немедленно вернуться на родину. Он собрался выехать в Берген, чтобы сесть там на советский корабль, когда на рассвете девятого апреля в Осло-фиорде загрохотали выстрелы: береговые норвежские батареи отбивали атаку немецких кораблей… Гитлеровцы напали на малые страны, стремясь молниеносно окончить свою «странную» войну с Францией. Бывший военный министр Норвегии отставной майор Квислинг поднял свою «пятую колонну» и предал норвежские королевские войска. И все-таки немцам пришлось задержаться в этой маленькой стране с ее тремя миллионами населения почти на три месяца, тогда как могущественную Францию они разгромили за три недели.
Уехать из воюющей страны было трудно, и Толубеев выбрался оттуда только через месяц…
Но начальство на родине помнило о его ошибке. Он еще долго писал объяснительные записки, работу ему дали незначительную.
Когда немцы напали на Советский Союз, он запросился на фронт, так как думал, что только личное участие в битве вернет ему спокойствие духа. Он как-то и забыл, что с врагом можно сражаться и при помощи знаний, а не только пулей и штыком. Впрочем, время было такое тяжкое, что никто не мог ни посоветовать ему, ни просто приказать занять другое место в великом сражении. И он стал офицером.
Нельзя сказать, что он много сделал на фронте. Почти всю войну он просидел в обороне. Только осенью сорок второго года ему повезло: их фронт пошел на прорыв блокадного кольца под Ленинградом… Но и тут он воевал всего несколько дней, а очнулся перед самой смертью, ибо понял: ранен тяжело. Такие раны всегда считались смертельными, а то, что он не умер, было чудом.
А в это время его разыскивали по всем фронтам! Недаром же он увидел в госпитале перед началом третьей операции это худое, острое лицо с гипнотизирующими глазами, лицо полковника Кристианса! Но о чем думал тогда полковник, обретя искомого человека на смертном одре?
И вот сейчас он с полной убежденностью вспомнил, что именно этот человек, которого зовут полковник Кристианс, присутствовал при том тягостном разговоре в высокой инстанции, куда его пригласили в день возвращения на родину и потребовали объяснения в совершенной им «ошибке». Правда, Кристианс и тогда держался в тени, как вот сейчас, но теперь-то Толубеев вспомнил его…
Толубеев выпрямился в кресле, встать он побоялся, чувствуя противную слабость в ногах, и твердо сказал:
— Я боюсь, что у полковника Кристианса могут быть возражения против моей кандидатуры… — Так как все в молчаливом удивлении смотрели на него, он уже несколько спокойнее добавил: — Полковник Кристианс, по моем возвращении из Норвегии, утверждал, что моя главная ошибка, совершенная во время пребывания в этой стране, состояла именно в моей излишне, по его мнению, тесной дружбе с гражданами Норвегии. И он категорически заверил меня, что больше я никогда, ни под каким предлогом не навещу эту страну. Правда, Норвегия была уже оккупирована немцами, и я ничего не знал о судьбе моих друзей, — грустно закончил он.
— Но теперь он так же настоятельно требует вашего возвращения в эту страну, — тихо сказал генерал Коробов. — И именно он разыскал вас для этого разговора.
— Что же переменилось с того давнего времени? — словно сам у себя спросил Толубеев. И генерал спокойно ответил:
— Все. Полковник Кристианс сам признал, что без широких дружеских связей с гражданами страны всякий разведчик обречен на провал. И именно потому, что у вас эти связи были, он рекомендовал разыскать вас и сам принял участие в розысках…
Кристианс молчал, как будто боялся даже голосом ожесточить молодого офицера. И тогда Толубеев поднялся и тихо сказал:
— Я готов…
И то, что он сказал это не по-уставному, а раздумчиво, как бы глядя в будущее, заставило всех этих людей, собравшихся здесь ради него, взглянуть на него с особенным вниманием. И стало понятно, что ни изнурительная бледность, ни немощность израненного и изрезанного тела не сломили этого человека, дух его оставался спокойным и сильным. И все как-то оживились, задвигались. Кристианс встал и подал Толубееву еще чашку кофе, генерал открыл нижний ящик стола, достал бутылку коньяку, налил маленькую рюмку, подвинул Толубееву, уговаривая:
— Подкрепитесь, вы ведь только что из госпиталя!
— Мало того, я попросил выписать майора раньше времени. Мне он нужен именно такой: худой, тощий, даже больной. Но врачи уверяют, что через неделю-полторы он будет совершенно здоров!
— Но к чему я вам — больной? — попытался улыбнуться Толубеев, однако заметил строгий взгляд генерала, брошенный на Кристианса, и занялся кофе. Кристианс будто не слышал его вопроса.
Заместитель наркома стал прощаться, с ним ушли и два молчаливых его спутника. В кабинете остались генерал Коробов, полковник Кристианс, Корчмарев и Толубеев. Генерал обратился к Кристиансу:
— Теперь можете докладывать ваш план…
— Майор должен появиться в Норвегии как бежавший из фашистского лагеря для военнопленных, находящегося в северной части страны. Этот вариант и необходимая легенда нами подготовлены. Если он, опираясь на эту легенду, сумеет укрыться у кого-нибудь из своих прежних друзей и, особенно, сможет устроиться на работу, будет самое лучшее. Связь с нашим центром майор будет держать через нейтральное лицо, адрес и пароль для связи получит здесь…
— Норвегия! Но как я проберусь в эту страну?
— Мы найдем вполне комфортабельный и спокойный путь. Но то, что вы так измождены, создаст вам прекрасное алиби. Номерной знак советского офицера, бежавшего из фашистского лагеря в Норвегии, вы получите при отъезде…
3
«23 февраля на Украине наши войска, продолжая наступление, заняли города Сумы, Ахтырка, Лебедин.В Курской области наши войска после упорного боя заняли город и железнодорожную станцию Малоархангельск».Совинформбюро. 23 февраля 1943 г.
Подводная лодка должна была выйти с базы Северного флота ночью.
Весь этот последний день Толубеев и Кристианс просидели взаперти вдвоем в комнате отдыха у командующего флотом. Обед, а потом и ужин, подавал молчаливый вестовой командующего, в комнате не задерживался, «гостей» не рассматривал, возможно, уже привык к неожиданным посетителям.
Кристианс и Толубеев разговаривали. Точнее, говорил полковник, а Толубеев изредка задавал вопросы…
— Разведчик, как минер, ошибается только один раз! — спокойно говорил Кристианс. — Но у вас есть дополнительные условия, которые, надеемся, помогут вам. Вы хорошо знаете страну, людей, город, в котором вам придется работать. Хотя немцы и чувствуют себя полными хозяевами этой маленькой страны, но Сопротивление там растет с каждым годом. И участвуют в нем не только крестьяне и рабочие, но и интеллигенция, и духовенство, и даже предприниматели. У самих квислинговцев в их разбойничьей семье не все ладно. Надежда на быстрое установление «нового порядка» во всей Европе уже улетучивается, возникает ощущение, что их, возможно, еще будут судить за государственную измену. И многие из них пытаются обезопасить себя хотя бы тем, что они, мол, не были жестоки, то есть такой-то лично и такой-то именно… К тому же, немцы не могут установить посты на каждом из двух тысяч километров морской границы Норвегии, солдаты им нужны для боев на севере, где они за все время войны не смогли сделать вперед и шага. Да и рыболовство Норвегии им тоже нужно, и работающие рудники, и заводы с их военной продукцией, и они время от времени вынуждены идти на уступки норвежским предпринимателям. Да вот, например, второго августа сорок первого года они объявили чрезвычайное положение во всей Норвегии… Норвежцы ответили молчаливым саботажем. Десятого сентября немцы ввели чрезвычайное положение в Осло и казнили группу патриотов. В ответ епископы лютеранской церкви заявили о сложении с себя сана в знак протеста против казней и жестокого обращения оккупантов с местными жителями… В прошлом году произошли волнения в городке Телевог, в декабре прошлого года такие же волнения начались в районе Арендаля и Блекке-фиорда, — и немцам пришлось посылать свои войска на помощь квислинговцам. В январе этого года во всех церквах был прочитан протест против зверств квислинговцев, и немцам пришлось снять чрезвычайное положение, введенное снова незадолго до этого…
— Смогут ли наши друзья достать мне какие-нибудь документы или мне придется жить скрытно? — спросил Толубеев.
— Документы для вас приготовят, а насколько свободно вы сможете передвигаться по стране, зависит от того, каких покровителей вы найдете. Во всяком случае, ваши бывшие друзья до сих пор пользуются большим весом.
— Их еще надо разыскать… — задумчиво выговорил Толубеев.
Но рассказы Кристианса как бы приблизили к нему страну. Он еще не очень узнавал свою Норвегию, родину рыбаков и рудокопов, лесорубов и мореплавателей, да и не сорвешь с нее дыма войны, чтобы пристальнее разглядеть это милое лицо. И лицо ее может быть так искажено страданиями, что его и не узнаешь…
— А как тот человек, который меня встретит? — спросил он.
— Немцы были вынуждены разрешить рыболовство, иначе им нечем было бы кормить три миллиона человек, да и самим им тоже нужна рыба… Но они обязали общины круговой порукой и объявили всех жителей заложниками на случай бегства какой-нибудь команды из страны. Следят за рыбаками и квислинговские уполномоченные. Однако некоторая свобода передвижения в прибрежных районах осталась. Вас встретит владелец маленького суденышка Август Ранссон. У него есть лицензия на право лова рыбы в прибрежных водах… Он единственный, кто знает вашу главную цель. Остальные, с кем вы встретитесь, должны знать только легенду…
Поздно вечером Кристианс проводил молодого офицера в порт. Он предупредил, что подводная лодка будет передвигаться и днем и ночью и займет этот путь несколько суток. Толубеев должен был заняться языком, изучением своей «легенды» о пребывании в немецком лагере военнопленных, картой, на которой был отмечен его «путь» от лагеря до рыбацкого поселка Альтен на берегу залива Бохус. Кристианс особенно настаивал на твердом знании имен рыбаков, их быта, — по «легенде» значилось, что бывший военнопленный, майор Толубеев, прожил в этом маленьком поселке у рыбака Иверсена несколько дней…
В бумагах, переданных полковником Кристиансом Толубееву, были подробные описания поселка, семьи Иверсена, его лодки, на которой якобы вывезли Толубеева из плена, и майор невольно подумал о том, какой же бесстрашный человек этот рыбак. Ведь легенда должна была опираться на факты, на подлинные имена. А что если гестапо захватит пленного и «выбьет» из него эти факты? Да и квислинговская полиция давно уже сотрудничает с немцами, а стоит немцам узнать имя рыбака, и он будет немедленно казнен. Кристианс говорил, что норвежцы часто помогают бежавшим из лагерей советским военнопленным, а немцам это — нож в горло! — всех схваченных ими участников Сопротивления они убивают так же просто, как и пойманных беглецов…
И Толубеев дал себе слово — пользоваться «легендой» только у друзей. Если же квислинговская или немецкая полиция заинтересуется им, ограничиться первой половиной «легенды» о пребывании в лагере и побеге, — никогда он не назовет героев Сопротивления, которых встретит там…
И все-таки после этих разговоров он почувствовал воздух страны, снова ощутил себя другом маленького смелого народа мореходов и открывателей, предки которых за четыреста лет до Колумба добрались до Америки и назвали ее «Виноградной страной»…
Днем лодка шла под перископом. Как ни трудно было дышать от запаха соляра, перегретого воздуха, Толубеев терпеливо занимался норвежским или, улегшись с закрытыми глазами на предоставленной ему койке механика, повторял про себя «легенду». Еще хорошо, что ему не переменили ни фамилию, ни факты его биографии. Он должен был обращаться к своим прежним друзьям именно как инженер Толубеев, который был в их стране, работал плечом к плечу и которого разлучила с ними только война.
С наступлением темноты лодка всплывала. К Толубееву являлся помощник командира и приглашал наверх, в боевую рубку. По-видимому, Кристианс предупредил помощника, что пассажир лодки только что из госпиталя, что переход для него будет труден. Толубеев надевал тяжелое кожаное пальто с капюшоном, шапку-ушанку, карабкался по узкой лесенке в горловине люка и выбирался наверх.
Последнюю ночь лодка шла под перископом. Толубеев попросился из любопытства на центральный пост и с удивлением увидел через перископ далекие огни берега. Ему, отвыкшему за годы войны от ночного света, видение это показалось удивительным.
Но тут шефствовавший над новичком помощник командира попросил его приготовиться к высадке. Толубеев вернулся в свою каюту.
Он переоделся согласно инструкции: две пары шерстяного белья, брезентовые брюки, грубошерстный свитер, куртка-штормовка, вязаный берет. В брезентовом рюкзаке, который он взял с собой, был тот, еще московский, костюм, белье и сорочки: все эти вещи были сделаны в Норвегии и носили знаки норвежских портных. Туда же он сунул обе бритвы.
Бумаги и книги он упаковал в заранее приготовленный резиновый мешок и передал их на хранение помощнику командира. Тот придирчиво оглядел его.
— Бледность вполне приличная. Худоба тоже. Сразу видно, что вы побывали в немецком лагере…
Послышался тихий шум продуваемых цистерн. Лодка всплывала. Помощник командира крепко обнял Толубеева и поцеловал его. Сказал почему-то шепотом:
— Ну, ни пуха ни пера…
— К черту, к черту… — пробормотал растроганный Толубеев.
Что-то резко стукнуло по борту подводной лодки, затем послышалось мягкое шуршанье. Помощник командира сказал:
— Пора!
Толубеев выбрался из люка. В опасной темноте, пробитой только гвоздиками звезд, из которых самыми яркими были Полярная и созвездие Большой Медведицы, все слышалось шуршанье дерева по металлу. Толубеева взяли за руку и подвели к навесному штормтрапу с веревочными ступенями. Прямо под собой он увидел, скорее даже почувствовал, палубу рыбачьего суденышка, елозившего кранцами из отработавших автомобильных шин по металлу. Снизу к нему протянулись другие руки, и он отдался в их власть.
Его осторожно поставили на шаткую палубу. Звякнул железный наконечник шеста, и рыбачье суденышко медленно отодвинулось от металлического борта. И сразу зарокотал судовой мотор, а все, что связывало еще Толубеева с родиной, — тень человека над морем, тень корпуса лодки, тени надстроек — все стало проваливаться в глубину и как-то мгновенно растаяло. В это время Толубеева подтолкнули осторожно вперед, колыхнулась дверь каюты, ударил в лицо яркий, как показалось Толубееву, свет, и он оказался в тесном закутке с подвесными койками, со столом, и перед ним стоял человек, протягивавший руку и произносивший первые для Толубеева за три года норвежские слова:
— Шкипер рыбацкого яла «Маргит». Меня зовут Рон Иверсен.
Толубеев покачнулся, не столько от волны, бросившей суденышко, сколько от неожиданности. «Легенду» он помнил назубок, но никогда не мог представить себе, что порой легенды становятся былью.
— Рад встретиться с вами! — сказал он по-норвежски.
Рон Иверсен подозрительно взглянул на него:
— Вы ожидали увидеть другого человека?
Темное, продубленное ветром и солью лицо его напряглось, сильные руки уцепились за борт подвесной койки так, словно он собирался сорвать ее с места. Толубеев осторожно ответил:
— Мне назвали ваше имя, но сказали, что я увижу вас уже в Норвегии, в Альтене.
— А! — рыбак вздохнул полной грудью, помолчал. — Вас должен был встречать Август Ранссон, но три дня назад его суденышко обстреляли с немецкого сторожевика. Сейчас Ранссон в больнице. Наш радист принял сообщение об этом несчастье. Но Скрытая Дорога должна существовать, хотя кондукторов иногда и убивают. Иначе немцы и в самом деле возомнят себя хозяевами Норвегии!
— Скрытая Дорога?
— Так в нашем Сопротивлении называют путь, по которому перебрасывают заподозренных бойцов и бежавших советских и английских военнопленных в нейтральные страны. Поэтому я здесь.
Он оглядел своего пассажира, цеплявшегося за стенку, сказал другим тоном:
— Садитесь, пожалуйста! Я вижу, вы очень устали.
Толубеев сполз по качающейся стенке на рундук, облегченно вздохнул и огляделся. В низкой каютке было тепло. На откидном столике, в деревянных гнездах — углублениях стояли откупоренная бутылка и два стакана. В рамке, окаймлявшей стол, позванивали, переползая от качки с места на место, тарелки с рыбой, горкой масла и белым пышным хлебом, какого Толубеев нигде, кроме Норвегии, не видал.
Рон Иверсен помог ему освободиться от брезентовой куртки. Коснувшись нечаянно его плеча, огорченно сказал:
— А вы и верно, как из лагеря. Мне пришлось повидать ваших людей, бежавших оттуда. На нашей станции Скрытой Дороги провалов не было, мы многих перебросили в Швецию и в Исландию. Там их, правда, интернируют, но немцам как будто не выдают. А теперь, после Сталинграда, шведам вообще придется подумать о своей политике… Уж слишком они были почтительны к немцам!
— Значит, после Сталинграда? — не удержался Толубеев. Как ни говори, но ведь отблеск этой победы падал и на него!
— Да! — твердо ответил Рон Иверсен. — А вы тоже были под Сталинградом?
— К сожалению, нет. Я был ранен под Ленинградом.
— О, это тоже город-скала! — восхищенно подхватил Иверсен. — Если бы не наши квислинги, и мы могли бы показать немцам в апреле сорокового, что норвежцы — не трусы!
— Вы уже доказали это! — твердо сказал Толубеев. Он понимал, что значит быть участником Сопротивления в оккупированной стране.
— Благодарю! — отозвался Рон Иверсен. — А то, что вы так отощали, даже к лучшему! — он улыбнулся. — Теперь даже фрекен жаждут подвигов. Они вас живо откормят!
Хотя шутка была грубовата, Толубеев принял ее весело. Она обещала удачу. А удача была ему так нужна!
На корме тихо рокотал мотор. Качка постепенно уменьшалась. Иверсен прислушался к ударам волн, бивших в левую скулу суденышка, удовлетворенно сказал:
— Заходим в залив. Прошу к столу.
Толубеев выпил полстакана крепкой жидкости, пахнущей самогонкой, закрепил перекладинкой тарелку с рыбой и принялся за ужин, больше похожий на завтрак. На его часах, еще с вечера переведенных на европейское время, было три.
Иверсен тоже выпил добрый глоток и пошел к выходу. Остановился на ступеньках у люка, предупредил:
— Я сменю помощника, пусть позавтракает вместе с вами. Парень пошел в такой рейс впервые, ему важно поглядеть на вас. Не опасайтесь, это мой сын. Его зовут Оле.
Тотчас же в люк скользнул помощник. Ему было от силы — шестнадцать. Толубеева удивила его молодость, но он тут же вспомнил, что в советских партизанских отрядах были тысячи таких юношей, и на душе сразу стало легче.
Оле нерешительно поздоровался. Толубеев ответил по-норвежски. Парень вдруг просиял. Оба сразу развеселились, дружелюбно поглядывая друг на друга. Пить Оле не стал, но ел с удовольствием. Объяснил:
— Не знаем, когда вернемся домой. Не знаем, когда высадим вас. Отец приказал: есть, чтобы хватило на все завтра.
— На все сегодня? — поправил Толубеев, показывая на часы.
— И на сегодня, и на завтра, — спокойно ответил парень. — Немцы днем ловят рыбаков. Будем прятаться в шхерах. Огня нет, стука нет. Лодка мертвая. Может, потопленная.
— Потопленная? А как же вы?
— Ну, не совсем, — парень улыбнулся, — Немножко потопленная. Мы в камнях. Там есть пещеры. А лодка тут, на виду, немножко мертвая.
— А я? Тоже немножко мертвый? — пошутил Толубеев.
— Зачем — вы? Вас ждут на берегу. А мы немножко спрячемся. От немцев. Завтра ночью вернемся.
Толубеев смотрел на румяное, еще почти по-детски розовое лицо парня, на его уже крепкие руки, широкие плечи и думал про себя, что он не имеет права не сделать то, чего от него ждут. Ждут там, на родине. Ждут здесь, на лодке. Вероятно, ждут и те, кто его будет встречать на берегу.
Глава вторая. И да поможет нам бог…
1
«На днях войска Северо-Западного фронта перешли в наступление против Демянской группы войск противника. За восемь дней боев наши войска освободили 302 населенных пункта, в том числе город Демянск и районные центры Лычково, Залучье».Совинформбюро. 1 марта 1943 г.
В четыре часа утра Рон Иверсен позвал Толубеева на палубу и указал на слабый луч света, рождавшийся где-то в прибрежных скалах. Сам он стоял у штурвала, мягко маневрируя судном. Но вот судно стало строго по световому лучу и замерло. На мгновение вспыхнул сигнальный огонь на клотике и погас.
К борту подвалила небольшая прогулочная лодка. Иверсен передал в чьи-то руки рюкзак Толубеева, сбросил в лодку штормтрап и обнял Толубеева за плечи. Голос у него стал хриплый, тихий:
— Да будет с вами удача и да поможет вам бог…
— И народ! — твердо ответил Толубеев и спустился в качающуюся лодку. Лодка бесшумно пошла к берегу, а суденышко «Маргит» растаяло в темноте. Только тут Толубеев спохватился, что не попрощался с Оле, сыном шкипера.
«Ничего, все встречи еще в будущем! Я обещаю сегодня и себе, и этим хорошим людям, что сделаю все, как надо! А если я это сделаю, то я смогу увидеть всех этих людей в более доброе и светлое время…»
Лодка шла бесшумно, и Толубеев видел лишь силуэт гребца перед собой на первой банке, а оглянувшись — силуэт пригнувшегося кормчего позади. Но тут лодка прошуршала по песку, гребцы выскочили в ледяную воду, один из них, ни слова не говоря, подошел вдоль лодки к Толубееву и поднял его на руки. Второй взял мешок.
Тот, что нес на руках Толубеева, удивленно сказал:
— Да он же легче пуховой перины!
Несший мешок Толубеева сухо заметил:
— А ты думаешь, что немцы откармливают своих пленных, как дядюшка Диомед свинью перед рождеством? Они их сначала морят, а потом добивают.
Вода перестала плескаться под ногами, носильщики шли уже по песку, но дюжий человек, несший Толубеева, не спускал его с рук. «Боятся оставить лишние следы», — подумал Толубеев. Он хотел было сказать, что понимает язык, но носильщики замолчали: дорога шла в гору.
Они прошли мимо каких-то строений. Толубеев увидел приткнувшуюся у стены автомашину. В машине, очевидно, услышали шаги, потому что в ней вспыхнул свет, открылась задняя дверца. Дюжий носильщик протолкнул Толубеева головой вперед в машину, там чьи-то руки помогли ему сесть. Потом к ногам упал мешок с вещами, оба носильщика в один голос сказали:
— Добрый путь!
Тот, что нес Толубеева, тихо добавил:
— Он очень истощен!
Шофер молча включил мотор, погасил внутренний свет в машине, и она мягко тронулась сначала по гравию, потом вышла на шоссе и ринулась на восток, навстречу чуть светлеющей полосе неба. «Если бы я верил в предзнаменования, — подумал Толубеев, — я бы считал, что все предвещает удачу! Но я не верю в приметы, значит, должен строить удачу сам!»
Он спокойно сидел в углу машины, иногда, при поворотах и виражах, чувствуя плечо соседа. Но так как и шофер, и сосед молчали, он не считал возможным начинать разговор самому.
Шоссе было пустынно, да и весь этот край казался пустынным. Толубеев попытался представить карту Норвегии. Да, на этом побережье залива оживленно только во время курортного сезона. Значит, его везут подальше от побережья, в срединную зону. Конечно, это далеко от Осло, где он должен начать свою работу, но, очевидно, ему пока что дадут прийти в себя. Ведь для них он — беглец из плена. А дальше будет видно.
Они ехали не меньше часа, стало уже светать, когда машина резко свернула с шоссе, проскочила гаревую дорожку между кустами можжевельника, затем — настежь открытые ворота, которые тут же за машиной и закрылись, подошла к темному зданию и затормозила.
Шофер обернулся к Толубееву, спросил по-английски:
— Можете ли вы идти сами или вам нужна помощь?
— Сенк ю, — ответил Толубеев и открыл дверцу машины.
Но шофер, худощавый молодой человек, уже вышел и помог ему. Взяв под руку, он повел его к лестнице, успокаивая все так же по-английски:
— Это обычная слабость от волнения. Она скоро пройдет.
— Благодарю вас! — повторил Толубеев.
Небольшая усадьба, в которой он очутился, показалась ему довольно запущенной. По-видимому, зимой тут никто не жил. Хотя камин и горел жарким пламенем, пар от дыхания был явственно виден. Но в следующей комнате, куда его провели через большой холл с камином, топилась круглая широкая печь и было даже жарко. Через открытую дверцу виднелись крупные куски антрацита, затянутые синим огнем. Здесь стояли деревянная кровать, покрытая по местному обычаю периной, небольшой письменный стол, заваленный газетами на норвежском и немецком языках, гардероб, в который второй провожатый уже раскладывал содержимое толубеевского мешка, два кресла и перед кроватью маленький столик, уставленный какими-то лекарствами.
Второй провожатый, закончив выкладывать вещи из рюкзака, коротко сказал тоже по-английски:
— Переоденьтесь!
Шофер вышел куда-то, а второй провожатый, пожилой, очень крепкий и мускулистый, наклонившись к печке, принялся деловито заталкивать туда рюкзак. Толубеев послушно снял брезентовую робу, надел штатские брюки и пиджак. Второй — провожатый одобрительно оглядел его, взял рыбацкий костюм Толубеева и тоже принялся запихивать в печку. Когда одежда вспыхнула, он тщательно перемешал угли. Толубеев заметил, что он предварительно срезал с рюкзака и с одежды все металлические пряжки и пуговицы.
«Ничего не скажешь, люди с опытом!» — уважительно подумал он, глядя, как снова разгорается пламя в открытой печи.
— Сейчас вам дадут поесть! — все так же по-английски сказал второй. Первый, ведший машину, очевидно, занимался ею. За окном послышалось рычание прогреваемого мотора.
Они ни разу не спросили, не говорит ли он по-норвежски, как будто нарочно избегали этого вопроса. Впрочем, может быть, им лучше будет сказать при необходимости, что человек, которого они видели, говорил по-английски? Тогда можно утверждать, что это был английский летчик. Англичане теперь часто бомбят секретные заводы немцев и морские базы на побережье Северной Норвегии, и, естественно, их порой сбивают, а летчики после вынужденной посадки стремятся пробраться в нейтральную Швецию. Помочь английскому летчику не так уж опасно!
Второй мужчина еще раз перемешал угли в печи, поставил кочергу в угол, поднялся, поклонился, коротко сказал:
— Мы еще увидимся!
И вышел.
Толубеев благодарно посмотрел ему вслед, запоминая широкие плечи, мощные бицепсы, перекатывавшиеся под рукавами легкой куртки, длинные сильные ноги, седую шевелюру. Этому человеку было не меньше пятидесяти, и тем не менее он рисковал! Второй был моложе, ему и рисковать было легче.
Рокот машины утих вдали.
Послышался легкий стук в дверь. Толубеев ответил по-английски:
— Войдите!
Вошла горничная, в наколке, в маленьком передничке, в высоких рабочих башмаках, неся поднос на вытянутых руках. В комнате сразу запахло жареным мясом и свежим кофе. Она прошла к столу у кровати, осторожно сдвинула одной рукой пузырьки на край и поставила поднос.
— Пожалуйста! — тихо пригласила она, повернулась к гостю, делая легкий книксен, вдруг вздрогнула, чуть слышно проговорила: — Не может быть! Вы? Вольёдя!
Только по этому протяжному, не по-русски звучащему милому «Вольёдя!» Толубеев и узнал Виту. Во всем остальном она была похожа на молоденькую вышколенную горничную, каких можно встретить в любой барской усадьбе. Но теперь, когда она с трудом держалась на ногах, она была такой же, как в самый последний день в Осло, когда было совершенно ясно, что он вот-вот навсегда исчезнет из ее жизни.
А она все шептала, как шепчут: «О боже! О боже! О боже!», такое же тихое и сокровенное, только ей принадлежащее: «Вольёдя! Вольёдя! Вольёдя!», — пока наконец он не пересилил свою слабость, пока не сделал два шага до своего потерянного счастья, пока не ощутил на своих губах ее горькие слезы… И только тогда она поверила в то, что перед нею действительно он, потерянный так давно, нечаемый, неожидаемый, невозможный, потому что в этом страшном мире больше ни во что нельзя было верить, кроме разлуки на смерть. Ибо весь мир был разлучен, ибо весь мир страдал, ибо весь мир сражался…
И, отрываясь от нее на мгновение, он так же самозабвенно шептал выстраданное, отстоявшееся в мучениях ее имя: «Вита! Вита! Вита!» — как говорил бы, вероятно, «Жизнь! Жизнь! Жизнь!» — пусть это мгновение жизни было бы короче одного вздоха. Да и было ли будущее у их любви? Если тогда он был всего-навсего посланцем чужого мира, похожим для Виты и окружающих ее людей на марсианина, столь далека была от них Страна Советов, то сейчас он оказался рядом с нею изгоем, беглецом, преследуемым. И она действительно вспомнила об этом его состоянии, потому что руки ее вдруг охватили его голову, прижали к груди, словно она пыталась спрятать его от враждебного мира, спасти от напастей, его ожидавших, как ни слабы были ее силы.
Они сели рядом прямо на кровати, потому что не было ничего другого, где можно было бы сидеть обнявшись, наслаждаясь теплом любимого тела, где бы можно было прижать это второе существо так тесно, чтобы чувствовать себя слитно, и только тут она спросила:
— Так это о тебе шла речь? Боже, как я счастлива!
— Значит, ты тоже участвуешь в Сопротивлении?
— Как видишь! — она засмеялась нежным грудным смехом, похожим на воркование горлинки. Когда-то она часто смеялась этим тайным смехом, потому что часто была счастлива. Сейчас же и сама удивилась возвращению этого чувства, этого пения в груди, в сердце, вдруг смущенно оглядела свой наряд — нелепый для нее передник, нелепые высокие башмачки со шнуровкой, подняла даже руку и тронула гофрированную наколку, покраснела, воскликнула: — Прости, я сейчас! — выскользнула из его рук и побежала из комнаты.
— Куда же ты! — умоляюще воскликнул он, и она задержалась в дверях, шепнула громко:
— Долой эту конспирацию! Сегодня мой праздник!
Он растерянно огляделся. Громко гудела печь. За светло-зелеными шторами явственно приближался рассвет. Все предметы в комнате мирно стояли на местах — ничего не было от сновидения в этом неожиданном сне. Но он все еще не верил своим ощущениям, он все еще боялся, что вот-вот проснется и окажется, что он по-прежнему лежит в госпитале, привязанный на ночь по рукам и ногам, чтобы не перевернулся во сне на изрезанный живот, — тогда, в те тяжелые ночи только и могли сниться такие необыкновенные сны…
На глаза ему попал принесенный Витой поднос и на подносе — серебряный кувшинчик, длинноногий бокал возле него. Он налил дрожащими руками темный напиток в бокал, поднес к лицу, понюхал: коньяк. Его — несчастного беглеца принимали на уровне посла дружественной державы! Толубеев усмехнулся и медленно выпил бокал. По горлу клубком прокатился огонь, и тогда все встало на свои места: Вита здесь! Она принимает участие в движении Сопротивления! В Норвегии растет борьба против фашизма! Но какое это счастье, что он встретил именно Виту!
Он коротко всхлипнул и не понял, смех ли это или рыдание, потому что был близок и к тому и к другому. Встал с постели, поправил смятое покрывало: сидеть одному на кровати было неловко, да и зачем? Есть кресло. Есть стул. Есть, наконец, зеркало, к которому ты можешь подойти и увидеть себя глазами Виты.
Худое истощенное лицо глянуло на него. Худые, бледные до желтизны щеки. Запавшие виски с посеребренными волосами. Да сколько же тебе лет, товарищ Толубеев? Как смогла узнать тебя Вита? Разве что по глазам? — говорят, что глаза никогда не меняются. Но он-то знает, что в те годы, когда он впервые увидел Виту, у него были телячьи глаза, восторженные, уставленные в одну точку — на ее лицо. А теперь у него глаза измученного болью человека, может быть, даже мудрые глаза, а может быть, просто страдающие или ожидающие нового приступа боли. И Вита узнала его!
Он еще дивился этому чуду узнавания, когда распахнулась дверь и снова вошла Вита.
Теперь это была именно она. Такая, какой была тогда. Нарядное шерстяное платье цвета моря с высоким белым воротничком, маленькие туфли с золотыми пряжками, тонкие чулки, сквозь которые видна розовая кожа ног. Пышные белокурые волосы убраны в сетку. Сетку она придумала после первой тайной встречи с ним и тогда же объяснила: «Ты так любишь путать мои волосы, что мне придется причесывать их не меньше часа.
А теперь я уберу их в сетку, и никто не заметит, в каком они беспорядке…». Значит, она помнила каждое его прикосновение, если сберегла даже сетку…
— Я очень изменилась? — с беспокойством спросила она, глядя в его лицо.
— А я?
Она уловила страдание на его лице, быстро подошла и положила руки на его плечи, чуть отстранившись, как в танце, чтобы видеть его глаза. Сказала тихо:
— Ты — да. Но ты мужчина, воин. Я могу только воображать, что ты перенес за это время, но, наверно, никогда не сумею понять по-настоящему. Ты имеешь право быть старше возраста, но я должна быть вечно юной, иначе ты перестанешь меня любить.
Он улыбнулся — уж слишком по-детски прозвучало все это, но ведь ей и всего-то двадцать три! А он, если считать эти годы войны один хоть за три, что в сущности мало! — стал старше на шесть-семь лет.
— Но откуда здесь этот наряд? — спросил он, все еще разглядывая ее.
— Завтра я должна быть в городе. Не могу же я поехать туда в роли служанки?
— Как? Уже завтра? — он не сумел скрыть своего огорчения. Она радостно засмеялась:
— Вот теперь я вижу, что ты все-таки помнишь меня! — она остереглась произнести «любишь» и только приблизила глаза к его глазам, словно пыталась заглянуть в душу.
— Люблю! Люблю! — охотно подтвердил он.
— Почему же ты не поцеловал меня? — смущенно спросила она.
— Но ведь «завтра» еще не началось для нас! Ты же еще побудешь со мной?
— Да! Да! Спрашивай, я вижу, что тебе надо о многом спросить.
— Чья это усадьба?
— Одного из наших друзей.
— Кто эти люди, что помогли мне и привезли сюда?
— Наши друзья.
— Местная полиция не интересуется усадьбой?
— В местной полиции есть наши друзья.
— Могут ли твои друзья помочь мне перебраться в Осло?
— Пока тебе не следует делать это. Все, что тебе понадобится, я привезу сама.
— А если мне захочется встретиться с кем-нибудь?
Она задумалась.
— Я спрошу об этом, когда тебе понадобится встреча.
Он осторожно сказал:
— Я понимаю тебя и твоих друзей. Они пошли на крупный риск, помогая советскому военнопленному. Но ведь я солдат. И никто не освобождал меня от воинской присяги. Если я оказался на свободе, я обязан бороться.
— Ты обвесишься гранатами и нападешь на немецкуюказарму?
— Есть много способов борьбы, — задумчиво сказал он. — Вот почему мне нужно поблагодарить твоих друзей за помощь и как можно скорее исчезнуть.
— Ты только что встретил меня и уже хочешь исчезнуть? — жалобно воскликнула она.
— Что ты, Вита! — он сжал ее с такой силой, какой давно уже не чувствовал в себе. — Я только не хочу доставлять неприятности твоим друзьям. Но если мне удастся устроиться в Осло, разве мы не будем ближе друг к другу? Ведь ты не можешь надолго покидать дом, отца?
— Отец знает, где я, — гордо сказала она.
Толубеев вспомнил чопорного промышленника, в друзьях которого числились министры и сенаторы, которого с удовольствием принимал король, и тихо улыбнулся. Теперь друзьями промышленника стали друзья Виты! Удивительно меняет людей жизнь!
— Все! — решительно сказал он. — Ты меня убедила! Я подчиняюсь тебе и твоим друзьям и принимаю их помощь и твою!
Она радостно чмокнула его в щеку и вдруг с отчаянием воскликнула:
— О, твой ужин! Он же остыл совсем! И ванна! Ванна!
Выбежала из комнаты и скоро вернулась с серебряной спиртовкой. Взяла со стола спички, зажгла спиртовку и поставила что-то разогревать. В комнате запахло вкусной едой.
Вита поставила на столик вторую рюмку, наполнила ее и тихо сказала:
— Пусть следующая встреча будет по-настоящему счастливой!
2
«Несколько дней назад наши войска начали решительный штурм города Ржева. Немцы давно уже превратили город и подступы к нему в сильно укрепленный район. Сегодня, 3 марта, после длительного и ожесточенного боя наши войска овладели Ржевом».Совинформбюро. 3 марта 1943 г.
Когда он проснулся, Виты не было в комнате. Но на столике стояло блюдо с гренками, дымился кофе. Рядом лежала записка: «Позавтракай один. Я пошла к друзьям».
«Пошла, — подумал он. — Значит, эти друзья живут где-то рядом».
И удивился своим мыслям. Он думал не как влюбленный о возлюбленной, которую встретил после долгой разлуки, а как разведчик. И подумал о самом себе так же, как вчера — об отце Виты: «Удивительно меняет людей жизнь!» — и сам рассмеялся своим мыслям.
Да. Он разведчик, и это есть главное в его жизни. Все другое пока — преходящая радость или преходящая печаль. И думать ему надо о том задании, которое ему поручено.
Одевшись, выпив кофе, он медленно пошел из комнаты в комнату. Медленно и осторожно.
Все окна были закрыты плотными шторами, и это наводило на мысль, что обитатели маленькой усадьбы не напрасно прибегают к таким предосторожностям. Очень может быть, что в эту минуту кто-нибудь рассматривает усадьбу и двор в бинокль и ждет, не шевельнется ли штора на окне?
Но любопытство оказалось выше осторожности. Обойдя комнаты внизу, Толубеев поднялся на второй этаж. И еще с лестницы, ведущей из нижнего холла в верхний, увидел не столько свет, сколько сияние. Перед ним была заснеженная равнина, окаймленная с одной стороны невысокими горами, утекавшая так далеко на север, что недоставало зрения и высоты, чтобы заметить ее границы, и только на самом горизонте темнело что-то похожее на воду. Толубеев стоял поодаль от окна и все глядел и не мог насытиться этим беспредельным сиянием, пока наконец не прорезалась мысль: «Я знаю это место! Это озеро Треунген!»
Теперь он словно бы определился в пространстве: он находился в центре южнонорвежского полуострова, недалеко от городка Треунген, на озере, где у господина Масона, отца Виты, была усадьба. Когда-то господин Масон, принимавший работников торгпредства по поводу заключения весьма выгодного контракта на поставку руды, показывал фотографии озера и его крутых, похожих на бараньи лбы, скал. Там, где снег был сдут ветрами, скалы и впрямь походили на бараньи лбы. Были среди этих фотографий и снимки «усадьбы», и пляжа с купающимися, — эти фотографии привлекли его больше, на них он увидел Виту. Были там и фотографии других усадеб или вилл, домиков для отдыха, — все в цвете, ярко окрашенные, с широкими квадратными окнами, это была зона отдыха для привилегированных лиц…
Он сел в низкое кресло у стены и осмотрелся. Холл был прорезан широкими окнами, с трех сторон. Со своего наблюдательного поста Толубеев видел и озеро через среднее окно — с севера на юг, — судя по низкому зимнему солнцу, и крутую дугу побережья — сначала в восточное окно, потом в западное. На побережье были редко-редко разбросаны такие же усадьбы, окаймленные живыми изгородями из можжевельника и вереска. Конечно, где еще могла отдыхать семья Виты? Только там, где отдыхают члены стортинга и правительства, промышленная и дворянская знать страны. Пожалуй, если здесь и есть немецкие шпионы, то они не прячутся за живыми изгородями в снегу, они приходят на рауты, на вечерний чай, на балы и там вершат свои дела, тем более что многие из этих знатных норвежцев, из этих государственных деятелей преданы гитлеровскому райху душой и телом и уж, конечно, собираются принять участие в разделе завоеванного фашистами мира. В то, что фашизм может быть разгромлен, они еще не верят и поверят разве что в тот день, когда союзные армии ворвутся в пределы Германии. Но когда это будет? Еще и второго фронта нет, еще лучшие земли России находятся под пятой фашизма — что им беспокоиться, этим функционерам и помощникам Гитлера!
Он каким-то вторым зрением увидел Виту. Девушка на лыжах вдоль березовой рощи, похожей на привычные подмосковные, по самому берегу озера, шла быстро, легко. И хотя на таком расстоянии нельзя было рассмотреть ни лица, ни походки, хотя это могла быть и любая из миллиона женщин и девушек страны, он знал — идет Вита!
Он спустился задолго до того, как услышал стук оставленных лыж и палок, удары веника по башмакам. И тут распахнул дверь.
От нее пахло свежим снегом и морозцем. Раскрасневшееся лицо при виде его сразу окрасилось радостью, как будто она перед этим боялась, что уже не увидит его в доме. Но теперь, когда он был перед нею, она мягко выскользнула из объятий:
— Я должна переодеться и приготовить завтрак!
— Ты ждешь гостей?
— Но ведь ты тоже гость и такой долгожданный!
— Где ты была?
— У наших друзей. Я должна была посоветоваться об убежище для тебя. Завтра я должна быть на работе…
— Ты работаешь? — в голосе его прозвучало такое изумление, что она рассмеялась. Лукаво ответила:
— Все лояльные женщины Норвегии должны оказывать помощь великому германскому соседу…
— Военную?
— Ну, я до этого еще не дошла. Просто отец устроил меня секретарем в один из отделов своего акционерного общества. Ты ведь знаешь, он один из членов правления…
— Да, да, — машинально подтвердил он. — Еще в тридцать восьмом ты прочитала мне лекцию о том, что полсотни членов правлений главных банков Норвегии занимают в общей сложности почти триста важнейших постов в зависимых акционерных обществах и фирмах…
— Высший балл по экономике! Ты прекрасный слушатель!
Но так как он все еще не желал отпустить ее, она вынула из кармана лыжной куртки небольшой бумажник и протянула ему:
— Это друзья просили передать тебе!
Он открыл бумажник и увидел под целлофановой подкладкой личное удостоверение с собственной фотографией. Да и все удостоверение было его собственным: его имя и фамилия, только именовался он Вольдемар Толубеев, и было в удостоверении указано, что родился он в Нарвике, отец — русский, моряк, владелец судна, мать — из общины Нарвика, дочь владельца рыбного завода, произошло это событие в 1913 году, отец и мать скончались…
Трудно было оторваться от созерцания собственного перевоплощения. Он решительно спросил:
— Но почему — русский?
— Надо же чем-то оправдать твой акцент? — улыбнулась Вита. — А в Нарвике, в Ставангере всегда жило много русских норвежцев. Их там так и называли. И это были не эмигранты с нансеновскими паспортами, а давние поселенцы. Сейчас немцы выселили этих русских на Дафотенские острова, но их не интернировали, не загнали в лагерь. С таким паспортом ты вполне можешь жить в Осло… Хотя я совсем не понимаю, почему тебе хочется лезть в это осиное гнездо! — жалобно добавила она. — И друзья моих друзей, передавшие этот документ, тоже молчат.
— Я уже сказал тебе, Вита, что обязан продолжать войну, — мягко напомнил он.
— Хорошо, — грустно согласилась она. — А пока посмотри эти газеты! — она разложила веером на столе пачку газет. — Тут нет только советских. Но есть шведские, есть немецкие, французские, правда, только из оккупированной зоны. Есть и наши, но только квислинговские. Держать другие норвежские газеты здесь опасно.
— А такие тоже есть?
— Не меньше трех сотен, и половина из них выходит в Осло! — строго ответила она. — В четверть листа, в половинку; напечатанные на гектографе и написанные от руки; сделанные и в настоящих типографиях, и за обеденным столом. И их становится все больше! Мы ведь продолжаем нашу борьбу! — она выглядела очень гордой. — И восстанови свой норвежский! Ты теперь говоришь не лучше лапландца! — она помахала рукой и исчезла.
А он еще долго разглядывал свой «вид на жительство».
Да, друзья, которым поручили заботу о нем, подумали обо всем. А еще больше его поразило, что во внутреннем кармане бумажника оказалась пачка крон, — как он понял, — приданое на первые дни новой жизни…
Только после того как он запомнил все даты, сообщенные в его удостоверении, все знаки, цифры и подписи, он перешел к газетам.
Норвежская «Дагбладет» оказалась значительно тоньше прежней. Сводка с русско-немецкого фронта была трехдневной давности. Главным событием в ней было названо и выделено крупным шрифтом сообщение о наступлении гитлеровцев в районе Харькова. А вот об освобождении Демянска и ликвидации опасного демянского плацдарма, на котором немцы сидели целый год, ни слова. О советском наступлении на Кубани и на Украине — тоже. Но еще отвратительней выглядела лживая сводка немцев от двадцать третьего февраля о том, что русские якобы потеряли за двадцать месяцев войны восемнадцать миллионов солдат и офицеров, сорок восемь тысяч орудий и тридцать четыре тысячи танков — эта ложь была опубликована без каких-либо примечаний! А кто же тогда гонит немцев? Кто разгромил их армии под Москвой и под Сталинградом? Кто выгнал их из четырнадцати областей? По-видимому, квислинговцы все еще не понимают, что перелом в войне уже наступил!
Он сердито отшвырнул газету, даже не заглянув в сводки из Африки и Азии. Невольно подумалось, как же трудно пробивается правда о войне через немецкую цензуру!
Шведские газеты не изменились: такие же пухлые! Нейтралам хватало целлюлозы. Чувствовалось, что в стране кипит деловое возбуждение. Продавались и покупались имения, фабрики, заводы. Требовались служащие и рабочие. Морякам торговых судов сулили крупные премии за своевременную доставку грузов. Появилось множество каких-то смешанных немецко-шведских фирм: судоходных, торговых, промышленных. Гитлер не жалел марок и золота. Швеция стала его подлинным тылом. Тут бомбы не падали, промышленность и торговля развивались бурно.
Толубеев усиленно просвещался, раздумывая в то же время: как действовать? Вита сказала: «Наши друзья»! Но «наши друзья» помогают просто из человеколюбия и ненависти к захватчикам. А как быть дальше? Пробираться в Осло самостоятельно? Этот город стал главной перевалочной базой на пути в Германию. Или, может быть, пробраться на север, в область Финмарк, к Сер-Варангеру? Там главный центр по добыче железной руды. Но это тысяча километров пути! И там больше всего немцев, которые, несомненно, интересуются всеми приезжими. Городское самоуправление и вся полиция области, конечно, у них в руках. Человек, говорящий по-норвежски как «лапландец», вызовет опасные подозрения, как бы ни были хороши его документы…
Было о чем подумать.
А где-то на кухне резвилась Вита. Вот она прогремела сковородками. Вот запела. Вот оборвала песню, наверно, завтрак поспел.
И верно, Вита распахнула дверь, склонилась в книксене и певуче произнесла:
— Прошу господина Вольёдю к столу!
Да, не следует ее огорчать. Пусть хоть день, да будет принадлежать ей!
Он торжественно предложил руку и проследовал в столовую.
Завтрак был приготовлен царский: форель, кофе со сливками, плоские рюмки для коньяка, плоская коньячная фляга. Вита в ответ на изумленный возглас Толубеева церемонно произнесла:
— Не удивляйтесь, милый господин: контрабанда военного времени! Коньяк привозят немцы из Парижа и продают на черном рынке…
Дальше: Часть вторая

