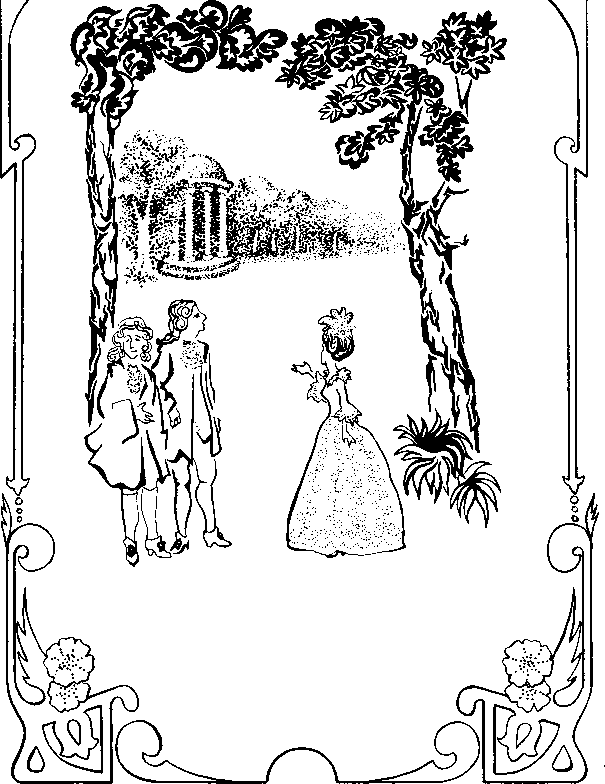Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 18. Джузеппе Бальзамо. Часть 1,2,3 1994
Назад: LXVI АНДРЕ ДЕ ТАВЕРНЕ
Дальше: LXXXI ЗАГОВОР ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ
LXXI
ЖИЗНЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Руссо полагал, что совершенно успокоил своего больного. Тереза рассказывала всем соседкам, что, по мнению знаменитого доктора г-на де Жюсьё, здоровью Жильбера теперь ничто не угрожало. На самом же деле, в то время, когда все успокоились, Жильбер подвергался жесточайшей опасности из-за своего упрямства и неискоренимой мечтательности.
Руссо не мог быть настолько доверчив, чтобы не таить в глубине души прочно укоренившейся подозрительности, основанной на каком-то философском рассуждении.
Зная, что Жильбер влюблен, и застав его с поличным в то время, как он нарушал предписания врача, Руссо рассудил, что Жильбер способен повторить ошибки, если предоставить ему свободу.
По-отечески заботясь о молодом человеке, Руссо хорошенько запер чердачную дверь на замок, оставив влюбленному возможность in petto лазать в окошко, но не позволив выходить из комнаты.
Нельзя себе представить, до какой степени эта опека, превращавшая его чердак в тюрьму, разгневала Жильбера. Она заставила его задуматься о будущем.
На некоторых людей принуждение оказывает плодотворное влияние!
Все мысли Жильбера отныне занимала Андре. Он мечтал о счастье видеть ее, наблюдать хотя бы издали за ее выздоровлением.
Однако Андре не появлялась у окна павильона. Одна лишь Николь показывалась время от времени с отваром из трав на фарфоровом блюде, да барон де Таверне шагал взад и вперед по садику, сердито сопя, будто пытался прийти в себя, — вот и все, что мог видеть Жильбер, жадно вглядываясь в окна и пытаясь проникнуть сквозь толстые стены.
Впрочем, эти подробности немного его успокаивали, потому что свидетельствовали о болезни, но не о смерти Андре.
"Там, за этой дверью или за этим ставнем, — говорил он себе, — дышит, страдает та, которую я страстно люблю, боготворю; та, при виде которой я начинаю дрожать, задыхаться; та, от которой зависит моя жизнь".
С этими мыслями Жильбер так высовывался из окошка, что любопытная Шон каждую минуту готова была поверить в то, что он собирается выброситься. Жильбер наметанным глазом прикидывал толщину перегородок, паркета и фундамента павильона и выстраивал в голове точный его план: там должна быть комната барона де Таверне, вон там — кладовая и кухня, в той стороне — комната Филиппа, здесь — спальня Николь и, наконец, комната Андре, святая святых, перед дверью которой он готов был отдать жизнь за право провести там на коленях один-единственный день.
Это святилище в представлении Жильбера было большой комнатой в первом этаже, задуманной первоначально как приемная. По мнению Жильбера, из этой комнаты в спальню Николь должна была выходить застекленная дверь.
— Счастливы те, — воскликнул в припадке неистовой зависти безумец, — кто гуляет в саду, куда выходят окна из моей комнаты и с лестницы! Счастливы те, кто равнодушно топчет землю недалеко от павильона! Должно быть, по ночам оттуда слышны стоны и жалобы Андре.
От мечты до ее исполнения так далеко! Однако люди с богатым воображением умеют сокращать это расстояние. Даже в невозможном они усматривают действительное, они умеют перебрасывать мосты через реки, приставлять лестницы к горам.
В первое время Жильбер предавался мечтаниям.
Потом он пришел к мысли, что счастливцы, вызывающие у него зависть, не более чем простые смертные, которые топчут землю такими же, как у него, ногами и у которых руки умеют открывать двери. Он представил себе, как он был бы счастлив проскользнуть украдкой к этому запретному дому и подслушать под окнами, о чем говорят в комнатах.
Жильберу мало было мечтать, он должен был немедленно перейти к исполнению задуманного.
Кстати сказать, к нему быстро возвращались силы. Молодость изобильна и щедра. Три дня спустя Жильбер вследствие возбуждения чувствовал себя как никогда сильным.
Он прикинул, что раз Руссо его запер, то одна из самых больших трудностей устранена: необходимость входить к мадемуазель де Таверне через ворота.
И действительно, дверь ее дома выходила на улицу Кок-Эрон; Жильбер, запертый на улице Платриер, не мог попасть ни на одну из улиц. Следовательно, не имея возможности выйти, он не имел нужды и отворять ворота.
Оставались окна.
Оконце его чердака было прорезано в отвесной стене высотой в сорок восемь футов.
Не будучи пьяным или сумасшедшим, вряд ли кто-нибудь отважился бы по ней спуститься.
"До чего же, все-таки, хорошее изобретение — дверь, — повторял он про себя, кусая кулаки, — а философ Руссо взял да и запер ее!
Может, вырвать замок? Это нетрудно. Но уж тогда нет никакой надежды вернуться в гостеприимный дом.
Из замка Люсьенн — сбежал, с улицы Платриер — сбежал, из замка Таверне — сбежал. Если все время убегать, то это значит — не сметь смотреть людям в глаза из боязни услышать упрек в неблагодарности или легкомыслии.
Нет, господин Руссо ни о чем не узнает".
Присев у окошка на корточки, Жильбер продолжал размышлять:
"Ноги и руки — естественные инструменты свободного человека. С их помощью я зацеплюсь за черепицу и, держась за водосточный желоб — правда, довольно узкий, зато прямой и, следовательно, самый короткий путь между двумя точками, — я доберусь, если мне суждено добраться, до соседнего оконца. А это — окно на лестницу. Если не доберусь, я упаду в сад; это наделает шуму, из павильона прибегут люди, меня подымут, узнают; это будет красивая, благородная, поэтичная смерть; я вызову к себе жалость — превосходно!
Если доберусь — а я на это рассчитываю, — то пролезу через окно на лестницу, спущусь босиком до второго этажа, откуда окно тоже выходит в сад; от земли до окна — пятнадцать футов. Я спрыгну… Увы! У меня нет ни прежней силы, ни ловкости! Правда, я смогу держаться за шпалеру… Да, но ее решетка вся источена червями и рассыплется; я полечу вниз — и где тогда моя благородная и поэтичная смерть? Я буду весь вывалян в известке, оборван, — стыдно! — я буду похож на воришку, полезшего в сад за яблоками. Об этом даже страшно подумать! Барон де Таверне прикажет привратнику вытолкать меня в шею, или Ла Бри надерет мне уши.
Нет, у меня здесь есть двадцать бечевок, из них можно связать веревку; как говорит господин Руссо, из соломинок складывается сноп. Я позаимствую у госпожи Терезы бечевки всего на одну ночь, свяжу их узлами и, добравшись до окна второго этажа, привяжу веревку к балкончику или даже за водосточный желоб и спущусь в сад".
Осмотрев желоб, он отвязал бечевки, измерил их, прикинул на глаз высоту и почувствовал себя сильным и решительным.
Он свил из бечевок крепкую веревку, попробовал свои силы, подвесив ее за чердачную балку, и обрадовался, убедившись в том, что на губах выступило совсем немного крови; он решился на ночную вылазку.
Желая обмануть г-на Жака и Терезу, он притворился больным и не вставал с постели до двух часов, то есть до того времени, когда Руссо имел обыкновение после обеда отправляться до самого вечера на прогулку.
Жильбер объявил, что хочет спать и не собирается вставать до утра.
Руссо предупредил, что будет ужинать в городе; он был рад, что у Жильбера такие благие намерения.
На том они и расстались.
Едва Руссо вышел, Жильбер опять связал бечевки и на этот раз свил их на совесть.
Он снова ощупал желоб и черепицу и стал до наступления темноты следить за садом.
LXXII
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВОЗДУХУ
Итак, Жильбер был готов к путешествию во вражеский сад: так он мысленно называл дом Таверне. Из своего окошка он внимательно изучал местность, подобно опытному стратегу, собиравшемуся дать бой. Неожиданно в доселе молчаливом, тихом доме разыгралась сцена, привлекшая внимание нашего философа.
Через садовую ограду перелетел камешек и ударил о стену дома.
Жильбер уже знал, что без причины не бывает следствия. Так как следствие он видел, то стал искать причину.
Впрочем, хотя Жильбер и высовывался из окошка, он так и не разглядел человека, который бросил с улицы камень.
Он догадался, что происходящее связано с недавними событиями. Он увидел, как осторожно приотворился один из ставней первого этажа и в окне показалось настороженное лицо Николь.
При виде Николь Жильбер нырнул в свою мансарду, ни на секунду, однако, не теряя из виду проворную служанку.
Окинув внимательным взглядом все окна, а окна павильона особенно пристально, Николь вышла из своего убежища и поспешила в сад к шпалере, где были развешаны сушиться на солнце кружева.
Камень, откатившись, оказался у нее на дороге по пути к шпалере; Жильбер, как и Николь, не сводил с него глаз. Жильбер увидел, как она подбила ногой камень, очень интересовавший ее в эту минуту, потом еще раз ударила по нему, катя его перед собой, пока он не очутился возле клумбы под шпалерой.
Николь подняла руки, отцепляя кружева, и уронила одно из них, а потом стала медленно поднимать и в то же время схватила камень.
Юноша еще ни о чем не догадывался. Однако, видя, с какой старательностью Николь, словно гурман, очищающий орех, снимает с аэролита кожуру в виде бумаги, в которую он был завернут, Жильбер наконец понял действительную степень важности брошенного камня.
Николь и в самом деле подняла записку — ни больше ни меньше, — в которую был завернут камень.
Плутовка проворно ее развернула, с живым интересом прочитала, опустила в карман, и кружева перестали ее интересовать: они высохли.
Жильбер покачал головой и, будучи вообще невысокого мнения о женщинах, сказал себе, что Николь оказалась на самом деле порочной особой, а он, Жильбер, рассудил здраво и поступил нравственно и разумно, порвав так смело и решительно с девицей, получающей через стену записки.
Жильбер, только что открыв причину и сделав правильный вывод, осудил следствие, первоначальной причиной которого, возможно, был он сам.
Николь вернулась в дом, потом опять вышла, держа руку в кармане.
Она достала ключ; Жильбер видел, как он блеснул у нее в руке. Потом девушка проворно сунула ключ под садовую калитку, расположенную в другом конце стены, выходившей на ту же улицу, что и главный вход.
"Отлично! — подумал Жильбер. — Я понимаю: в записке назначено свидание. Николь не теряет времени даром. У Николь, стало быть, новый любовник?"
Жильбер нахмурился; он испытывал разочарование человека, полагавшего, что разлука с ним будет невосполнимой потерей в сердце оставленной им женщины, но он видит, к безмерному своему удивлению, что пустота уже заполнена.
"Вот кто может нарушить все мои планы, — продолжал рассуждать Жильбер, пытаясь найти причину своего дурного расположения духа. — Не имеет значения, я не сержусь, что нашелся счастливец, занявший мое место в сердце мадемуазель Николь".
Жильбер умел рассуждать здраво. Он сейчас же сообразил, что, став свидетелем этой сцены, о чем никто пока не знает, он получил преимущество перед Николь; он мог бы им при случае воспользоваться, потому что знал тайну Николь во всех подробностях, и она не могла бы их отрицать. В то же время она лишь догадывалась о его секрете, и ни одна подробность не могла бы обратить ее подозрения в уверенность.
Жильбер дал себе слово воспользоваться при случае своим преимуществом.
Наконец наступила долгожданная ночь.
Жильбер боялся теперь только одного: неожиданного прихода Руссо. Он опасался, что Руссо увидит его на крыше, на лестнице или просто заметит, что чердак пуст. В этом случае гнев женевца будет ужасен. Жильбер решил отвести от себя удары при помощи записки. Он оставил ее на столике, адресовав философу.
Записка была составлена в следующих выражениях:
"Дорогой и прославленный покровитель!
Не думайте обо мне плохо. Несмотря на Ваши советы и даже приказания, я все-таки позволил себе выйти. Я должен скоро вернуться, если только со мной не приключится чего-нибудь вроде того, что произошло недавно. Но если мне грозит нечто подобное или даже хуже, я все равно должен выйти на два часа".
"Не знаю, что я скажу, когда вернусь, — думал Жильбер, — но, по крайней мере, господин Руссо не будет волноваться и сердиться".
Ночь была темная. Было душно, как обычно бывает в первые жаркие весенние дни. Небо было облачным, и в половине девятого даже самый зоркий глаз ничего не мог бы различить в глубине темной пропасти, в которую заглядывал Жильбер.
Внезапно юноша заметил, что ему стало трудно дышать, голова и грудь — в испарине, а это означало слабость и вялость. Осторожность шептала ему, что в таком состоянии не стоит пускаться в рискованное предприятие, требовавшее от него все силы не только для успеха предприятия, но и просто для безопасности. Однако Жильбер не послушался внутреннего голоса.
В нем еще громче говорила сила воли; молодой человек, по своему обыкновению, ее велениям и внял.
Пора было отправляться. Жильбер намотал веревку вокруг шеи (получилось двенадцать витков) и с бьющимся сердцем стал выбираться из окошка, изо всех сил уцепившись за наличник, потом ступил на желоб и осторожно двинулся вправо к окну на лестнице, которую отделяло от окна Жильбера примерно два туаза.
Итак, он переступал по свинцовому желобу шириной не более восьми дюймов, который, хотя и поддерживался железными скобами, вбитыми через определенное расстояние в стену, из-за мягкости свинца едва держался и оседал под тяжестью шагов. Руками Жильбер держался за черепицу, но это помогало ему лишь удерживать равновесие. Если бы он сорвался, черепица не смогла бы ему помочь, потому что пальцам не за что было ухватиться. Вот в таком положении оказался Жильбер во время своего перехода по воздуху, занявшего две минуты, вернее, длившегося целую вечность.
Но Жильбер и не боялся: сила воли его была столь велика, что он не желал поддаваться страху. Он слышал однажды, что канатоходец, чтобы благополучно пройти своим опасным путем, должен смотреть не под ноги, а на десять шагов впереди себя, и если думать о пропасти, то представлять себя орлом, то есть убеждать себя: он может парить над ней, она создана для этого. Кроме того, Жильбер уже применял на практике эти правила, когда много раз пробирался по ночам к Николь, той самой Николь, которая расхрабрилась теперь до такой степени, что позволяет приходит к ней на свидания не по крышам и трубам, а пользуясь ключами и дверьми.
Молодой человек вот так же переправлялся когда-то по мельничным затворам в Таверне и чердачным балкам старого сарая.
Он достиг цели без малейшего трепета и проскользнул на лестницу.
И замер. С нижних этажей доносились голоса Терезы и ее соседок, разглагольствовавших о гениальности г-на Руссо, о достоинствах его книг и благозвучии его музыки.
Соседки прочитали "Новую Элоизу" и сознались, что считают книжку непристойной. В ответ на критику г-жа Тереза заметила, что они не понимают философского смысла этого прекрасного романа.
Соседкам нечего было возразить: не признаваться же в собственном невежестве относительно подобных материй!
Эта беседа на высокие темы велась между дамами, находившимися на разных площадках лестницы. Однако пыл спора был не столь горяч, как жар печей, на которых готовился аппетитный ужин.
Жильбер слушал доводы споривших и в то же время вдыхал запах жарившегося мяса.
Его имя, прозвучавшее в шуме голосов, заставило его испуганно вздрогнуть.
— После ужина, — говорила Тереза, — схожу в мансарду посмотреть, не нужно ли чего дорогому мальчику.
Слова "дорогой мальчик" не могли доставить ему большого удовольствия: он испугался ее обещания навестить его. Впрочем, он сейчас же вспомнил, что, когда Тереза ужинала в одиночестве, она любила подолгу беседовать с бутылочкой: жаркое казалось таким вкусным! А "после ужина" могло означать… часов в десять. Теперь же было, самое большее, без четверти девять. Кстати, после ужина мысли Терезы, по всей вероятности, примут совсем другой оборот и она станет думать о чем угодно, только не о "дорогом мальчике".
Однако, к большому сожалению Жильбера, время шло, а он бездействовал. Вдруг чье-то жаркое стало подгорать… Раздался предупреждающий крик встревоженной кухарки, и все разговоры мигом прекратились.
Все разбежались к своим кастрюлям.
Жильбер воспользовался тем, что эти дамы занялись ужином, и, как сильф, беззвучно проскользнул вниз по лестнице.
Во втором этаже он быстро отыскал желоб, за который привязал веревку, и стал не спеша спускаться.
Он висел как раз между желобом и землей, как вдруг услыхал под собой в саду торопливые шаги.
Он успел вскарабкаться назад, цепляясь за узлы на веревке, и стал высматривать, кто этот злополучный человек, помешавший ему спуститься.
Это был мужчина.
Он шагал со стороны садовой калитки, и Жильбер не сомневался, что это тот самый счастливчик, которого поджидала Николь.
Он обратил все свое внимание на помешавшего ему незнакомца. По походке и характерному профилю под треугольной шляпой, а также по тому, как треуголка была лихо надвинута на ухо, Жильбер узнал славного Босира, того самого капрала, с которым Николь познакомилась перед отъездом из Таверне. Босир тоже настороженно прислушивался.
Почти в ту же минуту Жильбер увидел, как Николь отворила дверь павильона, бросилась в сад, оставив дверь незапертой, и легко, словно юная пастушка, метнулась к оранжерее, куда уже направился г-н Босир.
Это было, по всей вероятности, не первое их свидание, потому что ни он, ни она ни секунды не колебались в выборе места встречи.
"Вот теперь я могу спокойно спуститься, — подумал Жильбер, — если Николь в этот час принимает любовника, значит, она уверена, что ей ничто не помешает. Андре, стало быть, одна! Господи, она одна!.."
В самом деле, стояла полная тишина и не видно было ничего, кроме слабого света в первом этаже.
Жильбер благополучно опустился на землю, но не захотел идти через сад напрямик. Он приблизился вдоль забора к окружавшим дом деревьям, бросился сквозь их гущу, пригибаясь к земле, и, оставаясь незамеченным, подбежал к незапертой двери.
Вся стена была увита плющом, свешивавшимся над дверью, поэтому юношу трудно было заметить. Он притаился и заглянул в первую комнату. Это была просторная прихожая, как он и предполагал, совершенно в этот час безлюдная.
Из этой комнаты во внутренние покои вели две комнаты: одна была заперта, другая — нет. Жильбер догадался, что незапертая дверь ведет в комнату Николь.
Он крадучись вошел в дом, вытянув руки перед собой, чтобы не натолкнуться на что-нибудь в темноте, ведь в прихожей не было ни одного огонька.
Впрочем, в конце некоего подобия коридора была видна застекленная дверь с занавесками, сквозь которые просачивался слабый свет. С другой ее стороны колыхались от ветра муслиновые занавески.
Идя по коридору, Жильбер различил слабый голос, доносившийся из освещенной комнаты.
Это был голос Андре. Сердце Жильбера затрепетало.
Голосу Андре вторил голос Филиппа.
Молодой человек заботливо справлялся о здоровье сестры.
Жильбер с опаской подошел к двери и встал за одной из полуколонн, которыми, украшая их бюстами, принято было в те времена оформлять двухстворчатые двери.
Оказавшись в безопасности, он стал слушать и смотреть. Сердце его то прыгало от радости, то сжималось от страха.
Он все видел и слышал.
LXXIII
БРАТ И СЕСТРА
Итак, Жильбер все слышал и видел.
Андре полулежала на кушетке лицом к застекленной двери — другими словами, лицом к Жильберу. Дверь была приотворена.
На столике, заваленном книгами (единственном развлечении страдающей красавицы), стояла небольшая лампа под абажуром, освещавшая лишь нижнюю часть лица мадемуазель де Таверне.
Время от времени она откидывала голову на подушку, и тогда свет заливал ее чистый лоб, белизну которого еще больше подчеркивали кружева.
Филипп сидел к Жильберу спиной, примостившись в ногах у сестры; рука его по-прежнему была на перевязи, и он не мог ею пошевелить.
Андре в первый раз поднялась после злополучного фейерверка, а Филипп впервые вышел из своей комнаты.
Молодые люди еще не виделись со времени той ужасной ночи; им только докладывали друг о друге, что они чувствуют себя лучше.
Они встретились всего несколько минут назад и говорили свободно, так как были уверены в том, что они одни. Если бы кто-нибудь вздумал зайти в дом, они были бы предупреждены об этом звоном колокольчика, висевшего на двери, которую Николь оставила открытой.
Они не знали об этом последнем обстоятельстве и потому рассчитывали на колокольчик.
Как мы уже сказали, Жильбер все прекрасно видел и слышал: через приотворенную дверь он не упускал из разговора ни единого слова.
— Значит, тебе теперь легче дышится, сестричка? — спросил Филипп в ту самую минуту, как Жильбер устраивался за колыхавшейся от ветра занавеской, что была на двери туалетной комнаты.
— Да, гораздо легче. Правда, грудь еще побаливает.
— Ну, а силы к тебе вернулись?
— До этого еще далеко; впрочем, сегодня я уже смогла подойти к окну. До чего хорош свежий воздух! А цветы! Мне кажется, пока человека окружают цветы и свежий воздух, он не может умереть.
— Но ты еще чувствуешь слабость?
— О да! Потрясение было так ужасно! Я пока передвигаюсь с трудом, — улыбаясь и покачивая головой, продолжала девушка, — и держусь за мебель и за стены. Ноги без опоры подкашиваются, мне кажется, я вот-вот упаду.
— Ничего, бодрись Андре, свежий воздух и цветы поднимут тебя на ноги. Через неделю ты сможешь отправиться с визитом к ее высочеству дофине, — мне говорили, что она часто справляется о твоем здоровье.
— Надеюсь, Филипп; ее высочество в самом деле очень добра ко мне.
Андре откинулась на кушетке, положив руку на грудь, и прикрыла глаза.
Жильбер сделал было шаг вперед, протянув к ней руки.
— Что, больно, Андре? — взяв ее за руку, спросил Филипп.
— Да, судороги… иногда кровь начинает стучать в висках, а то еще свет меркнет в глазах и сердце словно останавливается.
— Это не удивительно, — задумчиво проговорил Филипп, — ты пережила такой ужас! Ты просто чудом уцелела.
— Именно чудом, ты это хорошо сказал, дорогой брат.
— Кстати, о твоем чудесном спасении, — продолжал Филипп, придвигаясь к сестре и словно подчеркивая этим важность своего вопроса, — ты ведь знаешь, что я еще не успел поговорить с тобой о случившемся несчастье?
Андре покраснела. Казалось, она испытывает некоторую неловкость.
Филипп не заметил или сделал вид, что не замечает ее смущения.
— Я думала, что, когда я вернулась, ты мог узнать все подробности. Отец мне сказал, что рассказ господина Бальзамо его вполне удовлетворил.
— Разумеется, дорогая Андре. Этот господин был чрезвычайно деликатен — так мне, по крайней мере, показалось. Однако некоторые подробности его рассказа показались мне не то чтобы подозрительными, а… как бы это выразиться… неясными!
— Что ты хочешь этим сказать, брат? — простодушно спросила Андре.
— То, что сказал.
— Выражайся, пожалуйста, яснее.
— Есть одно обстоятельство, — продолжал Филипп, — на которое я сначала не обратил внимания, а теперь оно представляется мне весьма странным.
— Что это за обстоятельство? — спросила Андре.
— Я не совсем понял, как ты была спасена. Расскажи мне, Андре.
Казалось, девушка сделала над собой усилие.
— Ах, Филипп, я почти ничего не помню, ведь мне было так страшно!
— Ничего, дорогая, расскажи, что помнишь.
— О Господи! Ты же знаешь, брат, что мы потеряли друг друга шагах в двадцати от Королевской кладовой. Я видела, как толпа потащила тебя к саду Тюильри, а меня к Королевской улице. Еще мгновение — и ты исчез из виду. Я пыталась к тебе пробиться, протягивала к тебе руки, кричала: "Филипп! Филипп!" — как вдруг меня словно подхватил водоворот и понес к решеткам. Я чувствовала, что людской поток, в котором я оказалась, несется на стену, что он вот-вот об нее разобьется. До меня доносились крики тех, кого прижали к решеткам. Я поняла, что сейчас наступит моя очередь, что тоже буду раздавлена, растоптана, и считала оставшиеся секунды. Я была полумертва, почти потеряла рассудок и вдруг, подняв руки и глаза к небу, увидела человека со сверкающими глазами; он словно возвышался над толпой, а люди ему повиновались.
— И человек этот был барон Джузеппе Бальзамо, не так ли?
— Да, тот самый, которого я видела в Таверне; тот, который еще там поразил меня; тот, который будто заключает в себе нечто сверхъестественное. Этот человек подчинил себе мой взгляд, заворожил меня своим голосом, заставил трепетать все мое существо, едва коснувшись пальцем моего плеча.
— Продолжай, Андре, продолжай, — мрачно проговорил Филипп.
— Мне показалось, что человек этот парит над толпой, словно чужие несчастья не могут его коснуться. Я прочла в его глазах желание спасти меня, я поняла, что он может это сделать. В эту минуту со мной произошло нечто необъяснимое. Несмотря на то что я вся была разбита, обессилена, почти мертва, я почувствовала, как неведомая, неодолимая сила поднимает меня навстречу этому человеку. Мне казалось, будто чьи-то руки напряглись, выталкивая меня прочь из людского месива, откуда неслись предсмертные стоны, эти руки возвращали мне воздух, жизнь. Понимаешь, Филипп, — продолжала Андре в сильном возбуждении, — я уверена, что меня притягивал взгляд этого человека. Я добралась до его руки и была спасена.
"Увы, она видела его, — прошептал Жильбер, — а меня, умиравшего у ее ног, даже не заметила".
Он вытер со лба пот.
— Значит, все произошло именно так? — спросил Филипп.
— Да, до той самой минуты, как я почувствовала себя вне опасности, все так и происходило. То ли вся моя жизнь сосредоточилась в этом моем последнем усилии, то ли испытываемый мною в ту минуту ужас оказался выше моих сил, но я потеряла сознание.
— В котором часу ты лишилась чувств, как ты думаешь?
— Минут через десять после того, как потеряла тебя из виду.
— Значит, было около двенадцати часов ночи, — отметил Филипп. — Как же в таком случае вышло, что ты вернулась домой в три часа? Прости мне этот допрос, дорогая Андре, он может показаться нелепым, но для меня он имеет большое значение.
— Спасибо, Филипп, — сказала Андре, пожимая брату руку, — спасибо! Еще три дня назад я не смогла бы ответить, но сегодня, — это может показаться странным, — я отчетливее вижу все внутренним взором; у меня такое ощущение, будто чья-то чужая воля повелевает мне вспомнить, и я припоминаю.
— Дорогая Андре! Я сгораю от нетерпения. Этот человек поднял тебя на руки?
— На руки? — покраснев, пролепетала Андре. — Не помню… Помню только, что он вытащил меня из толпы. Однако прикосновение его руки подействовало на меня так же, как в Таверне. Едва он до меня дотронулся, как я вновь лишилась чувств, вернее, словно уснула, потому что обмороку предшествуют болезненные ощущения, а я в тот раз просто заснула благодатным сном.
— По правде говоря, Андре, все, что ты говоришь, представляется мне до такой степени странным, что, если бы не ты, а кто-нибудь другой мне это рассказал, я бы ему не поверил. Ну хорошо, договаривай, — закончил он невольно дрогнувшим голосом.
В это время Жильбер жадно ловил каждое слово Андре: он-то знал, что пока все до единого слова было правдой.
— Я пришла в себя, — продолжала девушка, — и увидела, что нахожусь в изысканной гостиной. Горничная вместе с хозяйкой сидели рядом со мной и, казалось, ничуть не были встревожены; едва раскрыв глаза, я увидела, что меня окружают улыбающиеся лица.
— Ты не помнишь, в котором это было часу?
— Часы пробили половину первого.
— Ага! Прекрасно! — с облегчением вздохнул молодой человек. — Что же было дальше, Андре?
— Я поблагодарила женщин за хлопоты. Зная, что ты беспокоишься, я попросила немедленно отправить меня домой. Они отвечали, что граф опять пошел на место катастрофы за ранеными; он должен был скоро вернуться вместе с каретой и отвезти меня к тебе. Было около двух часов, когда я услыхала шум подъезжающей кареты; меня охватила дрожь, какую я уже испытывала при приближении этого человека. Я упала без чувств на софу. Дверь распахнулась, и, несмотря на обморок, я почувствовала, что пришел мой спаситель. Я опять потеряла сознание. Должно быть, меня снесли вниз, уложили в фиакр и привезли домой. Вот все, что я помню.
Филипп высчитал время и понял, что сестру привезли с улицы Луврских Конюшен прямо на улицу Кок-Эрон, так же как раньше она была доставлена с площади Людовика XV на улицу Луврских Конюшен. С нежностью взяв ее за руку, он радостно произнес:
— Благодарю тебя, сестра, благодарю! Все расчеты совпадают с моими. Я пойду к маркизе де Савиньи и поблагодарю ее. Позволь задать тебе один второстепенный вопрос.
— Пожалуйста.
— Постарайся вспомнить, не видела ли ты в толпе знакомое лицо?
— Я? Нет.
— Маленького Жильбера, например?
— Да, в самом деле, — сказала Андре, силясь вспомнить все. — Да, в тот момент, когда нас с тобой разлучили, он был от меня в нескольких шагах.
"Она меня видела", — прошептал Жильбер.
— Дело в том, Андре, что когда я искал тебя, я нашел бедного парня.
— Среди мертвых? — спросила Андре с оттенком любопытства, которое существа высшего порядка проявляют к низшим.
— Нет, он был только ранен; его спасли, и я надеюсь, что он поправится.
— Прекрасно, — заметила Андре. — А что с ним было?
— У него была раздавлена грудь.
"Да, да, об твою, Андре", — прошептал Жильбер.
— Однако во всем этом есть нечто странное, вот почему я говорю об этом мальчике. Я нашел в его сведенной болью руке клочок твоего платья.
— Это действительно странно.
— Ты его не видела в последнюю минуту?
— В последнюю минуту, Филипп, я видела столько страшных лиц, искаженных ужасом и страданием, столько эгоизма, любви, жалости, алчности, цинизма, что мне кажется, будто я целый год прожила в аду; среди всех этих лиц, промелькнувших перед моими глазами как вереница всех проклятых Богом, я, вполне возможно, видела и Жильбера, но совсем этого не помню.
— Откуда же в его руке взялся клочок от твоего платья? Ведь он от твоего платья, дорогая Андре, я выяснил это у Николь…
— И ты ей сказал, откуда у тебя этот клочок? — спросила Андре: ей вспомнилось объяснение с горничной по поводу Жильбера в Таверне.
— Да нет! Итак, этот клочок был у него в руке. Как ты можешь это объяснить?
— Боже мой, нет ничего проще, — спокойно объяснила Андре в то время, как у Жильбера сильно билось сердце. — Если он был рядом со мной в ту самую минуту, как меня стала приподнимать, если можно так выразиться, сила взгляда того господина, Жильбер, вероятно, уцепился за меня, чтобы вместе со мной воспользоваться помощью, подобно тому как утопающий хватается за пловца.
"Как низко истолкована моя преданность! — презрительно прошептал Жильбер в ответ на высказанное девушкой соображение. — Как дурно думают о нас, простых людях, эти благородные! Господин Руссо прав: мы лучше их, наше сердце благороднее, а рука — крепче".
Он снова хотел прислушаться к разговору Андре с братом, но вдруг позади него послышались шаги.
"Господи! В передней кто-то есть!" — испугался Жильбер.
Он услыхал, что кто-то идет по коридору, и ринулся в туалетную комнату, задернув за собой портьеру.
— А что, эта сумасшедшая Николь здесь? — послышался голос барона де Таверне; задев Жильбера фалдами сюртука, он прошел в комнату дочери.
— Она, наверное, в саду, — отвечала Андре со спокойствием, свидетельствовавшим о том, что она не подозревала о присутствии кого-то еще. — Добрый вечер, отец!
Филипп почтительно поднялся, барон махнул ему рукой в знак того, что тот может оставаться на прежнем месте, и, подвинув кресло, сел рядом с детьми.
— Ах, дети мои, от улицы Кок-Эрон далеко до Версаля, особенно если ехать туда не в прекрасной дворцовой карете, а в наемной коляске, запряженной одной-единственной лошадью! Однако я в конце концов увиделся с дофиной.
— Так вы приехали из Версаля, отец?
— Да, принцесса любезно пригласила меня к себе, как только узнала, что произошло с моей дочерью.
— Андре чувствует себя гораздо лучше, отец, — заметил Филипп.
— Мне это известно, и я об этом сообщил ее высочеству. Принцесса обещала мне, что, как только твоя сестра окончательно поправится, ее высочество призовет ее к себе в Малый Трианон; дофина выбрала его своей резиденцией и теперь устраивает там все по своему усмотрению.
— Я буду жить при дворе? — робко спросила Андре.
— Это нельзя назвать двором, дочь моя: ее высочество не любит светской жизни, дофин тоже терпеть не может блеска и шума. В Трианоне вас ожидает жизнь в тесном семейном кругу. Правда, судя по тому, что мне известно о характере ее высочества, маленькие семейные сборища похожи на королевские заседания парламента или на Генеральные штаты. У принцессы твердый характер, а дофин — выдающийся мыслитель, как я слышал.
— Это будет все тот же двор, сестра, — грустно заметил Филипп.
"Двор! — повторил про себя Жильбер, закипая от бессильной злобы. — Двор — это недостижимая для меня вершина, это бездна, в которую я не могу броситься! Не будет больше Андре! Она для меня потеряна, потеряна!"
— У нас нет состояния, чтобы жить при дворе, — обратилась Андре к отцу, — и мы не получили должного воспитания. Что я, бедная девушка, стала бы делать среди всех этих блистательных дам? Я видела их только однажды и была ослеплена их великолепием. Правда, мне показалось, что ума они несколько поверхностного, но зато остроумны. Увы, брат, мы недостаточно воспитанны, чтобы жить среди всего этого блеска!..
Барон насупился.
— Опять эти глупости! — воскликнул он. — Не понимаю, что у моих детей за привычка: принижать все, что исходит от меня или меня касается! Недостаточно воспитанны! Да вы просто с ума сошли, мадемуазель! Как это урожденная Таверне-Мезон-Руж может быть недостаточно воспитанной? Кто же тогда будет блистать, если не вы, скажите на милость? Состояние… Ах, черт побери, да знаю я, что такое состояние при дворе! Оно истаивает в лучах короны и под теми же лучами вновь расцветает — в этом заключается великий круговорот жизни. Я разорился, ну и что же, я снова стану богатым, только и всего. Разве у короля нет больше денег, чтобы раздавать их своим верным слугам? Или вы думаете, что я покраснею, если моему сыну дадут полк или когда вам предложат приданое, Андре? Ну, а если мне вернут мои владения или пожалуют ренту, грамоту на которую я найду под салфеткой за ужином в тесном кругу?.. Нет, нет, только у глупцов могут быть предубеждения. А у меня их нет… Кстати, я просто возвращаю себе то, что всегда мне принадлежало; пусть совесть вас не мучает. Остается обсудить последний вопрос: ваше воспитание, о чем вы только что говорили. Запомните, мадемуазель: ни одна девица при дворе не воспитывалась так, как вы. Более того, помимо воспитания, получаемого знатными девушками, вы получили солидное образование, подобно дочерям судейских и финансистов. Вы прекрасно музицируете. Вы рисуете пейзажи с барашками и коровками, которые одобрил бы сам Берхем. Так вот, ее высочество без ума от барашков, от коровок и от Берхема. Вы хороши собой, и король не преминет это заметить. Вы прекрасная собеседница, а это важно для графа д’Артуа или его высочества графа Прованского. Итак, к вам не только будут относиться благосклонно… вас будут обожать. Да, да, — проговорил барон, потирая руки и так странно засмеявшись, что Филипп взглянул на отца, не веря, что так может смеяться человек. — Да, именно так: вас будут обожать!
Андре опустила глаза, Филипп взял ее за руку.
— Господин барон прав, — произнес он, — в тебе есть все, о чем он сказал, Андре. Ты более, чем кто бы то ни было, достойна Версаля.
— Но ведь я буду с вами разлучена!.. — возразила Андре.
— Ни в коем случае! — поспешил ответить барон. — Версаль большой, дорогая.
— Да, зато Трианон маленький, — продолжала упорствовать Андре: она была несговорчивой, когда ей пытались перечить.
— Как бы там ни было, в Трианоне всегда найдется комната для барона де Таверне; для такого человека, как я, найдется место, — прибавил он скромно, что означало: "Такой человек, как я, сумеет найти себе место".
Андре не была уверена в том, что отцу в самом деле удастся устроиться поблизости от нее. Она обернулась к Филиппу.
— Сестра. — заговорил тот, — ты не будешь состоять при дворе в полном смысле этого слова. Вместо того чтобы поместить тебя в монастырь, заплатив за тебя взнос, ее высочество пожелала выделить тебя и теперь станет держать при себе, пользуясь твоими услугами. В наши дни этикет не так строг, как во времена Людовика Четырнадцатого. Обязанности распределяются иначе, а зачастую и совмещены. Ты можешь быть при ее высочестве чтицей или компаньонкой; она сможет рисовать вместе с тобой, она будет держать тебя всегда при себе. Возможно, мы не будем видеться, это вполне вероятно. Ты будешь пользоваться ее благосклонностью и потому многим будешь внушать зависть. Вот чего тебе следует опасаться, ведь правда?
— Да, Филипп.
— Ну и прекрасно! — воскликнул барон. — Однако не стоит огорчаться из-за такой ерунды, как один-два завистника… Поскорее поправляйся, Андре, и я буду иметь честь сопровождать тебя в Трианон. Таково приказание ее высочества дофины.
— Хорошо, отец.
— Кстати, — продолжал барон, — ты при деньгах, Филипп?
— Если они вам нужны, — отвечал молодой человек, — то у меня их не так много, чтобы предложить вам. Если же вы намерены предложить денег мне, то, напротив, я мог бы вам ответить, что у меня их пока достаточно.
— Да ты и вправду философ, — насмешливо заметил барон. — Ну, а ты, Андре, тоже философствуешь? Ты тоже ни о чем не просишь или тебе все-таки что-нибудь нужно?
— Мне не хотелось бы вас беспокоить, отец…
— Да ведь мы не в Таверне. Король велел вручить мне пятьсот луидоров… в счет будущих расходов, как сказал его величество. Подумай о туалетах, Андре.
— Благодарю вас, отец, — обрадовалась девушка.
— Ах-ах, что за крайности! — воскликнул барон. — Только что ей ничего было не нужно, а сейчас она разорила бы самого китайского императора! Ничего, Андре, проси. Красивые платья тебе к лицу.
Нежно поцеловав дочь, барон отворил дверь в свою комнату.
— Ах, эта проклятая Николь! — проворчал он. — Опять ее нет! Кто мне посветит?
— Хотите, я позвоню, отец?
— Нет, у меня есть Ла Бри; уснул, наверное, в кресле. Спокойной ночи, дети!
Филипп тоже поднялся.
— Ты тоже иди, брат, — сказала Андре, — я очень устала. Я впервые после несчастья так много говорю. Спокойной ночи, дорогой Филипп.
Она протянула молодому человеку руку, он по-братски приложился к ней, вложив в поцелуй некоторую долю уважения, всегда испытываемого им к сестре, и вышел в коридор, задев портьеру, за которой прятался Жильбер.
— Не позвать ли Николь? — крикнул он на прощание.
— Нет, нет, — отвечала Андре, — я разденусь сама, покойной ночи, Филипп!
LXXIV
ТО, ЧТО ПРЕДВИДЕЛ ЖИЛЬБЕР
Оставшись в одиночестве, Андре поднялась с кресла, и Жильбера охватила дрожь.
Андре стоя вынимала из волос белыми, словно вылепленными из гипса, руками одну за другой шпильки, а легкий батистовый пеньюар струился по плечам, приоткрывая ее нежную, грациозно изогнувшуюся шею, трепетавшую грудь; небрежно поднятые над головой руки подчеркивали изгиб талии.
Стоя на коленях, Жильбер задыхался, он был опьянен зрелищем, он чувствовал, как яростно колотится у него в груди сердце и стучит в висках кровь. В жилах его пылал огонь, глаза заволокло кровавым туманом, в ушах стоял гул, он испытывал сильнейшее возбуждение. Он был близок к тому, чтобы потерять i олову, безумие толкало его на отчаянный шаг. Он готов был броситься в комнату Андре с криком: "Да, ты хороша, ах, как ты хороша! Но перестань кичиться своей красотой, ведь ты ею обязана мне, потому что я спас тебе жизнь!"
Поясок у Андре никак не развязывался. Она в сердцах топнула ногой и опустилась на постель, будто небольшое препятствие ее обессилило. Наполовину раздетая, она потянулась к шнурку звонка и нетерпеливо дернула его.
Звонок привел Жильбера в чувство. Николь оставила дверь незапертой, чтобы услышать звонок. Сейчас Николь вернется.
Прощай, мечта, прощай, счастье! Останется лишь воспоминание. Ты вечно будешь жить в моем воображении, ты навсегда останешься в моем сердце!
Жильбер хотел было выскочить из павильона, но барон, входя к дочери, притворил двери в коридор.
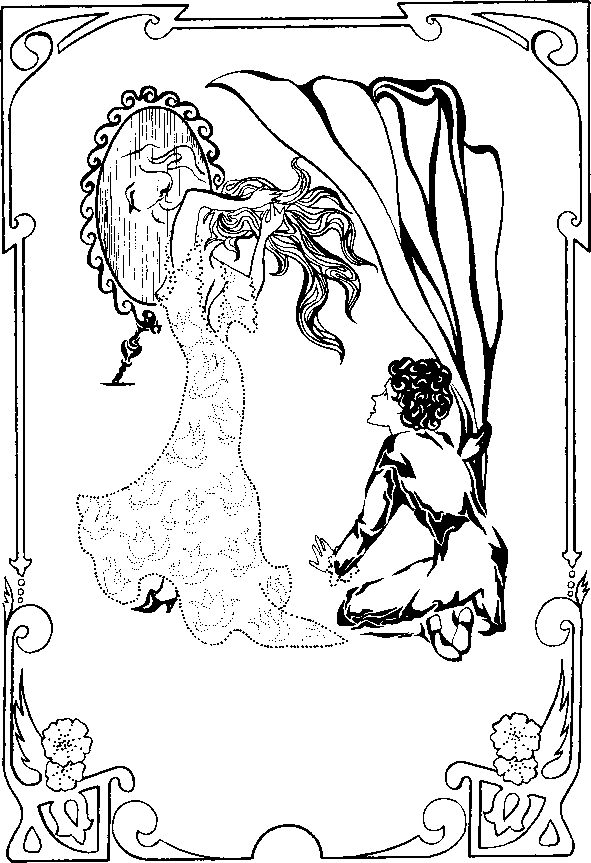
Не подозревавшему об этом Жильберу пришлось потратить некоторое время на то, чтобы их отворить.
В ту минуту как он входил в комнату Николь, служанка приближалась к дому. Он услышал, как скрипели по песку ее шаги. Он едва успел отступить в темный угол, пропуская девушку. Заперев дверь, она прошла через переднюю и легкой пташкой порхнула в коридор.
Жильбер прокрался в переднюю и попытался выйти.
Но когда Николь вбежала в дом с криком: "Я здесь, я здесь, мадемуазель! Я запираю дверь!" — она в самом деле заперла ее на два оборота и впопыхах сунула ключ в карман.
Жильбер сделал безуспешную попытку отворить дверь.
Он бросился к окнам, но на них были решетки. И после пятиминутного осмотра Жильбер понял, что не может выйти.
Молодой человек забился в угол, твердо решив, что заставит Николь отпереть дверь.
А Николь придумала для своего отсутствия благовидный предлог. Она сказала, что ходила закрывать рамы оранжереи, опасаясь, как бы ночной воздух не повредил цветам. Она помогла Андре раздеться и уложила ее в постель.
Голос Николь подрагивал, движения рук были порывисты, она была необыкновенно услужлива. Все это свидетельствовало о ее волнении. Впрочем, Андре витала в облаках и редко взглядывала на землю, а если и удостаивала ее взгляда, то простые смертные проплывали мимо нее, словно пылинки.
Итак, она ничего не замечала.
Жильбер горел нетерпением с тех пор, как ему было отрезано отступление. Теперь он стремился только к свободе.
Андре отпустила Николь, обменявшись с ней всего несколькими словами; Николь разговаривала так приветливо, как только была способна, подобно субретке, мучимой угрызениями совести.
Она подоткнула хозяйке одеяло, поправила абажур у лампы, добавила сахару в серебряный кубок с остывшим питьем, стоявший на алебастровом ночнике, нежнейшим голоском пожелала хозяйке приятного сна и на цыпочках вышла из комнаты.
Напевая, чтоб все поверили в ее спокойствие, она прошла к себе в комнату и направилась к двери в сад.
Выходя, она прикрыла за собой застекленную дверь.
Жильбер понял намерение Николь и подумал было, не стоило ли, вместо того, чтобы показываться ей на глаза, прошмыгнуть неожиданно, воспользовавшись моментом, пока дверь будет приотворена, и удрать. Но тогда его увидят, хотя и не узнают. Его примут за вора, Николь станет звать на помощь, он не успеет добежать до своей веревки, а если и успеет, его заметят в воздухе. Разразится скандал, и большой, раз Таверне могут так дурно думать о бедном Жильбере.
Правда, он выдаст Николь, и ее прогонят. Впрочем, зачем? В таком случае Жильбер причинил бы зло без всякой для себя пользы, из чувства мести. Жильбер был не настолько малодушен, чтобы испытывать удовлетворение от мести. Месть без выгоды выглядела, по его мнению, дурно: это была глупость.
Когда Николь поравнялась с входной дверью, где ее поджидал Жильбер, он внезапно шагнул из темного угла ей навстречу, и падавший через окно свет луны осветил его фигуру.
Николь чуть было не вскрикнула, но она приняла Жильбера за другого и, справившись с волнением, проговорила:
— A-а, это вы… Как вы неосторожны!
— Да, это я, — едва слышно отвечал Жильбер. — Только не поднимайте шума, когда увидите, что я не тот, за кого вы меня принимаете.
На сей раз Николь узнала собеседника.
— Жильбер! — воскликнула она. — Боже мой!
— Я вас просил не кричать, — холодно вымолвил молодой человек.
— Что вы здесь делаете, сударь? — грубо спросила его Николь.
— Вы неосторожно назвали меня по имени, а сейчас поступаете еще более неосторожно, причем для себя самой, — проговорил Жильбер с прежним спокойствием.
— Да, я и в самом деле могла бы не спрашивать, что вы здесь делаете.
— Что же я, по-вашему, здесь делаю?
— Вы пришли подглядывать за мадемуазель Андре.
— За мадемуазель Андре? — не теряя присутствия духа, переспросил Жильбер.
— Вы в нее влюблены, да она-то, к счастью, вас не любит.
— Неужели?
— Ох, берегитесь, господин Жильбер! — с угрозой в голосе продолжала Николь.
— Я должен беречься?
— Да.
— Что же мне угрожает?
— Берегитесь, как бы я вас не выдала.
— Ты, Николь?
— Да, я! И вас выгонят отсюда.
— Только попробуй! — с улыбкой возразил Жильбер.
— Ты мне угрожаешь?
— Угрожаю.
— Что же будет, если я скажу мадемуазель, господину Филиппу и господину барону, что встретила вас здесь?
— А будет то, как ты говоришь, что выгонят не меня, — меня и так слава Богу уже выгнали! — меня будут травить как дикого зверя. А вот кого отсюда выгонят, так это Николь.
— То есть как Николь?
— Ну, разумеется, Николь, ту самую Николь, которой бросают камешки через стену.
— Берегитесь, господин Жильбер, — угрожающе проговорила служанка, — на площади Людовика Пятнадцатого у вас в руках нашли клочок от платья мадемуазель.
— Вы в этом уверены?
— Господин Филипп говорил об этом со своим отцом. Он еще ни о чем не подозревает, но если ему помочь, он, может быть, кое о чем догадается.
— Кто же ему поможет?
— Я, конечно.
— Будьте осторожны, Николь, ведь барон может также узнать, как под видом того, что вы развешиваете кружева, на самом деле подбираете камешки, которые вам бросают через стену.
— Неправда! — вскрикнула Николь.
Потом она передумала и решила не запираться.
— Ничего нет особенного в том, что я получаю записки! Это не так страшно, как пробраться сюда в то время, как мадемуазель раздевается… Что вы на это скажете, господин Жильбер?
— Скажу, мадемуазель Николь, что нехорошо такой благоразумной девушке, как вы, просовывать ключи под садовые калитки.
Николь всю передернуло.
— Скажу, — продолжал Жильбер, — что, будучи хорошо знакомым и барону де Таверне, и господину Филиппу, и мадемуазель Андре, я совершил ошибку, пробравшись к ней, потому что очень беспокоился о здоровье бывших хозяев, особенно мадемуазель Андре, которую я пытался спасти на площади, старался так, что у меня в руке остался, как вы сами подтвердили, клочок ее платья. Скажу, что если я совершил эту вполне простительную ошибку, пробравшись сюда, то вы поступили непростительно, введя постороннего в дом своих хозяев и бегая на свидания с этим посторонним в оранжерею, где привели с ним около часу.
— Жильбер! Жильбер!
— Вот что такое добродетель… добродетель мадемуазель Николь, я хотел сказать. Ах, вам не нравится, что я оказался в вашей комнате, мадемуазель Николь? А вы в это время…
— Господин Жильбер!
— Так скажите своей хозяйке, что я в нее влюблен, а я скажу, что пришел не к ней, а к вам, и она мне поверит, потому что вы имели глупость сказать ей об этом сами еще в Таверне.
— Жильбер, дружочек!..
— И вас прогонят, Николь. Вместо того чтобы отправиться вместе со своей хозяйкой в Трианон ко двору ее высочества и кокетничать с богатыми и знатными сеньорами, — а это вы непременно стали бы делать, останься вы в доме, — вместо этого вам придется убраться вместе со своим любовником, господином де Босиром, воякой-капралом. Ах, какое падение! Далеко же вас завело ваше честолюбие, мадемуазель Николь! Николь — любовница французского гвардейца!
Жильбер расхохотался и пропел:
Я в гвардии французской Любовника нашла!
— Сжальтесь, господин Жильбер, — пролепетала Николь, — не смотрите на меня так! Какие у вас недобрые глаза, они так и горят в темноте! Пожалуйста, перестаньте смеяться, я боюсь вашего смеха.
— Тоща отоприте мне дверь, Николь, — приказал Жильбер, — и ни слова больше!
Николь отворила дверь. Ее охватила сильная нервная дрожь: плечи ее ходили ходуном, а голова тряслась, будто у старухи.
Жильбер был совершенно спокоен; он вышел первым и, видя, что девушка идет за ним следом, обратился к ней:
— Нет! Вы знаете способ провести сюда людей, а у меня — свой способ выйти отсюда. Ступайте в оранжерею к досточтимому господину де Босиру — он, должно быть, заждался. Оставайтесь там на десять минут дольше, чем рассчитывали. Я вам дарю их в обмен на ваше молчание.
— Десять минут? Почему десять? — спросила затрепетавшая Николь.
— Да потому, что за это время я успею исчезнуть. Ступайте, мадемуазель Николь, и не оборачивайтесь, подобно жене Лота, историю которой я вам рассказывал в Таверне в те времена, когда вы назначали мне свидания в стогу сена. Иначе с вами случится нечто худшее, чем если бы вы обратились в соляной столп. Ступайте, сладострастница, ступайте. Больше мне нечего прибавить.
Покорная, напуганная, подавленная самоуверенностью Жильбера, от которого теперь зависело ее будущее, Николь с опущенной головой подошла к оранжерее, где ее дожидался встревоженный капрал Босир.
А Жильбер с прежними предосторожностями подошел к стене; оставаясь незамеченным, он взялся за веревку и, отталкиваясь от увитой диким виноградом решетки трельяжа, добрался до желоба второго этажа, а потом ловко вскарабкался на мансарду.
Судьба пожелала, чтобы он никого не встретил на своем пути: соседки уже легли, а Тереза была еще за столом.
Жильбер был так возбужден одержанной над Николь победой, что ни разу не оступился, передвигаясь по желобу. В эту минуту он готов был пройти по лезвию бритвы длиной в целое льё.
Ведь целью его пути была Андре.
Итак, он добрался до чердака, запер окно и разорвал записку, к которой так никто и не притронулся.
Он с удовольствием растянулся на кровати.
Спустя полчаса послышался голос Терезы: она спрашивала через дверь, как он себя чувствует.
Жильбер поблагодарил ее, позевывая и тем самым давая понять, что его клонит ко сну. Он страстно желал вновь остаться в одиночестве, в темноте и тишине; ему хотелось помечтать вволю, насладиться воспоминаниями; он сердцем, разумом, всем своим существом словно заново переживал события этого незабываемого дня.
Однако вскоре на глаза его опустилась пелена и исчезли все: и барон, и Филипп, и Николь, и Босир; перед глазами у него осталась лишь Андре — полуобнаженная, с приподнятыми над головой руками, вытаскивавшая шпильки из своих прекрасных волос.
LXXV
БОТАНИКИ
События, о которых мы только что рассказали, произошли в пятницу вечером; а в воскресенье в лесу Люсьенна должна была состояться прогулка; к ней, словно к празднику, готовился Руссо.
Жильбер ко всему был равнодушен с тех пор, как узнал о предстоящем отъезде Андре в Трианон. Он целый день не отходил от окошка. Окно Андре оставалось отворено, раза два девушка подходила к нему, еще слабая и бледная, подышать воздухом. Когда Жильбер видел ее, ему казалось, что ничего не просил бы у Бога, знай он, что Андре суждено жить в этом павильоне вечно, а у него была бы только эта мансарда, откуда он мог бы дважды в день, как теперь, мельком видеть девушку.
Наконец настало желанное воскресенье. Руссо приготовился к нему еще накануне: его туфли сверкали; серый сюртук, теплый и в то же время легкий, был извлечен из шкафа, к большому огорчению Терезы, полагавшей, что для подобного занятия было бы вполне довольно полотняной блузы. Ничего ей не отвечая, Руссо делал так, как считал нужным. Он тщательно осмотрел не только свою одежду, но и костюм Жильбера, прибавив к нему целые чулки и подарив молодому человеку новые башмаки.
Был приведен в порядок и костюм собирателя трав. Не забыл Руссо и свою коллекцию мхов, которой предназначено было сыграть свою роль.
Руссо, словно ребенок, не мог усидеть на месте от нетерпения; он раз двадцать подбегал к окну посмотреть, не едет ли карета г-на де Жюсьё. Наконец он увидел лакированный экипаж, запряженный лошадьми в богатой сбруе; огромный кучер в пудреном парике остановился перед дверью. Руссо бросился к Терезе:
— Вот и он! Вот и он!
Потом он обратился к Жильберу:
— Скорее, Жильбер, скорее! Нас ждет карета!
— Раз вы так любите разъезжать в карете, — ядовито заметила Тереза, — отчего же вы не заработаете на нее, как господин де Вольтер?
— Ну-ну! — проворчал Руссо.
— Конечно! Вы любите повторять, что так же талантливы, как и он.
— Я этого никогда не говорил, слышите? — крикнул Руссо, разозлившись на жену. — Я говорю, что… Ничего я не говорю!
Радость его в ту же минуту улетучилась, как бывало всякий раз, когда он слышал имя своего врага.
К счастью, в эту минуту вошел г-н де Жюсьё.
Он был напомажен, напудрен, свеж, словно сама весна. На нем был прекрасный костюм из толстого индийского атласа в рубчик, красно-серого цвета, камзол из светло-лиловой тафты, белоснежные шелковые чулки, а золотые сверкающие пряжки довершали этот странный наряд.
Когда он вошел к Руссо, комната наполнилась таким благоуханием, что Тереза стала вдыхать воздух, не скрывая восхищения.
— До чего вы нарядны! — проговорил Руссо, предостерегающе взглянув на Терезу и мысленно сравнивая свой скромный туалет и объемистое снаряжение с элегантным костюмом г-на де Жюсьё и его огромным экипажем.
— Да нет, просто я боюсь жары, — отвечал разряженный ботаник.
— А как же роса в лесу? И что будет с вашими чулками, если мы будем собирать травы в болоте?..
— Ну что вы, зачем? Мы выберем другое место.
— А как же болотные мхи? Мы, стало быть, не сможем ими сегодня заняться?
Не будем об этом думать, дорогой собрат.
— Похоже, вы собрались на бал или к дамам.
— Отчего не оказать почтение и не надеть шелковые чулки ради дамы по имени Природа? — несколько смутившись, 20-380 отвечал г-н де Жюсьё. — Ведь это любовница, которая стоит того, чтобы ради нее понести убытки, не так ли?
Руссо не стал спорить. Как только г-н де Жюсьё упомянул о природе, Руссо сейчас же согласился, что оказать ей слишком много чести просто невозможно.
А Жильбер, несмотря на свой стоицизм, смотрел на г-на де Жюсьё не без зависти. С тех пор как он увидел так много элегантных юношей, врожденное превосходство которых еще более подчеркивал их туалет, он понял преимущество элегантности. Он говорил себе, что атлас, батист, кружева только усилили бы очарование его молодости. Если бы вместо своего теперешнего костюма он надел такой, как у г-на де Жюсьё, Андре, вне всякого сомнения, обратила бы на него внимание.
Пара отличных датских лошадей бежала рысью. Спустя час после отъезда ботаники уже спускались к Буживалю и поворачивали налево на дорогу в Шатенье.
Эта прогулка в наши дни была бы просто восхитительна; в те времена она была, по крайней мере, так же хороша, потому что часть склона, открывшаяся взору наших путешественников, была засажена лесом еще при Людовике XIV и оставалась предметом неусыпных забот короля с тех пор, как он полюбил бывать в Марли.
Каштаны, фантастических очертаний, с шероховатой корой и огромными ветвями, напоминали то змею, кольцами обвившую ствол, то быка, опрокинутого мясником на стол и исходящего черной кровью. Яблони стояли будто в белой пене. Огромные кусты орешника были в этот июньский день желтовато-зелеными, но скоро листья их должны были стать зеленовато-голубыми. Местность была безлюдна; живописный косогор уходил под тенистые деревья и вновь показывался под матовой голубизной неба. Величественная, но в то же время привлекательная и меланхоличная природа привела Руссо в состояние неизъяснимого восхищения.
А Жильбер был спокоен, но печален. Вся его жизнь заключалась в одной-единственной фразе: "Андре переезжает из садового павильона в Трианон".
На вершине склона, по которому ботаники поднимались пешком, возвышалось квадратное здание стены замка Люсьенн.
Вид павильона, из которого он сбежал, изменил течение мыслей Жильбера. Он вернулся к менее приятным воспоминаниям, в которых, правда, не было места страхам. Ведь он шагал сзади, а впереди него шли два его покровителя, и поэтому он чувствовал себя вполне уверенно. Он смотрел на Люсьенн, как потерпевший крушение разглядывает с берега песчаную отмель, на которой разбилось его судно.
Руссо шел с небольшой лопаткой в руке. Он начал поглядывать под ноги, г-н де Жюсьё — тоже. Правда, первый искал растения, а второй берег чулки от росы.
— Восхитительный lepopodium! — сказал Руссо.
— Очаровательный, — согласился г-н де Жюсьё, — однако давайте пойдем дальше, хорошо?
— А вот lyrimachia fenella! Ее вполне можно было бы взять. Взгляните!
— Берите, если вам так нравится.
— Вот как! Разве мы не за этим пришли сюда?
— Вы правы… Однако я полагаю, что вон там, на плоскогорье, мы найдем еще лучше.
— Как вам будет угодно… Идемте.
— Который теперь час? — спросил г-н де Жюсьё. — Я так торопился, что забыл часы.
Руссо достал из жилетного кармана большие серебряные часы.
— Девять, — ответил он.
— Не отдохнуть ли нам немного? Вы ничего не имеете против? — предложил г-н де Жюсьё.
— Вы неважный ходок! Вот что значит собирать травы в тонких туфлях и шелковых чулках.
— Я, знаете ли, проголодался.
— Ну что ж, давайте позавтракаем… Деревня всего в четверти льё отсюда.
— Да нет, что вы!
— Почему же нет? Или у вас есть завтрак в карете?
— Взгляните вон туда, в лесную чащу, — предложил г-н де Жюсьё, указывая рукой вдаль.
Руссо приподнялся на цыпочки и приставил козырьком руку к глазам.
— Ничего не вижу, — обронил он.
— Как, неужели вы не видите крышу небольшого деревенского домика? На крыше флюгер, а соломенные стены выкрашены в белый и красный цвет, наподобие шале.
— Да, теперь вижу: небольшой новый домик.
— Ну да, вроде беседки.
— Так что же?
— А то, что нас там ожидает обещанный мною скромный завтрак.
— Ну хорошо, — сдался Руссо. — вы хотите есть, Жильбер?
Жильбер оставался безразличен во время их спора. Машинально сорвав цветок вереска, он отвечал:
— Как вам будет угодно, сударь.
— В таком случае идемте, — подхватил г-н де Жюсьё. — Кстати, нам ничто не мешает собирать по пути растения.
— Ваш племянник, — заметил Руссо, — охотнее, чем вы, занимается ботаникой. Я собирал вместе с ним растения в лесах Монморанси. Мы были вдвоем. Он быстро отыскивает то, что нужно; правильно собирает, отлично классифицирует.
— Послушайте: он молод, ему еще нужно составить себе имя.
— Разве у него не то же имя, что у вас, уже вполне известное? Ах, дорогой собрат, вы собираете растения как любитель!
— Не будем ссориться, дорогой философ. Взгляните, какой прекрасный plantago monanthos. Разве у вас есть такие в вашем Монморанси?
— Нет! — воскликнул Руссо. — Я тщетно искал его, доверившись Турнефору… Да, в самом деле, великолепный экземпляр.
— Какой дивный павильон! — заметил Жильбер, переходя из арьергарда в авангард.
— Жильбер проголодался, — заметил г-н де Жюсьё.
— Ах, сударь, прошу меня извинить! Я с удовольствием подожду, пока вы закончите.
— Тем более, что заниматься ботаникой после еды вредно для пищеварения. И потом, глаз теряет остроту, наклоняться лень. Давайте еще немного поработаем, — предложил Руссо. — А как называется этот павильон?
— "Мышеловка", — отвечал г-н де Жюсьё, вспомнив словечко, которое придумал г-н де Сартин.
— Странное название!
— Знаете, за городом в голову приходят разные фантазии…
— А кому принадлежат эти земли, эти чудесные тенистые леса?
— Точно не знаю.
— Должны же вы знать владельца, если собираетесь здесь завтракать? — настораживаясь, заметил Руссо; в душе у него зашевелились сомнения.
— Это не суть важно… Вернее, я здесь знаком со всеми; сторожа здешних охотничьих угодий сто раз меня видели и отлично знают, что доставят своим хозяевам удовольствие, если почтительно со мной поздороваются и предложат мне заячье рагу или сальми из бекаса. Слуги здешних владений позволяют мне распоряжаться всем как у себя дома. Я не знаю в точности, принадлежит ли этот павильон госпоже де Мирпуа или госпоже д’Эгмон, или… Господи, да откуда я знаю… Главное, дорогой философ, — я уверен, что вы со мной согласитесь, — мы найдем хлеб, фрукты и паштет.
Своим добродушным тоном г-н де Жюсьё согнал тень с лица Руссо. Философ отряхнул ноги, вытер руки, а г-н де Жюсьё первым ступил на поросшую мхом тропинку, извивавшуюся между каштанами и ведущую к уединенному сельскому домику.
За ним следовал Руссо, продолжая по пути искать растения.
Жильбер вернулся на прежнее место и замыкал шествие; в мечтах об Андре он размышлял о том, как можно было бы ее увидеть, когда она будет в Трианоне.
LXXVI
МЫШЕЛОВКА ДЛЯ ФИЛОСОФОВ
На вершине холма, куда не без труда взобрались три ботаника, стоял домик в сельском стиле, с колоннами из неотесанных стволов дерева, с островерхой крышей; его окна были увиты плющом и ломоносом, согласно английской моде, подражающей природе, или, вернее, придумывающей свою собственную природу, что сообщает некоторое своеобразие английским домикам и окружающим их садам.
Именно английские садовники вывели голубые розы: их тщеславие находит удовлетворение, вступая в противоречие с общепринятыми понятиями. Придет день, и они получат черные лилии.
Павильон был довольно просторный: в нем поместились стол и шесть стульев. Кирпичный пол был покрыт циновкой. Стены были выложены мозаикой из речных камешков и редчайших ракушек, собранных отнюдь не на берегах рек: пески Буживаля и Пор-Марли не могут порадовать ваших глаз ни морским ежом, ни такими ракушками, как на острове Сен-Жак, ни перламутрово-розовыми раковинами, встречающимися в Арфлёре, Дьепе или на рифах Сент-Адреса.
Лепной потолок был украшен сосновыми шишками и масками, изображающими отвратительных фавнов и диких зверей; они будто свешивались над головами посетителей. Сквозь витражи, в зависимости от того, через какое стекло вы смотрели — фиолетовое, красное или голубое, — можно было увидеть равнины или леса Везена, то окрашенные в холодные тона, словно перед грозой, то будто сверкавшие в горячих лучах августовского солнца, то холодные и поблекшие, словно застывшие в декабрьском холоде. Оставалось только выбрать стекло по душе и любоваться видом.
Это зрелище привлекло к себе внимание Жильбера, и он попеременно заглядывал то в один ромб витража, то в другой, любуясь прекрасным видом, открывающимся взгляду с высоты холма Люсьенн, который, змеясь, рассекает Сена.
Господин де Жюсьё заинтересовался не менее любопытным зрелищем: великолепно сервированным столом из обструганного дерева, стоявшим посреди павильона.
Изысканные сливки из Марли; прекрасные абрикосы и сливы из Люсьенна; сосиски из Нантера на фарфоровом блюде, горячие, несмотря на то что не видно было ни одного слуги, который мог бы их принести; словно улыбающаяся клубника в изящной корзинке, переложенная виноградными листьями; рядом со сверкавшим свежестью маслом — огромный хлеб деревенской выпечки; там же — золотистый хлеб из крупчатки, столь желанный для горожан с их пресыщенным вкусом, — все это заставило Руссо вскрикнуть от восхищения. Гурманом философ был неискушенным: у него был прекрасный аппетит и весьма скромный вкус.
— Какое безумие! — обратился он к г-ну де Жюсьё. — Хлеб и фрукты — вот все, что нам было нужно. Следовало бы съесть хлеб, заедая его сливами, прямо на ходу, как делают настоящие ботаники и неутомимые исследователи, ни на минуту не переставая шарить в траве и лазать по буеракам. Помните, Жильбер, мой завтрак в Плесси-Пике, да и ваш тоже?
— Да, сударь: хлеб и вишни показались мне тогда восхитительными.
— Совершенно верно.
— Да, так завтракают истинные любители природы.
— Дорогой учитель! — вмешался г-н де Жюсьё. — Вы напрасно упрекаете меня в расточительстве: это более чем скромно…
— Вы недооцениваете свое угощение, сеньор Лукулл! — вскричал философ.
— Мое? Нет, это не мое! — возразил г-н де Жюсьё.
— У кого же мы в гостях в таком случае? — спросил Руссо, улыбка которого свидетельствовала о хорошем расположении духа; однако чувствовалось, что он скован. — Может быть, мы попали к гномам?
— Скорее уж к добрым феям, — проговорил г-н де Жюсьё, поднимаясь и смущенно поглядывая на дверь.
— Ах, к феям? — весело вскричал Руссо. — Да благослови их Небо за такое гостеприимство! Я голоден. Поедим, Жильбер!
Он отрезал себе порядочный ломоть хлеба и передал хлеб и нож ученику.
Откусив хлеба, Руссо взял две сливы.
Жильбер колебался.
— Ну-ну! Феи могут обидеться, — сказал Руссо, — подумают, что вы считаете их щедрость недостаточной.
— Или недостойной вас, господа, — зазвучал серебристый голосок с порога павильона: там стояли, держась под руку, две свеженькие хорошенькие женщины. Не переставая улыбаться, они подавали знаки г-ну де Жюсьё, чтобы он умерил свои поклоны.
Руссо обернулся, держа в правой руке обгрызанную хлебную корку, а в левой — надкусанную сливу. Он увидел обеих богинь — так, по крайней мере, ему показалось, до того они были молоды и красивы; он увидел их и остолбенел, потом поклонился и замер.
— Госпожа графиня! — воскликнул г-н де Жюсьё. — Вы здесь! Какой приятный сюрприз!
— Здравствуйте, дорогой ботаник! — любезно отвечала одна из дам с поистине королевской непринужденностью.
— Позвольте вам представить господина Руссо, — проговорил г-н де Жюсьё, беря философа за руку, в которой тот держал хлеб.
Жильбер увидел и узнал обеих дам. Он широко раскрыл глаза и, смертельно побледнев, стал поглядывать на окно павильона, соображая, как бы удрать.
— Здравствуйте, юный философ! — обратилась другая дама к растерянному Жильберу и легонько ударила его по щеке тремя розовыми пальчиками.
Руссо все видел и слышал. Он едва не задохнулся от злости: его ученик знал обеих богинь, и они его тоже знали.
Жильбер был близок к обмороку.
— Вы не узнаете госпожу графиню? — спросил Жюсьё, обратившись к Руссо.
— Нет, — оторопев, отвечал Руссо, — мы встречаемся впервые, как мне кажется.
— Графиня Дюбарри, — представил Жюсьё.
Руссо подскочил, словно ступил на раскаленное железо.
— Графиня Дюбарри! — вскричал он.
— Она самая, сударь, — как нельзя более любезно отвечала молодая женщина, — я очень рада, что принимаю у себя и вижу одного из самых прославленных мыслителей наших дней!
— Графиня Дюбарри! — повторил Руссо, не замечая, что его удивление становится оскорбительным… — Так это она! И павильон, вне всякого сомнения, принадлежит ей? Так вот кто меня угощает?
— Вы угадали, дорогой философ, это она и ее сестра, — продолжал Жюсьё, почувствовав себя неловко, так как предвидел бурю.
— И ее сестра знакома с Жильбером?
— Теснейшим образом, сударь! — вмешалась мадемуазель Шон с дерзостью, не считавшейся ни с расположением духа королей, ни с причудами философов.
Жильбер искал глазами нору пошире, куда можно было бы спрятаться, — так грозно заблистал взгляд Руссо.
— Теснейшим образом?.. — повторил старик. — Жильбер теснейшим образом знаком с сударыней, а я ничего об этом не знал? Меня, стало быть, предали, надо мной посмеялись?
Шон и ее сестра насмешливо переглянулись.
Господин де Жюсьё разорвал малинские кружева, стоившие не меньше сорока луидоров.
Жильбер умоляюще сложил руки, то ли прося Шон замолчать, то ли заклиная Руссо разговаривать с нею повежливее.
Но замолчал Руссо, а Шон продолжала говорить.
— Да, — сказала она, — мыс Жильбером — старые знакомые. Он был моим гостем, не правда ли, малыш?.. Неужели ты настолько неблагодарен, что позабыл угощения в Люсьенне и в Версале?
Эта подробность оказалась последним ударом: Руссо выбросил руки вперед, а затем уронил их.
— Вот оно что! Это правда, несчастный? — прошипел он, искоса глядя на молодого человека.
— Господин Руссо… — начал было Жильбер.
— Ну вот, можно подумать, ты раскаиваешься в том, что был мною обласкан! — продолжала Шон. — Я не напрасно подозревала тебя в неблагодарности.
— Мадемуазель!.. — взмолился Жильбер.
— Малыш! — подхватила г-жа Дюбарри. — Возвращайся в Люсьенн. Угощения и Замор ждут тебя… И хотя ты ушел оттуда довольно необычно, ты будешь хорошо принят.
— Благодарю вас, ваше сиятельство, — сухо возразил Жильбер, — но когда я откуда-нибудь ухожу, это значит, что мне там не нравится.
— Зачем отказываться от такого предложения? — ядовито перебил его Руссо. — Вы вкусили роскоши, дорогой мой Жильбер, возвращайтесь к ней.
— Сударь, клянусь вам…
— Идите! Идите! Я не люблю двуличных людей.
— Вы меня даже не выслушали, господин Руссо.
— Довольно я наслушался.
— Да ведь я же сбежал из Люсьенна, где меня держали взаперти!
— Это уловка! Я знаю, на что способна человеческая хитрость!
— Но ведь я отдал предпочтение вам, я выбрал вас своим хозяином, защитником, покровителем.
— Лицемерие!
— Однако, господин Руссо, если бы я дорожил богатством, я принял бы предложение этих дам.
— Господин Жильбер, меня обманывают часто… один раз! Но дважды — никогда! Вы свободны и можете идти на все четыре стороны.
— Куда же мне идти, великий Боже? — в отчаянии вскричал Жильбер; он понимал, что навсегда потерял и свое оконце, и соседство с Андре, и всю свою любовь… Его самолюбие страдало оттого, что Руссо мог заподозрить его в предательстве. Он видел, что никто не оценил ни его самоотверженности, ни долгой и успешной борьбы с леностью и свойственными его возрасту желаниями.
— Куда? — переспросил Руссо. — Да прежде всего — к ее сиятельству, прекрасной и доброй госпоже.
— Боже мой, Боже мой! — вскричал Жильбер, обхватив голову руками.
— Не бойтесь! — сказал ему г-н де Жюсьё; светский человек, он был сильно задет странной выходкой Руссо. — Не бойтесь, о вас позаботятся; вам постараются вернуть то, что вы потеряете.
— Вот видите, — язвительно вымолвил Руссо, — перед вами господин де Жюсьё, ученый, любитель природы, один из ваших сообщников, — прибавил он, криво усмехнувшись, — он вам обещает помощь и удачу; можете на него рассчитывать, у него большие возможности.
Потерявший самообладание и напоминавший Оросмана, Руссо поклонился дамам, потом отвесил поклон подавленному г-ну де Жюсьё и с трагическим видом покинул павильон.
— До чего же мерзкая скотина этот философ! — спокойно заметила Шон, провожая взглядом Руссо, который спускался, вернее, сбегал вниз по тропинке.
— Просите, что хотите, — обратился г-н де Жюсьё к Жильберу, по-прежнему прятавшему лицо в ладонях.
— Да, просите, господин Жильбер, — повторила графиня, посылая улыбку брошенному ученику.
Тот поднял бледное лицо, убрал со взмокшего лба прилипшие волосы и твердо проговорил:
— Раз уж вам так хочется предложить мне место, я бы хотел поступить помощником садовника в Трианон.
Шон и графиня переглянулись, Шон слегка наступила шаловливой ножкой на ногу сестре и торжествующе подмигнула; графиня кивнула в знак согласия.
— Это возможно, господин де Жюсьё? — спросила графиня. — Я бы этого хотела.
— Раз вам этого хочется, графиня, — отвечал тот, — можете считать, что ваше желание исполнено.
Жильбер поклонился и прижал руку к сердцу; оно было переполнено счастьем, после того как совсем недавно было полно отчаяния.
LXXVII
ПРИТЧА
В том же небольшом кабинете замка Люсьенн, где мы видели Жана Дюбарри поглотившим, к большому неудовольствию графини, невероятное количество шоколада, маршал де Ришелье завтракал с графиней Дюбарри. Трепля Замора за волосы, она все свободнее и небрежнее вытягивалась на затканной цветами атласной софе, а старый придворный лишь восторженно вздыхал при каждой новой позе обольстительницы.
— Ах, графиня! — с жеманством старухи восклицал он. — Вы испортите прическу!.. Графиня, вот этот завиток раскручивается… Ах, графиня, ваша туфелька падает!..
— Да не обращайте внимания, милый герцог, — проговорила она, выдрав у Замора ради развлечения целую прядь волос и вытянувшись во весь рост. Она была еще сладострастнее и красивее на своей софе, чем Венера в морской раковине.
Равнодушный к ее позам, Замор взвыл от боли. Графиня успокоила его, взяла со стола горсть конфет и всыпала их ему в карман.
Замор надул губы, вывернул карман и высыпал конфеты на пол.
— Дурак! — обругала его графиня, вытягивая изящную ножку и носком касаясь замысловатых штанов негритенка.
— Помилуйте! — вскричал старый маршал. — Клянусь честью, вы его убьете.
— Я сегодня могу убить любого, кто мне попадет под руку, — призналась графиня, — сегодня я буду беспощадной.
— Вот как? Значит, и я вас раздражаю? — спросил герцог.
— Нет, что вы, напротив! Вы мой старый друг, я вас обожаю. Но, по правде говоря, я сошла с ума, вот в чем дело.
— Так вас, должно быть, заразили этой болезнью те, кого свели с ума вы сами?
— Берегитесь! Мне надоели ваши любезности, потому что они неискренни.
— Графиня, графиня! Я начинаю думать, что вы не с ума сошли, а просто неблагодарны.
— Нет, я не сумасшедшая, не неблагодарная, я…
— Кто же вы?
— Я разгневана, господин герцог!
— В самом деле…
— Вас это удивляет?
— Нисколько, графиня. Клянусь честью, есть от чего разгневаться!
— Вот именно это меня в вас и возмущает, маршал.
— Неужели есть во мне что-то такое, что может вас возмутить, графиня?
— Да.
— Что же это? Я уже довольно стар, однако готов приложить любые усилия, чтобы вам понравиться.
— Да вы просто не знаете, о чем идет речь, маршал.
— Ошибаетесь, мне это известно.
— Вы знаете, что меня раздражает?
— Разумеется: Замор разбил китайский фонтан.
Едва уловимая улыбка промелькнула на губах молодой женщины, однако Замор, почувствовав себя виноватым, униженно склонил голову, словно небо затянуло тучей, из которой на него обрушится дождь пощечин и щелчков.
— Да, — со вздохом проговорила графиня, — да, герцог, вы угадали: причина именно эта, вы действительно тонкий политик.
— Мне всегда это говорили, графиня, — скромно отвечал г-н де Ришелье.
— А я и так это вижу, герцог. Вы сразу определили, почему я не в духе: это восхитительно!
— Ну и прекрасно. Однако это еще не все.
— Неужели?
— Да, я догадываюсь, что есть еще кое-что…
— Вы так думаете?
— Да.
— А о чем вы догадываетесь?
— Мне кажется, вы ждали вчера вечером его величество.
— Где?
— Здесь.
— Что же дальше?
— Его величество не пришел.
Графиня покраснела и приподнялась на локте.
— Ах-ах! — прошептала она.
— А ведь я приехал из Парижа, — продолжал герцог.
— Ну и что же?
— Я мог ничего не знать о том, что произошло в Версале, черт побери! Однако…
— Герцог, милый герцог, вы сегодня чересчур сдержанны. Какого черта! Раз уж начали — договаривайте. Или не надо было начинать.
— Вольно вам говорить, графиня! Дайте мне хотя бы передохнуть. Так на чем я остановился?
— Вы остановились на… "однако".
— Да, верно. Однако я не только знаю, что его величество не пришел, но и догадываюсь, почему его не было.
— Герцог! Я всегда думала, что вы колдун. Мне недоставало лишь доказательства.
— Сейчас я вам представлю и доказательство.
Графиня, уделявшая беседе значительно больше внимания, чем ей хотелось это показать, оставила в покое голову Замора, волосы которого она перебирала своими белыми изящными пальчиками.
— Представьте, герцог, представьте, — сказала она.
— В присутствии господина коменданта? — спросил герцог.
— Исчезните, Замор, — приказала графиня негритенку; обезумев от радости, он одним прыжком выскочил из будуара в переднюю.
— Прекрасно! — прошептал Ришелье. — Должен ли я все вам говорить, графиня?
— Чем вам помешала эта обезьяна Замор, герцог?
— Сказать по правде, меня кто угодно смущает.
— Кто угодно — это я понимаю, но разве Замор — кто угодно?
— Замор не слепой, не глухой, не немой. Значит, он тоже "кто угодно". "Кто угодно" для меня тот, у кого такие же, как у меня, глаза, уши, язык; значит, он может увидеть то, что я делаю, услышать или повторить то, что я говорю, — в общем, этот "кто-то" может меня выдать. Итак, изложив свою теорию, я продолжаю.
— Да, герцог, продолжайте, доставьте мне удовольствие.
— Не думаю, что это будет удовольствием, графиня. Впрочем, неважно, я должен продолжать. Итак, король посетил вчера Трианон.
— Малый или Большой?
— Малый. Ее высочество дофина держала его под руку.
— Вот как?
— Ее высочество очаровательна, как вам известно…
— Увы!
— Она так с ним носилась, называла то папенькой, то дедушкой, что его величество не устоял, — ведь у него такой мягкий характер! За прогулкой последовал ужин, за ужином — невинные игры. Одним словом…
— Одним словом, — бледная от нетерпения, подхватила Дюбарри, — король не поехал в Люсьенн, не так ли? Вы это хотели сказать?
— Да, черт возьми!
— Это просто объясняется: его величество нашел там все, что любит.
— Отнюдь нет, и вы сами далеки от того, чтобы поверить хоть одному своему слову. Он нашел там всего-навсего то, что ему нравится.
— Это еще хуже, герцог. Судите сами: поужинал, побеседовал, поиграл в карты — вот и все, что ему нужно. С кем же он играл?
— С господином де Шуазёлем.
Графиня сделала нетерпеливое движение.
— Может быть, не стоит больше об этом говорить, графиня? — предложил Ришелье.
— Напротив, продолжайте.
— Вы столь же отважны, сколь умны, графиня. Давайте возьмем быка за рога, как говорят испанцы.
— Госпожа же Шуазёль не простила бы вам этой пословицы, герцог.
— Пословица к ней не относится. Я хотел сказать, графиня, что господин де Шуазёль, раз уж я вынужден о нем говорить, играл в карты, да так удачно, так ловко…
— Что выиграл?
— Нет, он проиграл, а его величество выиграл тысячу луидоров в пикет. А в этой игре его величество крайне самолюбив, притом что играет он из рук вон плохо.
— Ох, этот Шуазёль, Шуазёль! — прошептала Дюбарри. — Госпожа де Грамон тоже была там?
— Нет, графиня, она готовится к отъезду.
— Герцогиня уезжает?
— Да, она делает глупость, мне кажется.
— Какую?
— Когда ее не преследуют, она дуется; когда ее не прогоняют, она уезжает сама.
— Куда?
— В провинцию.
— Она собирается строить козни.
— Ах, черт побери! Чем же ей еще заниматься? Итак, собираясь уезжать, она, естественно, пожелала проститься с ее высочеством дофиной, которая, понятно, нежно ее любит. Вот как она оказалась в Трианоне.
— В Большом?
— Разумеется, ведь Малый еще не готов.
— Окружая себя всеми этими Шуазёлями, ее высочество недвусмысленно дает понять, чью сторону она принимает.
— Нет, графиня, не надо преувеличивать. Итак, герцогиня завтра уезжает.
— Король развлекался там, где не было меня! — воскликнула графиня с возмущением и в то же время со страхом.
— Ах, Боже мой! Да, в это трудно поверить, однако это так, графиня. Что же из этого следует?
— Что вы прекрасно обо всем осведомлены, герцог.
— И все?
— Нет.
— Ну, так продолжайте!
— Я из этого заключаю, что по доброй воле или силой необходимо вырвать короля из когтей Шуазёлей, или мы погибли!
— Увы!
— Простите, — продолжала графиня, — я говорю "мы", однако не волнуйтесь, герцог, это относится только к членам моей семьи.
— И к друзьям, графиня. Позвольте на этом основании тоже принять в этом деле участие. Таким образом…
— Таким образом, вы себя причисляете к моим друзьям?
— Мне казалось, что я говорил вам об этом, сударыня.
— Этого недостаточно.
— Я полагал, что доказал это.
— Вот это уже лучше. Так вы мне поможете?
— Я готов сделать все, что в моей власти, графиня, однако…
— Что?
— Не стану от вас скрывать, что дело это весьма трудное.
— Что же, они неискоренимы, эти Шуазёли?
— Во всяком случае, они крепкие растения.
— Вы полагаете?
— Да.
— Стало быть, что бы ни говорил добряк Лафонтен, против этого дуба бессильны и ветер и буря.
— Этот министр — гений!
— Прекрасно! Вы заговорили, как энциклопедисты.
— Разве я уже не член Академии?
— О, вы в такой малой степени академик…
— Да, вы правы. Академик — мой секретарь, а не я. Однако я по-прежнему настаиваю на своем.
— Что Шуазёль — гений?
— Совершенно верно.
— В чем же состоит его гениальность?
— А вот в чем, графиня: он сумел так представить дела в парламентах и отношения с Англией, что король не может больше без него обойтись.
— Да ведь он настраивает парламенты против его величества!
— Ну, конечно! В том-то и состоит ловкость!
— Он же толкает англичан к войне!
— Вот именно, потому что мир был бы для него губителен.
— Это не гениальность, герцог.
— Что же это, графиня?
— Это государственная измена.
— Когда государственная измена имеет успех, графиня, это свидетельствует о гениальности, и, как мне кажется, немалой.
— Ну, раз так, герцог, я знаю еще кое-кого, кто не менее ловок, чем де Шуазёль.
— Неужели?
— По части парламентов, по крайней мере.
— Это главный вопрос.
— Да, потому что это лицо причастно к возмущению парламентов.
— Вы меня заинтриговали, графиня.
— Вы не знаете, о ком я говорю, герцог?
— Нет, признаться…
— А ведь он член вашей семьи.
— Неужели у меня в семье есть гениальный человек? Вы изволите говорить о моем дяде кардинале-герцоге, графиня?
— Нет, я говорю о вашем племяннике, герцоге д’Эгиль-оне.
— Ах, герцог д’Эгильон! Да, верно, это он послужил причиной дела Ла Шалоте. По правде сказать, он очень милый молодой человек. Он в этом деле славно потрудился. Клянусь честью, вот тот человек, которым умной женщине следовало бы дорожить.
— Видите ли, герцог, — отвечала графиня, — я даже незнакома с вашим… племянником.
— Неужели вы его не знаете?
— Нет, я его никогда не видела.
— Бедный малый! Ну да, действительно, со времен вашего возвышения он постоянно жил в глубине Бретани. Пусть поостережется, когда увидит вас: он отвык от солнца.
— Как среди всех этих черных мантий оказался человек его ума и его происхождения?
— Он взялся их взбудоражить за неимением лучшего. Понимаете ли, графиня, каждый старается получить удовольствие где только можно, а в Бретани удовольствий немного. До чего же он предприимчивый человек! Какой это был бы слуга королю, будь на то желание его величества! Уж при нем с дерзостью парламентов было бы покончено. Он истинный Ришелье, графиня. Так позвольте мне…
— Что?
— Позвольте мне представить его вам тотчас по прибытии.
— Он разве должен скоро быть в Париже?
— Ах, графиня, кто может это знать? Возможно, он еще лет пять пробудет в своей Бретани, как говорит шельма Вольтер! Может, он в дороге? А что, если он в двухстах льё отсюда? Может быть, он уже у городских ворот!
Маршал пристально всматривался в лицо молодой женщины, чтобы увидеть, какое действие на нее производят его слова.
Она на мгновение задумалась и продолжала:
— Давайте вернемся к тому, на чем мы остановились.
— Как вам будет угодно, графиня.
— А на чем мы остановились?
— На том, что его величеству было очень хорошо в Трианоне в обществе господина де Шуазёля.
— Да, и мы говорили о том, как бы от этого Шуазёля избавиться, герцог.
— То есть об этом говорили вы, графиня.
— Как! — воскликнула фаворитка. — Я так хочу, чтобы он ушел со своего поста, что рискую умереть, если этого не произойдет, а вы… неужели вы мне в этом хоть немного не поможете, дорогой герцог?
— Ого! — заважничал Ришелье. — Вот что политики называют предложением.
— Принимайте мои слова как вам будет угодно, называйте их как хотите, но отвечайте решительно.
— Ах, какие ужасные, грубые слова в устах такой милой и приятной женщины!
— По-вашему, это ответ, герцог?
— Не совсем. Я назвал бы это подготовкой к ответу.
— Вы готовы?
— Подождите же!
— Вы колеблетесь, герцог?
— Нисколько.
— Так я вас слушаю.
— Как вы относитесь к притчам?
— Должна сказать, что они устарели.
— Ну и что же? Солнце тоже старо, а мы ничего лучше не придумали, чтобы иметь возможность все видеть.
— Ну, пусть будет притча. Только чтобы все было прозрачно!
— Как хрусталь!
— Ну, говорите.
— Вы готовы меня слушать, прекрасная дама?
— Я вас слушаю.
— Представьте, графиня… вы знаете, в притчах принято взывать к воображению.
— О Господи, до чего же вы утомительны, герцог!
— Вы не верите ни одному своему слову, графиня, и слушаете меня с особым вниманием.
— Пусть так, я была не права.
— Итак, представьте, что вы гуляете в прекрасном саду Люсьенна и видите восхитительную сливу, один из тех ренклодов, которые вы так любите, потому что они своим пурпурно-алым цветом напоминают ваши щечки.
— Продолжайте, господин льстец.
— Вы видите, как я уже сказал, одну из таких слив на самом верху дерева. Что вы будете делать, графиня?
— Я стану трясти дерево, черт побери!
— А если это бесполезно? Дерево толстое, с крепкими корнями, как вы изволили выразиться. И вот скоро вы замечаете, что оно даже не пошатнулось, а вы уже поцарапали об его кору свои прелестные ручки. Тогда вы поворачиваете голову так восхитительно, как умеете лишь вы да цветы, и восклицаете: "Боже мой! Как бы мне хотелось, чтобы эта слива упала на землю!" И при этом вы чувствуете такую досаду!..
— Это очень естественно, герцог.
— Не стану с вами спорить.
— Продолжайте, дорогой герцог, мне безумно интересна ваша притча.
— И вот, обернувшись, вы замечаете своего друга герцога де Ришелье, в задумчивости гуляющего в саду.
— О чем же он думает?
— Что за вопрос, черт возьми! О вас! Вы к нему обращаетесь своим дивным нежным голоском: "Ах, герцог, герцог!"
— Превосходно!
— "Вы мужчина. Вы сильный. Вы брали Маон. Потрясите это чертово дерево, чтобы упала проклятая слива". Все верно, графиня, а?
— Совершенно верно, герцог. Я говорила об этом едва слышно, а вы — во весь голос. Так что вы ответили?
— Я ответил…
— Да.
— Я ответил так: "Как вы откровенны, графиня! Ничего не скажешь! Но посмотрите, какое толстое дерево, какие шероховатые ветви; я тоже дорожу своими руками, хотя они и старше ваших лет на пятьдесят".
— A-а, прекрасно, прекрасно! — проговорила графиня. — Понимаю…
— Тогда продолжайте притчу; что вы отвечаете?
— Я вам говорю…
— Своим нежным голоском?
— Разумеется.
— Говорите, говорите.
— Я вам говорю: "Милый маршал! Взгляните на это дерево иначе. До сих пор вы были к нему равнодушны, потому что эта слива предназначалась не вам. А пусть и у вас будет такое же точно желание, дорогой маршал: давайте вместе страстно захотим ее съесть. Если вы как следует потрясете дерево, если слива упадет, то…"
— То что же?
— "…мы съедим ее вместе".
— Браво! — воскликнул герцог, захлопав в ладоши.
— Все верно?
— Клянусь честью, графиня, вы прекрасно сумели закончить притчу… Моим же оружием! Как говаривал мой покойный батюшка, ловко сделано!
— Так вы согласны потрясти дерево?
— Обеими руками и изо всех сил, графиня.
— А слива в самом деле была ренклодом?
— В этом я не совсем уверен, графиня.
— Что же это?
— Мне представляется, что на вершине этого дерева скорее висел портфель.
— Значит, мы возьмем портфель на двоих.
— Нет, этот портфель достанется мне одному. Не завидуйте мне, графиня; вместе с ним с этого дерева упадет так много интересных вещей, что у вас будет богатейший выбор.
— Ну что же, маршал, мы обо всем уговорились?
— Мне достанется место господина де Шуазёля?
— Да, если на то будет воля его величества.
— А разве король не хочет всего того, чего желаете вы?
— Вы сами видите, что нет, раз он не желает отставки своего Шуазёля.
— Я надеюсь, что король захочет вспомнить о своем старом товарище.
— По оружию?
— Да, о товарище по оружию. Самая большая опасность далеко не всегда подстерегает нас на войне, графиня.
— Вы ничего не хотите попросить у меня для герцога д’Эгильона?
— Признаться, нет! Этот плут сумеет попросить за себя самолично.
— Вы, впрочем, тоже будете здесь. А теперь моя очередь.
— Ваша очередь для чего?
— Просить.
— Отлично.
— Что получу я?
— Что пожелаете.
— Я хочу получить все.
— Разумно.
— И получу?
— Что за вопрос! Однако будете ли вы удовлетворены? Только ли об этом вы станете просить?
— Об этом и еще кое о чем.
— Говорите.
— Вы знаете барона де Таверне?
— Нас связывает сорокалетняя дружба.
— У него есть сын?
— И дочь.
— Совершенно верно.
— И что же?
— Это все, что я хотела сказать.
— Как все?
— В этом и состоит "кое-что", которое я у вас прошу… Подробнее я изложу свою просьбу в свое время и в своем месте.
— Превосходно!
— Мы уговорились, герцог.
— Да, графиня.
— Подписано?
— Гораздо лучше: мы поклялись друг другу.
— Ну так повалите это дерево.
— У меня есть для этого средства.
— Какие?
— Мой племянник.
— Кто еще?
— Иезуиты.
— Ах-ах!
— Я на всякий случай и план приготовил, так, небольшой.
— Можно с ним ознакомиться?
— Увы, графиня…
— Да, да, вы правы.
— Вы ведь знаете, что тайна…
— …залог успеха! Я заканчиваю вашу мысль.
— Вы восхитительны!
— Однако я тоже хочу попробовать потрясти дерево со своей стороны.
— Очень хорошо! Потрясите, графиня, это не помешает.
— И у меня есть средство.
— Которое вы считаете прекрасным?
— Я за него ручаюсь.
— Что это за средство?
— Скоро увидите, герцог, вернее…
— Что?
— Нет, не увидите.
Столь изящно эти слова мог выговорить только такой прелестный ротик. Потерявшая было голову графиня вдруг словно опомнилась; она торопливо оправила атласные волны юбки, которые в целях дипломатии вздыбились, словно бушующее море.
Герцог был отчасти моряком и привык к капризам океана. Он от души рассмеялся, расцеловал графине ручки и, со свойственной ему проницательностью, угадал, что аудиенция окончена.
— Когда вы начнете валить дерево, герцог? — спросила графиня.
— Завтра. А вы когда приметесь его трясти?
В эту минуту со двора донесся шум подъехавшей кареты, и почти тотчас же раздались крики "Да здравствует король!"
— А я, — отвечала графиня, выглядывая в окно, — я начну сию минуту!
— Браво!
— Идите по черной лестнице, герцог, и ждите во дворе. Через час получите мой ответ.
LXXVIII
КРАЙНЕЕ СРЕДСТВО ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ЛЮДОВИКА XV
Король Людовик XV не был до такой степени благодушным, чтобы с ним можно было каждый день говорить о политике.
В самом деле, политика ему надоедала. В дурные минуты он отделывался с помощью веского довода, на который нечего было ответить:
— Да вся эта машина будет крутиться, пока я жив!
Когда обстоятельства благоприятствовали, окружающие старались ими воспользоваться. Однако монарх, как правило, наверстывал то, что терял в минуты хорошего расположения.
Графиня Дюбарри так хорошо знала короля, что, подобно рыбакам, изучившим море, никогда не пускалась в плавание, если ей не благоприятствовала погода.
Время, когда король приехал навестить ее в Люсьенне, было для нее наиболее благоприятное. Король был накануне не прав, он знал наверное, что его будут бранить. Значит, в этот день он был хорошей добычей.
Но как бы доверчива ни была дичь, на которую идет охота, у нее все-таки есть некоторый инстинкт самосохранения, и охотнику следует это иметь в виду. Впрочем, инстинкт ничего не значит, если охотник опытный!
Вот как взялась за дело графиня, имея в виду королевскую дичь, которую она собиралась заманить в свои сети.
Она была, как мы, кажется, уже говорили, в весьма смелом дезабилье, наподобие того, как Буше одевает своих пастушек.
Вот только она не нарумянилась: король Людовик XV терпеть этого не мог.
Как только лакей доложил о его величестве, графиня бросилась к румянам и стала с остервенением натирать ими щеки.
Король еще из приемной увидел, чем занималась графиня.
— Ах, злодейка! — воскликнул он, входя. — Она красится!
— A-а, здравствуйте, сир, — проговорила графиня, не отрывая от зеркала глаз и не прерывая своего занятия, даже после того как король поцеловал ее в шейку.
— Значит, вы меня не ждали, графиня? — спросил король.
— Почему, сир?
— Ну, раз вы так пачкаете свое личико!..
— Напротив, сир, я была уверена в том, что дня не пройдет, как я буду иметь честь увидеть ваше величество.
— Как странно вы это говорите, графиня!
— Вы находите?
— Да. Вы серьезны, как господин Руссо, когда слушает свою музыку.
— Вы правы, сир, я в самом деле должна сообщить вашему величеству нечто весьма серьезное.
— Я вижу, к чему вы клоните, графиня.
— Неужели?
— Да, сейчас начнутся упреки.
— Я — упрекать вас? Да что вы, сир!.. И за что, скажите на милость:
— За то, что я не пришел вчера вечером.
— Сир! Справедливости ради согласитесь, что у меня нет намерения единолично владеть вашим величеством.
— Жанетта, ты сердишься.
— Нисколько, сир, меня рассердили.
— Послушайте, графиня, клянусь, что я не переставал о вас думать.
— Да что вы?
— И вчерашний вечер показался мне вечностью.
— Вот как? Да ведь я, сир, по-моему, ни о чем вас не спрашивала. Ваше величество проводит свои вечера там, где ему нравится, это никого не касается.
— Я был в своей семье, графиня, в семье.
— Сир, я об этом даже не узнавала.
— Почему?
— Что значит почему? Согласитесь, что с моей стороны это было бы непристойно.
— Так вы, значит, не сердитесь на меня за это? — вскричал король. — На что же вы сердитесь? Отвечайте мне по чести.
— Я на вас не сержусь, сир.
— Однако вы сказали, что вас кто-то рассердил?..
— Да, меня рассердили, сир, это правда.
— Чем же?
— Тем, что я стала чем-то вроде крайнего средства.
— Вы — "крайнее средство"? Что вы говорите?
— Да, да, я! Графиня Дюбарри! Милая Жанна, очаровательная Жаннетта, соблазнительная Жаннетон, как говорит ваше величество. Я — крайнее средство.
— В чем же это выражается?
— А в том, что мой король, мой возлюбленный бывает у меня тогда, когда госпожа де Шуазёль и госпожа де Грамон им пресытились.
— Ох, графиня!..
— Клянусь честью, хотя я от этого проиграю, но я скажу откровенно, что у меня на сердце. Рассказывают, что госпожа де Грамон частенько вас подстерегала у входа в спальню. А я поступлю иначе, нежели благородная герцогиня. Я стану поджидать на выходе, и как только первый же Шуазёль или первая Грамон попадется мне в руки… Тем хуже, честное слово!
— Графиня! Графиня!
— Что же вы от меня хотите! Я дурно воспитана. Я любовница Блеза, Прекрасная Бурбоннезка, как вы знаете.
— Графиня! Шуазёли сумеют за себя отомстить.
— Ну и что же? Пусть подумают, как ответить на мою месть!
— Вас поднимут на смех.
— Вы правы.
— Ах!
— У меня есть одно чудесное средство, и я хочу к нему прибегнуть.
— Что вы задумали?.. — с беспокойством спросил король.
— Я попросту удалюсь.
Король пожал плечами.
— Вы мне не верите, сир?
— Признаюсь откровенно, нет.
— Вы просто не даете себе труда поразмыслить. Вы путаете меня с другими.
— То есть как?
— Ну, конечно! Госпожа де Шатору хотела быть для вас богиней. Госпожа де Помпадур мечтала быть королевой. Другие хотели стать богатыми, могущественными, пытались унижать придворных дам, пользуясь вашей благосклонностью. Я не страдаю ни одним из этих недостатков.
— Вы правы.
— А достоинств у меня между тем много.
— Вы и тут правы.
— Вы говорите не то, что думаете.
— Ах, графиня! Я более, чем кто бы то ни было, знаю, чего вы стоите.
— Пусть так. Послушайте: то, что я скажу, не должно поколебать вашего убеждения.
— Говорите.
— Прежде всего, я богата, и мне никто не нужен.
— Вы хотите, чтобы я об этом пожалел, графиня.
— И потом, я не так спесива, как эти дамы, у меня нет таких желаний, исполнение которых тешило бы мое самолюбие. Я всегда хотела одного: любить своего поклонника, будь то мушкетер, будь то король. С той минуты как я перестаю его любить, я ничем больше не дорожу.
— Будем надеяться, что вы еще хоть немножко мною дорожите, графиня.
— Я не договорила, сир.
— Продолжайте, графиня.
— Я хочу еще сказать вашему величеству, что я хороша собой, молода, я еще лет десять буду привлекательной; я буду не только счастливейшей женщиной, но и наиболее почитаемой с того самого дня, когда перестану быть любовницей вашего величества. Вы улыбаетесь, сир. Я сержусь еще и потому, что вы не хотите поразмыслить над тем, что я вам говорю. Дорогой король! Когда вам и вашему народу надоедали другие ваши фаворитки и вы их прогоняли, народ вас за это превозносил, а впавшей в немилость гнушался, как в стародавние времена. Так вот, я не буду дожидаться отставки. Я уйду сама, и все об этом узнают. Я пожертвую сто тысяч ливров бедным, проведу неделю в покаянии в одном из монастырей, и не пройдет и месяца, как мое изображение украсит все церкви наравне с образом кающейся Магдалины.
— Вы это серьезно, графиня? — спросил король.
— Взгляните на меня, сир, и решите сами, серьезно я говорю или нет.
— Неужели вы способны на такой мелкий поступок, Жанна? Сознаете ли вы, что тем самым вы ставите меня перед выбором?
— Нет, сир. Если бы я ставила вас перед выбором, я сказала бы вам: "Выбирайте между тем-то и тем-то".
— А вы?
— А я вам говорю: "Прощайте, сир!" — вот и все.
На сей раз король побледнел от гнева.
— Вы забываетесь, графиня! Берегитесь…
— Чего, сир?
— Я вас отправлю в Бастилию.
— Меня?
— Да, вас. А в Бастилии вы соскучитесь еще скорее, чем в монастыре.
— Ах, сир, — умоляюще сложив руки, сказала графиня, — неужели вы мне доставите удовольствие…
— Какое удовольствие?
— Отправить меня в Бастилию.
— Что вы сказали?
— Это будет слишком большая честь для меня.
— То есть как?
— Ну да: я втайне честолюбива и мечтаю стать столь же известной, как господин де Ла Шалоте или господин де Вольтер. Для этого мне как раз не хватает Бастилии. Немножко Бастилии — и я буду счастливейшей из женщин. Это будет для меня удобным случаем написать мемуары о себе, о ваших министрах, о ваших дочерях, о вас самом и рассказать грядущим поколениям о всех добродетелях Людовика Возлюбленного. Напишите приказ об аресте, сир. Вот вам перо и чернила..
Она подвинула к королю письменный прибор, стоявший на круглом столике.
Оскорбленный король на минуту задумался, потом поднялся.
— Ну хорошо. Прощайте, графиня! — бросил он.
— Лошадей! — закричала графиня. — Прощайте, сир!
Король шагнул к двери.
— Шон! — позвала графиня.
Явилась Шон.
— Мои вещи, дорожных лакеев и почтовых лошадей, — приказала она. — Живей! Живей!
— Почтовых лошадей? — переспросила потрясенная Шон. — Что случилось, Боже мой?
— Случилось то, дорогая, что, если мы немедленно не уедем, его величество отправит нас в Бастилию. Мы не должны терять ни минуты. Поторапливайся, Шон, поторапливайся.
Ее упрек поразил Людовика XV в самое сердце. Он вернулся к графине и взял ее за руку.
— Простите мне, графиня, мою резкость, — проговорил он.
— Откровенно говоря, сир, я удивляюсь, почему вы не пригрозили мне сразу виселицей.
— Графиня!..
— Ну, конечно! Ведь воров приговаривают к повешению.
— И что же?
— Разве я не краду место у госпожи де Грамон?
— Графиня!
— Ах, черт побери! Вот в чем мое преступление, сир!
— Послушайте, графиня, будьте благоразумны: вы привели меня в отчаяние.
— А теперь?
Король протянул ей свои руки.
— Мы оба были не правы. Давайте теперь простим друг друга.
— Вы в самом деле хотите помириться, сир?
— Клянусь честью.
— Ступай, Шон.
— И ни о чем не надо распорядиться? — спросила молодая женщина у сестры.
— Почему же нет? Мои приказания остаются в силе.
— Графиня…
— Пусть ждут новых распоряжений.
— Хорошо.
Шон вышла.
— Так вы меня еще любите? — обратилась графиня к королю.
— Больше всего на свете.
— Подумайте хорошенько о том, что вы говорите, сир. Король в самом деле задумался, но ему некуда было отступать. Кстати, ему было интересно посмотреть, как далеко могут зайти требования победителя.
— Я вас слушаю, — сказал он.
— Одну минуту. Обращаю ваше внимание на то, сир, что я готова была уехать и ни о чем не просила.
— Я обратил на это внимание.
— Но, раз я остаюсь, я кое о чем попрошу.
— О чем же? Остается только узнать.
— Да вы и так отлично знаете!
— Отставки господина де Шуазёля?
— Совершенно верно.
— Это невозможно, графиня.
— Тогда моих лошадей!
— Вот упрямая!
— Подпишите приказ о заточении меня в Бастилию или указ об отставке министра.
— Может быть, стоит поискать золотую середину? — спросил король.
— Спасибо за ваше великодушие, сир. Кажется, я все-таки уеду, ни о чем не беспокоясь.
— Графиня! Вы женщина!
— К счастью, да.
— И вы говорите о политике как женщина строптивая и разгневанная. У меня нет оснований давать отставку господину де Шуазёлю.
— Я понимаю: он кумир ваших парламентов, он же и поддерживает их, когда они восстают против вас.
— Нужен же в конце концов повод?
— Повод нужен слабому человеку.
— Графиня! Господин де Шуазёль — честный человек, а честные люди — редкость.
— Этот честный человек продает вас "черным мантиям", которые отнимают у вас последнее золото.
— Вы преувеличиваете, графиня.
— Совсем немного.
— О Господи! — вскричал раздосадованный Людовик XV.
— До чего же я глупа! — воскликнула графиня. — Какое мне дело до парламентов, до Шуазёлей, до его кабинета министров! Какое мне дело до короля — ведь я его крайнее средство!
— Опять вы за свое!
— Как всегда, сир!
— Графиня! Я прошу у вас два часа на размышление.
— Десять минут, сир. Я ухожу в свою комнату, просуньте записку с ответом под дверь: вот бумага, вот чернила. Если через десять минут ответа не будет или если ответ меня не удовлетворит, — прощайте, сир! Забудьте обо мне. Я уеду. В противном случае…
— В противном случае?..
— Поверните задвижку, и дверь откроется.
Людовик XV из приличия поцеловал графине ручку. Уходя, она послала ему, словно парфянскую стрелу, самую обольстительную свою улыбку.
Король не противился ее уходу, и графиня заперлась в соседней комнате.
Спустя пять минут вчетверо сложенный лист бумаги показался между шелковым шнуром, которым была обшита дверь, и шерстяным ковром.
Графиня с жадностью прочла записку, торопливо написала несколько слов г-ну де Ришелье, прохаживавшемуся во дворике под навесом и рисковавшему обратить на себя внимание, томясь столь долгим ожиданием.
Маршал развернул бумагу, прочел и, несмотря на свои семьдесят пять лет, бегом бросился в большой двор к своей карете.
— Кучер, в Версаль! — приказал он. — Гони во весь опор!
Вот что было сказано в записке, брошенной через окошко г-ну де Ришелье:
"Я потрясла дерево: портфель упал".
LXXIX
КАК КОРОЛЬ ЛЮДОВИК ХV РАБОТАЛ СО СВОИМ МИНИСТРОМ
На следующий день Версаль был в большом волнении. Люди подавали друг другу таинственные знаки, выразительно пожимали руки или же, напротив, скрестив руки на груди, поднимали глаза к небу, что свидетельствовало об их скорби или удивлении.
Господин де Ришелье в окружении многочисленных сторонников находился в приемной короля в Трианоне. Было около десяти часов.
Разодетый граф Жан Дюбарри беседовал со старым маршалом о чем-то веселом, судя по его радостному виду.
Около одиннадцати король торопливо прошел в свой кабинет, ни с кем не заговорив.
В пять минут двенадцатого г-н де Шуазёль вышел из кареты и прошел через галерею, зажав под мышкой портфель.
Это вызвало большое движение: придворные отворачивались, делая вид, что оживленно беседуют, только бы не пришлось здороваться с министром.
Герцог не обратил внимания на этот маневр. Он прошел в кабинет, где король листал досье, попивая шоколад.
— Здравствуйте, герцог, — дружелюбно проговорил король. — Как вы себя чувствуете?
— Сир! Господин де Шуазёль чувствует себя хорошо, а вот министр тяжело болен. Он явился просить ваше величество, не дожидаясь, пока вы сами об этом заговорите, принять его отставку. Я благодарю ваше величество за то, что вы позволили мне самому сказать об этом. Я весьма признателен за эту последнюю милость.
— Какая отставка, герцог? Что это значит?
— Сир! Ваше величество вчера подписали по настоянию госпожи Дюбарри приказ о моем смещении. Эта новость облетела весь Париж и весь Версаль. Зло восторжествовало. Однако я решил не оставлять службу у вашего величества, не получив на то приказа об увольнении. Я был назначен официально и могу считать себя смещенным только на основании официального документа.
— Как, герцог? — со смехом вскричал король, хотя строгая и достойная манера держаться г-на де Шуазёля пугала его. — Как вы, умнейший человек, так приверженный установленным правилам, этому поверили?
— Сир, да ведь вы подписали… — с удивлением начал было министр.
— Что?
— Письмо, которое находится у графини Дюбарри.
— Ах, герцог, неужели вам никогда не приходилось добиваться мира? Счастливый вы человек!.. Впрочем, госпожа де Шуазёль — образцовая супруга.
Герцог нахмурился: сравнение было оскорбительным.
— Ваше величество обладает достаточно твердым и добрым нравом, чтобы не впутывать в государственные дела то, что вы изволите называть семейными делами.
— Шуазёль, я должен вам об этом рассказать: это ужасно забавно. Знаете ли вы, что там вас очень боятся?
— Это означает, что меня ненавидят, ото.
— Если угодно, да. Так вот эта сумасбродная графиня поставила меня перед выбором: отправить ее в Бастилию или отказаться от ваших услуг.
— Так что же, сир?
— Признайтесь, герцог, что было бы обидно пропустить зрелище, которое Версаль представлял собою сегодня утром. Я еще со вчерашнего дня забавляюсь, наблюдая за тем, как по дорогам мчатся гонцы, как вытягиваются лица… Со вчерашнего дня Юбка Третья — королева Франции. Это презабавно!
— Но каков конец, сир?
— Конец, дорогой мой герцог, будет все тот же, — отвечал Людовик XV, снова становясь серьезным. — Вы меня знаете: я делаю вид, что сдаюсь, но никогда не уступаю. Пусть женщины делят медовую лепешку, которую я им время от времени подбрасываю, что когда-то проделывали с Цербером. А мы будем жить спокойно, дружно, всегда вместе. И раз уж мы взялись выяснять отношения, прошу вас иметь в виду: какие бы слухи ни ходили, какое бы письмо я ни написал… непременно приезжайте в Версаль… Пока я говорю с вами так, как теперь, герцог, мы будем добрыми друзьями.
Король протянул министру руку, тот поклонился, не выказывая ни признательности, ни обиды.
— А теперь примемся за дело, если ничего не имеете против, дорогой герцог.
— Як услугам вашего величества, — сказал г-н де Шуазёль, раскрывая портфель.
— Для начала — несколько слов о фейерверке.
— Это было большое бедствие, сир.
— По чьей вине?
— По вине купеческого старшины Биньона.
— Много было крику?
— Да, много.
— Тоща следует отстранить от должности этого господина Биньона.
— Одного из членов парламента едва не раздавили в толпе, поэтому парламент принял это близко к сердцу. Однако генеральный адвокат Сегье произнес блистательную речь и доказал, что причина этого несчастья — роковое стечение обстоятельств. Ему долго аплодировали, и теперь дело улажено.
— Тем лучше! Перейдем к парламентам, герцог… Вот в чем нас упрекают!..
— Меня, сир, упрекают в том, что я не поддержал господина д’Эгильона против господина де Ла Шалоте, но кто меня упрекает? Те самые люди, которые радостно распространили слухи о письме вашего величества. Вы только подумайте, сир: господин д’Эгильон превысил свои полномочия в Бретани; иезуиты действительно были изгнаны; господин де Ла Шалоте был прав; ваше величество сами открыто признали невиновность генерального прокурора. Нельзя так просто опровергать слова короля! В присутствии его министра — куда ни шло, но только не всенародно!
— А пока парламенты считают себя сильными…
— Они в самом деле сильны. Еще бы! Членов парламентов бранят, сажают в тюрьму, оскорбляют, потом объявляют невиновными — еще бы им не быть сильными! Я не обвинял господина д’Эгильона в том, что он начал дело Ла Шалоте, но я никогда не прощу ему того, что он оказался не прав.
— Герцог! Герцог! Зло восторжествовало. Давайте подумаем, как облегчить положение… Как обуздать этих наглецов?..
— Как только прекратятся интриги господина канцлера, как только господин д’Эгильон лишится поддержки, волнение парламента уляжется само собой.
— Но ведь это означало бы, что я уступил, герцог!
— Разве вас, ваше величество, представляет господин д’Эгильон… а не я?
Довод был убедительный, и король это понял.
— Вам известно, — сказал он, — что я не люблю вызывать неудовольствие у своих слуг, даже если они допустили оплошность… Однако оставим это дело, хотя оно меня и огорчает: время покажет, кто был прав… Поговорим теперь о внешней политике… Говорят, я собираюсь воевать?
— Сир, если бы вам и пришлось воевать, это была бы война справедливая и необходимая.
— С англичанами… Дьявольщина!
— Уж не боится ли ваше величество англичан?
— На море…
— Будьте спокойны, ваше величество: герцог де Прален, мой кузен и ваш морской министр, вам подтвердит, что располагает шестьюдесятью четырьмя линейными кораблями, не считая тех, которые строятся на верфях, и строительных материалов еще на дюжину, их можно построить за год… Наконец, пятьдесят сильных фрегатов, что весьма внушительно для войны на море. А для сухопутной войны мы подготовлены еще лучше, вспомните Фонтенуа.
— Очень хорошо. Но чего ради я должен воевать с англичанами, дорогой герцог? Правительство аббата Дюбуа было гораздо менее удачным, нежели ваше, однако ему всегда удавалось избегать войны с Англией.
— Еще бы, сир! Аббат Дюбуа получал от англичан шестьсот тысяч ливров в месяц.
— Герцог!..
— У меня есть тому доказательство, сир.
— Пусть так. Однако в чем вы видите причину войны?
— Англия хочет захватить все Индии. Я был вынужден отдать вашим офицерам самые строгие, самые жесткие приказания. Первая же стычка там повлечет за собой протест Англии. Я твердо убежден, что мы его не примем. Необходимо, чтобы правительство вашего величества уважали за его силу, а не благодаря подкупу.
— Не будем горячиться. Кто знает, что там будет, в этой Индии? Это так далеко!
Герцог с досады стал кусать губы.
— Есть еще более приятный casus belli для нас, сир, — заметил он.
— Что еще?
— Испанцы претендуют на владение островами Мальвины и Фолкленд… Порт Эгмонт незаконно был захвачен англичанами, а испанцы выгнали их; отсюда ярость Англии: она предупреждает испанцев, что готова пойти на крайние меры, если ее требования не будут удовлетворены.
— Ну, раз испанцы не правы, пусть сами и выпутываются.
— Сир, а Фамильный пакт? Зачем вы настаивали на подписании этого пакта? Ведь он тесно связывает всех европейских Бурбонов и объединяет их против любых замыслов Англии.
Король опустил голову.
— Не беспокойтесь, сир, — продолжал г-н де Шуазёль, — у вас есть великолепная армия, внушительные морские силы, у вас есть деньги, наконец. Я сумею добыть их так, чтобы не возмущать народ. Если нам придется воевать, это будет славное дело вашего царствования, и я проектирую такое увеличение налогов, для которого найдется и повод и объяснение.
— Знаете, герцог, сначала надо навести порядок внутри страны, а уж потом воевать со всем светом.
— Но внутри страны все спокойно, сир, — возразил герцог, делая вид, что не понимает короля.
— Нет, нет, вы сами понимаете, что это не так. Вы меня любите и хорошо мне служите. Есть и другие люди, уверяющие меня в своей любви, однако они ведут себя совсем иначе, нежели вы. Надо привести всех к согласию. Видите ли, дорогой герцог, я хочу жить счастливо и спокойно.
— Не от меня зависит, чтобы ваше счастье было полным, сир.
— Прекрасно сказано. В таком случае приглашаю вас со мною сегодня отобедать.
— В Версале, сир?
— Нет, в замке Люсьенн.
— От души сожалею, сир, но моя семья очень обеспокоена распространенной вчера новостью. Все думают, что я впал у вашего величества в немилость. Я не могу заставить их долго страдать в неведении.
— А разве те, о ком я вам рассказываю, не страдают, герцог? Вспомните, как мы дружно жили втроем, когда с нами была бедная маркиза.
Герцог наклонил голову, глаза его подернулись слезой, и он не смог подавить вздох.
— Маркиза де Помпадур радела о славе вашего величества, — произнес он. — Она хорошо разбиралась в политике. Должен признаться, что ее гений отвечал моему характеру. Нам частенько случалось бок о бок заниматься делами, которые она затевала. Да, мы прекрасно ладили.
— Но ведь она вмешивалась в политику, герцог, весь мир упрекал ее в этом.
— Это верно.
— А нынешняя, напротив, безропотна, как агнец. Она не подписала еще ни одного приказа о заточении без суда и следствия, она сносит даже насмешки памфлетистов и рифмоплетов. Ее упрекают в чужих грехах. Ах, герцог, все это делается для того, чтобы нарушить согласие! Приезжайте в Люсьенн и заключите мир…
— Сир, соблаговолите передать госпоже Дюбарри, что я считаю ее прелестной женщиной, вполне достойной любви короля, но…
— Опять "но", герцог…
— Но, — продолжал г-н де Шуазёль, — я совершенно убежден, что если ваше величество необходимы Франции, то сегодня хороший министр больше нужен вашему величеству, нежели очаровательная любовница.
— Не будем больше об этом говорить и останемся добрыми друзьями. Попросите госпожу де Грамон, чтобы она ничего больше не замышляла против графини; женщины могут нас поссорить.
— У госпожи де Грамон, сир, слишком большое желание понравиться вашему величеству. Вот в чем ее беда.
— Мне не нравится, что она старается навредить графине, герцог.
— Госпожа де Грамон уезжает, сир, и ее больше не увидят: одним врагом станет меньше.
— Я не считаю ее врагом, вы зашли слишком далеко. Впрочем, у меня голова идет кругом, герцог, мы сегодня с вами поработали, словно Людовик Четырнадцатый с Кольбером. Мы побывали в "великом веке", как говорят философы. Кстати, герцог, вы философ?
— Я слуга вашего величества, — возразил г-н де Шуазёль.
— Вы меня восхищаете, бесценный вы человек! Дайте вашу руку, я так устал!
Герцог поспешно предложил руку его величеству.
Он сообразил, что сейчас двери широко распахнутся и весь двор, собравшийся в галерее, увидит герцога во всем блеске. Он столько пережил накануне, что теперь не прочь был доставить неприятность своим врагам.
Лакей распахнул дверь и доложил в галерее о появлении короля.
Продолжая беседовать с г-ном де Шуазёлем, по-прежнему ему улыбаясь и опираясь на его руку, Людовик XV прошел сквозь толпу придворных, не желая замечать, как побледнел Жан Дюарри и как покраснел г-н де Ришелье.
Зато де Шуазёль сразу заметил эту игру оттенков на лицах. Не поворачивая головы, он, сверкая глазами, важно прошел мимо придворных; те, что утром старались от него удалиться, теперь пытались оказаться как можно ближе к нему.
— Подождите меня здесь, герцог, я приглашаю вас в Трианон. Помните обо всем, что я вам сказал.
— Я храню это в своей душе, — отвечал министр, отлично понимая, что этой тонкой фразой он пронзит сердца всех своих врагов.
Король вернулся к себе.
Тогда г-н де Ришелье покинул ряд выстроившихся придворных и подошел к министру, взял его руку в свои худые руки и сказал:
— Я давно знаю одного Шуазёля, живучего, как кошка.
— Благодарю, — ответил герцог, знавший, как к этому отнестись.
— Но что это был за нелепый слух?.. — продолжал маршал.
— Этот слух развеселил короля, — заметил г-н де Шуазёль.
— Рассказывали о каком-то письме…
— Это была мистификация со стороны короля, — отвечал министр, взглянув в сторону едва сдерживавшегося Жана.
— Чудесно! Чудесно! — повторил маршал, повернувшись к виконту, как только герцог де Шуазёль скрылся и не мог больше его видеть.
Спускаясь по лестнице, король позвал герцога, и тот быстро его нагнал.
— Эге! С нами сыграли шутку, — обратился маршал к Жану.
— Куда они направляются?
— В Малый Трианон, чтобы там над нами посмеяться.
— Тысяча чертей! — пробормотал Жан. — Ах, простите, господин маршал.
— Теперь моя очередь, — сказал тот. — Посмотрим, не окажется ли мое средство более действенным, чем средство графини.
LXXX
МАЛЫЙ ТРИАНОН
Когда Людовик XIV построил Версаль и признал все неудобства его огромных размеров, когда он увидел набитые гвардейцами громадные залы, прихожие, полные придворных, коридоры и антресоли, полные лакеев, пажей и сотрапезников, он сказал себе, что Версаль получился именно таким, каким он хотел его видеть: Мансар, Лебрен и Ленотр создавали его как храм для бога, а не дом для человека.
Тогда великий король, бывавший изредка и человеком, приказал выстроить Трианон, где он мог бы передохнуть вдали от чужих глаз. Однако Ахиллесов меч, утомивший и самого Ахилла, оказался не по силам его наследнику-мирмидонянину.
Трианон — уменьшенный Версаль — Людовику XV показался чересчур помпезным, и он поручил архитектору Габриелю возвести Малый Трианон, павильон площадью шестьдесят на шестьдесят футов.
Слева от него построили невзрачное, без украшений квадратное здание. Это было жилище для слуг и приглашенных. Оно насчитывало до десяти апартаментов, и там же могло разместиться до пятидесяти лакеев. Давайте в общих чертах познакомимся с этом сооружением, которое существует и поныне. В нем два этажа и чердак. Первый этаж защищен выложенным камнем рвом, который отделяет его от густого леса. Все его окна, как и на втором этаже, забраны решетками. Если смотреть со стороны Трианона, кажется, что эти окна освещают длинный коридор, похожий на монастырский.
Восемь или девять дверей, выходящих в коридор, ведут в апартаменты. Все они состоят из передней с двумя кабинетами, расположенными один — с правой, другой — с левой стороны, и низкой комнаты или даже двух, выходящих окнами во внутренний дворик здания.
Под домом — кухни; на чердаке — комнаты для прислуги.
Вот и весь Малый Трианон.
Прибавьте часовню, отстоящую от дворца на двадцать туазов; мы не станем ее описывать, потому что в этом нет никакой надобности. В этом дворце может разместиться одна семья, как сказали бы в наши дни.
Вот что представляет собой топография местности: из замка через большие окна можно увидеть парк и лес, слева — скрытые в густой заросли службы с зарешеченными окнами коридоров и кухонь.
Из Большого Трианона, парадного обиталища Людовика XIV, в Малый можно было пройти по деревянному мостику, минуя огород, расположенный между обеими резиденциями.
Именно через этот огород, он же фруктовый сад, распланированный и засаженный Ла Кинтини, Людовик XV и повел г-на де Шуазёля в Малый Трианон после описанного нами делового свидания. Король хотел ему показать новые усовершенствования, предпринятые им в связи с переездом в Малый Трианон дофина с супругой. Господин де Шуазёль всем восхищался, все оценивал с проницательностью ловкого придворного. Он терпеливо выслушивал короля, а король говорил о том, что Малый Трианон день ото дня становится все красивее, в нем все приятнее становится жить. Министр приговаривал, что для его величества это семейное гнездышко.
— Супруга дофина еще диковата, — говорил король, — как, впрочем, все молодые немки; она хорошо говорит по-французски, но опасается, что легкий акцент выдает в ней австриячку. В Трианоне она будет слышать только друзей, а говорить станет, только когда пожелает.
— Из этого следует, что она будет говорить хорошо. Я уже отметил, — изрек г-н де Шуазёль, — что ее королевское высочество обладает превосходными качествами и ей не в чем совершенствоваться.
Дорогой путешественники повстречали на одной из лужаек дофина: он определял высоту солнца.
Господин де Шуазёль низко поклонился. Так как дофин ничего ему не сказал, он тоже промолчал.
Король произнес намеренно громко, так, чтобы его услышал внук:
— Людовик — ученый, но он не прав, что так усердно занимается науками, его супруга будет от этого страдать.
— Ничуть! — нежным голоском возразила молодая женщина, выходя из кустарника.
Король увидел, как к нему направилась принцесса, на ходу беседуя с каким-то господином, у которого обе руки были заняты бумагами, циркулями и карандашами.
— Сир, это господин Мик, мой архитектор, — представила принцесса своего спутника.
— A-а, вы тоже страдаете этой болезнью, сударыня? — заметил король.
— Сир, эта болезнь наследственная.
— Вы собираетесь что-нибудь строить?
— Я хочу обустроить этот огромный парк, где все скучают.
— Хо-хо! Дитя мое, вы слишком громко говорите, вас может услышать дофин.
— Тут мы с ним единодушны, батюшка, — возразила принцесса.
— Вы вместе скучаете?
— Нет, мы пытаемся найти развлечения.
— И поэтому ваше королевское высочество собирается заняться строительством? — спросил г-н де Шуазёль.
— Я хочу превратить парк в сад, господин герцог.
— Бедный Ленотр! — проговорил король.
— Ленотр был великим человеком своего времени. Что же касается моих вкусов…
— А что вы любите, сударыня?
— Природу.
— Как все философы.
— Или как англичане.
— Не говорите этого при Шуазёле, иначе он объявит вам войну. Он направит против вас шестьдесят четыре линейных корабля и сорок фрегатов своего кузена господина де Пралена.
— Я закажу план натурального сада господину Роберу, сир, — сообщила дофина, — это очень подходящий человек для подобного рода поручений.
— Что вы называете натуральным садом? — спросил король. — Я думал, что деревья, цветы и даже фрукты — вот как эти, я собрал их по пути сюда, — все это более чем натурально.
— Сир, если вы будете здесь гулять хоть сто лет вы увидите все те же неизменные прямые аллеи среди деревьев, прорезанные под углом в сорок пять градусов, как говорит господин дофин, а также бассейны, газоны, сочетающиеся с перспективами, или с посаженными в шахматном порядке деревьями, или с террасами.
— Ну и что же, это некрасиво?
— Это неестественно.
— Полюбуйтесь на эту девочку, обожающую природу! — проговорил король скорее добродушно, нежели весело. — Посмотрим, что вы сделаете из моего Трианона.
— Тут будут ручьи, каскады, мосты, гроты, скалы, леса, лощины, домики, горы, луга.
— Это все для кукол, наверное? — спросил король.
— Нет, сир, для королей — таких, какими нам суждено стать, — возразила принцесса, не увидев выступившей на щеках короля краски, как не заметила она и того, что сама себе предрекает страшное будущее.
— Итак, вы собираетесь перевернуть все вверх дном. Однако, что же вы будете строить?
— Я сохраню все, что было прежде.
— Хорошо еще, что вы не собираетесь населить эти леса и реки индейцами, эскимосами и гренландцами. Они вели бы здесь естественный образ жизни, и господин Руссо называл бы их детьми природы… Сделайте это, дочь моя, и вас станут обожать энциклопедисты.
— Сир, мои слуги замерзли бы в этих помещениях.
— Где же вы их поселите, если собираетесь все разломать? Ведь не во дворце же: там едва хватит места вам двоим.
— Я оставлю службы в нынешнем виде.
Принцесса указала на окна описанного нами коридора.
— Кого я там вижу? — спросил король, загораживаясь рукой от солнца.
— Какая-то дама, сир, — отвечал г-н де Шуазёль.
— Эту девушку я принимаю к себе на службу, — пояснила принцесса.
— Мадемуазель де Таверне, — заметил г-н де Шуазёль, пристально взглянув в окно.
— A-а, так у вас здесь живут Таверне?
— Только мадемуазель де Таверне, сир.
— Чудо как хороша! Чем она занимается?
— Она моя чтица.
— Прекрасно! — воскликнул король, не сводя глаз с зарешеченного окна, у которого с невинным видом стояла мадемуазель де Таверне, не подозревая, что на нее смотрят. Она была еще бледна после болезни.
— До чего бледненькая! — заметил г-н де Шуазёль.
— Ее чуть было не задавили тридцать первого мая, господин герцог.
— Неужели? Бедная девочка! — вздохнул король. — Этот господин Биньон заслужил ее неудовольствие.
— Она уже поправилась? — с живостью спросил г-н де Шуазёль.
— Слава Богу, да, господин герцог.
— Ну вот, она спасается от нас, — заметил король.
— Должно быть, узнала ваше величество: она очень застенчива.
— Давно она у вас?
— Со вчерашнего дня, сир; переезжая, я пригласила ее к себе.
— Унылое жилище для хорошенькой девушки, — продолжал Людовик XV. — Этот чертов Габриель поступил неразумно, он не подумал о том, что деревья вырастут и скроют здание служб в тени. Там теперь совсем нет света.
— Да нет, сир, уверяю вас, что дом вполне подходит для жилья.
— Этого не может быть, — возразил Людовик XV.
— Не желает ли ваше величество сам в этом убедиться? — предложила дофина, ревниво относившаяся к такой чести, как визит короля.
— Хорошо. Вы пойдете, Шуазёль?
— Сир, сейчас два часа. В половине третьего у меня заседание парламента. Пора возвращаться в Версаль…
— Ну хорошо, идите, герцог, идите и хорошенько тряхните эти черные мантии. Принцесса! Покажите мне малые апартаменты, прошу вас! Я обожаю интерьеры!
— Прошу, господин Мик, — обратилась принцесса к архитектору, — у вас будет случай услышать мнение его величества, который так хорошо во всем разбирается.
Король пошел вперед, дофина последовала за ним.
Они поднялись на невысокую паперть часовни, оставив в стороне проход во двор.
По левую руку у них осталась дверь в часовню, с другой стороны прямая строгая лестница вела в коридор, в котором располагались апартаменты придворных.
— Кто здесь проживает? — спросил Людовик XV.
— Пока никто, сир.
— Взгляните: в первой двери — ключ.
— Да, вы правы: мадемуазель де Таверне перевозит сегодня вещи и переезжает.
— Сюда? — спросил король, указав на дверь.
— Да, сир.
— Так она у себя? В таком случае, не пойдем.
— Сир, она только что вышла, я видела ее под навесом, во внутреннем дворике, на который выходят кухни.
— Тогда покажите мне ее жилище как образец.
— Как вам будет угодно, — отвечала дофина.
Проведя короля через переднюю и два кабинета, она ввела его в комнату.
В комнате уже было расставлено кое-что из мебели, книги, клавесин. Внимание короля привлек огромный букет великолепных цветов, который мадемуазель де Таверне успела поставить в японскую вазу.
— Какие красивые цветы! — заметил король. — А вы собираетесь изменить сад… Кто же снабжает ваших людей такими цветами? Надеюсь, их оставили и для вас?
— Да, в самом деле, прекрасный букет!
— Садовник благоволит к мадемуазель де Таверне… Кто у вас садовник?
— Не знаю, сир. Этими вопросами ведает господин де Жюсьё.
Король обвел комнату любопытным взглядом, выглянул наружу, во двор, и вышел.
Его величество отправился через парк в Большой Трианон. Около входа его ждали лошади: после обеда он собирался отправиться в карете на охоту и пробыть там с трех до шести часов вечера.
Дофин по-прежнему измерял высоту солнца.
Назад: LXVI АНДРЕ ДЕ ТАВЕРНЕ
Дальше: LXXXI ЗАГОВОР ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ