Книга: А. Дюма - Собрание сочинений. Том 14. Граф де Монте-Кристо Часть. 1,2,3
Назад: Часть первая
Дальше: XI КОРСИКАНСКИЙ ЛЮДОЕД
V
ОБРУЧЕНИЕ
На следующий день утро выдалось теплое и ясное. Солнце встало яркое и сверкающее, и его первые пурпурные лучи расцветили рубинами пенистые гребни волн.
Пир был приготовлен во втором этаже того самого "Резерва", с беседкой которого мы уже знакомы. Это был большой зал, в шесть окон, и над каждым окном — Бог весть почему — было начертано имя одного из крупнейших французских городов.
Вдоль этих окон шла галерея, деревянная, как и все здание.
Хотя обед назначен был только в полдень, однако уже с одиннадцати часов по галерее прогуливались нетерпеливые гости. То были моряки с "Фараона" и несколько солдат, приятелей Дантеса. Все они из уважения к жениху и невесте нарядились в парадное платье.
Среди гостей пронесся слух, что свадебный пир почтят своим присутствием хозяева "Фараона", но это была такая честь для Дантеса, что никто не решался этому поверить.
Однако Данглар, придя вместе с Кадруссом, в свою очередь подтвердил это известие. Утром он сам видел господина Морреля, и тот сказал ему, что будет обедать в "Резерве".
И в самом деле, через несколько минут в залу вошел Моррель. Матросы приветствовали его дружными рукоплесканиями. Присутствие арматора служило для них подтверждением уже распространившегося слуха, что Дантес будет назначен капитаном. Бывалые моряки очень любили Дантеса и выражали благодарность своему хозяину за то, что хоть раз его выбор совпал с их желаниями. Едва Моррель вошел, как, по единодушному требованию, Данглара и Кадрусса послали к жениху с поручением известить его о прибытии арматора, появление которого возбудило всеобщую радость, и сказать ему, чтобы он поторопился.
Данглар и Кадрусс пустились бегом, но не пробежали и ста шагов, как встретили жениха и невесту.
Четыре каталанки, подруги Мерседес, провожали невесту; Эдмон вел ее под руку. Рядом с невестой шел старик Дантес, а сзади — Фернан. Злобная улыбка кривила его губы.
Ни Мерседес, ни Эдмон не замечали этой улыбки. Бедняжки были так счастливы, что видели только себя и безоблачное небо, которое, казалось, благословляло их.
Данглар и Кадрусс исполнили возложенное на них поручение, потом, крепко и дружески пожав руку Эдмону, заняли свои места — Данглар рядом с Фернаном, а Кадрусс рядом со стариком Дантесом, предметом всеобщего внимания.
Старик надел свой шелковый фрак с гранеными стальными пуговицами. Его худые, но мускулистые ноги красовались в великолепных бумажных чулках с мушками, которые явно отдавали английской контрабандой. На треугольной шляпе висел пук белых и голубых лент. Он опирался на витую палку, загнутую наверху, как античный посох. Словом, он ничем не отличался от щеголей 1796 года, прохаживавшихся во вновь открытых садах Люксембурга и Тюильри.
К нему, как мы уже сказали, присоединился Кадрусс, которого надежда на хороший обед окончательно примирила с Дантесами; Кадрусс, у которого в уме осталось смутное воспоминание о том, что происходило накануне, как бывает, когда, проснувшись утром, сохраняешь в памяти тень сна, виденного ночью.
Данглар, подойдя к Фернану, пристально взглянул на разочарованного поклонника. Фернан, шагая за будущими супругами, совершенно забытый Мерседес, которая в упоении юной любви ничего не видела, кроме своего Эдмона, — то бледнел, то краснел. Время от времени он посматривал в сторону Марселя и при этом всякий раз невольно вздрагивал. Казалось, Фернан ожидал или по крайней мере предвидел какое-то важное событие.
Дантес был одет просто. Служа в торговом флоте, он носил форму, среднюю между военным мундиром и штатским платьем, и его открытое лицо, просветленное радостью, было очень красиво.
Мерседес была хороша, как кипрская или хиосская гречанка, с черными глазами и коралловыми губками. Она шла шагом вольным и свободным, как ходят арлезианки и андалуски. Городская девушка попыталась бы, может быть, скрыть свою радость под вуалью или по крайней мере под бархатом ресниц, но Мерседес улыбалась и смотрела на всех окружавших, и ее улыбка и взгляд говорили так же откровенно, как могли бы сказать уста: "Если вы друзья мне, то радуйтесь со мною, потому что я поистине очень счастлива!"
Когда жених, невеста и провожатые подошли к "Резерву", Моррель пошел к ним навстречу, окруженный матросами и солдатами, которым он повторил обещание, данное Дантесу, что он будет назначен капитаном на место покойного Леклера. Увидев его, Дантес выпустил руку Мерседес и уступил место Моррелю. Арматор и невеста, подавая пример гостям, взошли по лестнице в столовую, и еще добрых пять минут деревянные ступени скрипели под тяжелыми шагами гостей.
— Батюшка, — сказала Мерседес, остановившись у середины стола, — садитесь по правую руку от меня, прошу вас, а по левую я посажу того, кто заменил мне брата, — прибавила она с лаской в голосе, которая кинжалом ударила Фернана в самое сердце. Губы его посинели, и видно было, как под загорелой кожей вся кровь, приливая к сердцу, отхлынула от лица.
Дантес возле себя посадил господина Морреля и Данглара: первого по правую, второго по левую сторону; потом сделал знак рукой, приглашая остальных рассаживаться как им угодно.
Уже путешествовали вокруг стола румяные и пахучие арльские колбасы, лангусты в ослепительных латах, венерки с розоватой раковиной, морские ежи, напоминающие каштаны с их колючей оболочкой, кловиссы, с успехом заменяющие южным гастрономам северные устрицы— словом, все те изысканные лакомства, которые волна выносит на песчаный берег и которые благодарные рыбаки называют общим именем "морские плоды".
— Какая тишина! — сказал старик Дантес, прихлебывая желтое, как топаз, вино, принесенное и поставленное перед Мерседес самим хозяином. — Кто бы сказал, что здесь тридцать человек, которые только и ждут, чтобы побалагурить?
— Жених не всегда бывает весел, — заметил Кадрусс.
— Да, — подхватил Эдмон, — я слишком счастлив, чтобы быть веселым. Если вы это хотели сказать, сосед, то вы совершенно правы. Радость производит иногда странное действие: она гнетет, как печаль.
Данглар взглянул на Фернана, на лице которого отражалось каждое движение его души.
— Полноте! Или вы боитесь чего-нибудь? — спросил он. — Мне, напротив, кажется, что все ваши желания исполняются.
— Это-то и пугает меня, — отвечал Дантес. — Мне кажется, что человек не создан для такого легкого счастья! Счастье похоже на сказочные дворцы, двери которых стерегут драконы. Надобно бороться, чтобы овладеть ими, а я, право, не знаю, чем я заслужил счастье быть мужем Мерседес.
— Мужем!.. — сказал Кадрусс со смехом. — Нет еще, капитан; попробуй-ка разыгрывать мужа, так увидишь, как тебя примут.
Мерседес покраснела.
Фернан ерзал на стуле, вздрагивал при малейшем шуме и то и дело отирал пот, который выступал на его лбу, словно первые капли грозового дождя.
— Не стоит спорить из-за мелочей, сосед, — отвечал Эдмон Кадруссу, — Мерседес еще не жена мне, это верно…
Он посмотрел на часы.
— Но через полтора часа она ею будет!
Все вскрикнули от удивления, кроме старика Дантеса, который широко осклабился, показывая еще крепкие зубы. Мерседес улыбнулась, но уже не покраснела. Фернан судорожно схватился за рукоять своего ножа.
— Через полтора часа! — сказал Данглар, тоже побледнев. — Как так?
— Да, друзья мои, — отвечал Дантес, — благодаря содействию господина Морреля, которому, после моего отца, я обязан больше всех на свете, все препятствия устранены. Мы сделали денежный взнос, чтобы обойтись без оглашения, и в половине третьего марсельский мэр ждет нас в ратуше. А так как уже пробило четверть второго, то едва ли я очень ошибусь, если скажу, что через час и тридцать минут Мерседес будет называться госпожою Дантес.
Фернан закрыл глаза: огненный туман обжег ему веки; он облокотился на стол, чтобы не упасть, и, несмотря на все свои усилия, не мог удержать стона, который потонул в хохоте и шумных поздравлениях гостей.
— Воз это дело, как вам такое нравится? — сказал старик Дантес. — Это называется не терять времени! Вчера утром приехал, сегодня в три часа женат! Только моряки гак умеют!
— Но разные формальности, — нерешительно вставил Данглар, — контракт, бумаги?..
— Контракт! — сказал Дантес смеясь. — Контракт готов. У Мерседес ничего нет, у меня тоже! Все у нас общее… Это недолго было написать, да и стоит недорого.
Эта шутка вызвала новый взрыв хохота и рукоплесканий.
— Значит, мы присутствуем не на обручении, — сказал Данглар, — а попросту на свадьбе.
— Нет, — возразил Эдмон, — вы ничего не потеряете, будьте спокойны. Завтра утром я еду в Париж. Четыре дня туда, четыре дня обратно, один день на выполнение данного мне поручения, и девятого марта я буду здесь, а десятого числа будет настоящий свадебный пир.
Надежда на новое пиршество удвоила общую веселость, так что старик Дантес, который в начале обеда жаловался на тишину, теперь среди общего шума тщетно пытался предложить тост за счастье будущих супругов.
Дантес угадал мысль отца и отвечал ему улыбкой, полной любви. Мерседес посмотрела на стенные часы и кивнула Эдмону.
За столом царило то шумное и непринужденное веселье, которое всегда сопровождает конец обеда у простых людей. Недовольные своими местами встали из-за стола и подсели к другим, более приятным собеседникам. Все говорили одновременно, никто не отвечал на вопросы, каждый был занят только своими собственными мыслями.
Данглар был почти так же бледен, как Фернан; что же касается последнего, то он еле дышал и казался грешником, погруженным в огненное озеро. Он встал одним из первых и прохаживался по зале, напрягая слух среди гула голосов и стука стаканов.
Кадрусс подошел к Фернану, и тотчас же к ним присоединился Данглар, которого Фернан, казалось, избегал.
— Что верно, то верно, — сказал Кадрусс, в котором радушие жениха и доброе вино старика Памфила окончательно заглушили зависть, зародившуюся в его душе при виде неожиданного счастья Эдмона. — Дантес— славный малый; гляжу я на него, как он сидит со своей невестой, и думаю: нехорошо было бы сыграть с ним ту скверную штуку, которую вы вчера задумали.
— Да ведь ты видел, что мы не дали ей ходу, — сказал Данглар. — Бедный Фернан был в таком отчаянии, что сначала мне стало жаль его; но раз он примирился со своим горем, даже согласился быть шафером у своего соперника, так и говорить больше нечего.
Кадрусс взглянул на Фернана. Тот был мертвенно-бледен.
— Жертва тем более велика, что невеста в самом деле красавица, — продолжал Данглар. — Черт возьми! Мой будущий капитан — счастливчик! Хотел бы я зваться Дантесом хоть один денек.
— Идем? — раздался нежный голос Мерседес. — Вот уже бьет два часа, а нас ждут в четверть третьего.
— Да, да, идем, — сказал Дантес, быстро вставая.
— Идем! — хором подхватили гости.
В ту же минуту Данглар, который пристально следил за Фернаном, сидевшим на подоконнике, увидел, что тот дико вытаращил глаза, привскочил и снова сел на подоконник. Снаружи донесся неясный шум; тяжелые шаги, невнятные голоса и бряцание оружия заглушили веселый говор гостей, который сразу сменился тревожным молчанием.
Шум приближался; в дверь три раза ударили. Гости с изумлением переглянулись.
— Именем закона! — раздался громкий голос; никто не ответил.
Тотчас дверь отворилась, и полицейский комиссар, опоясанный шарфом, вошел в залу в сопровождении четырех вооруженных солдат и капрала.
Тревога сменилась ужасом.
— В чем дело? — спросил арматор, подходя к комиссару, с которым был знаком. — Это, наверно, недоразумение.
— Если это недоразумение, господин Моррель, — отвечал комиссар, — то можете быть уверены, что оно быстро разъяснится, а пока у меня есть приказ об аресте, и я, хоть с сожалением, исполняю этот долг, все же должен его исполнить. Кто из вас, господа, Эдмон Дантес?
Все взгляды обратились на Эдмона, который в сильном волнении, но сохраняя достоинство, выступил вперед и сказал:
— Это я, сударь. Что вам угодно?
— Эдмон Дантес, — сказал комиссар, — именем закона я вас арестую!
— Арестуете? — переспросил Эдмон, слегка побледнев. — За что вы меня арестуете?
— Не знаю, сударь, но на первом допросе вы все узнаете.
Моррель понял, что делать нечего: комиссар, опоясанный шарфом, не человек, это статуя, воплощающая закон, холодная, глухая, безмолвная.
Но старик Дантес бросился к комиссару; есть вещи, которые сердце отца или матери понять не может. Он просил, умолял. Слезы и мольбы были напрасны. Но отчаяние его было так велико, что комиссар почувствовал сострадание.
— Успокойтесь, сударь! — сказал он. — Может быть, ваш сын не исполнил каких-нибудь карантинных или таможенных предписаний, и когда он даст нужные разъяснения, его, вероятно, тотчас же освободят.
— Что это значит? — спросил, нахмурив брови, Кадрусс у Данглара, который притворялся удивленным.
— Я почем знаю! — отвечал Данглар. — Я, как и ты, вижу, что делается, ничего не понимаю и удивляюсь.
Кадрусс искал глазами Фернана, но тот исчез.
Тогда вся вчерашняя сцена представилась ему с ужасающей ясностью: разыгравшаяся трагедия словно сдернула покров, который вчерашнее опьянение набросило на его память.
— Уже не последствия ли это шутки, о которой вы говорили вчера? — сказал он хрипло. — В таком случае горе тому, кто ее затеял, — в ней веселого мало.
— Да нет же! — воскликнул Данглар. — Ведь ты знаешь, что я разорвал записку.
— Ты не разорвал ее, — сказал Кадрусс, — а бросил в угол, только и всего.
— Молчи, ты ничего не видел, ты был пьян.
— Где Фернан? — спросил Кадрусс.
— Почем я знаю? — отвечал Данглар. — Верно, ушел по своим делам. Но чем заниматься пустяками, пойдем лучше поможем несчастному старику.
Дантес уже успел с улыбкой подать руки всем своим друзьям и отдался в руки солдат.
— Будьте спокойны, ошибка объяснится, и, вероятно, я даже не дойду до тюрьмы, — сказал он.
— О, разумеется, я готов поручиться! — подхватил подошедший Данглар.
Дантес спустился с лестницы. Впереди него шел комиссар, по бокам — солдаты. Карета с раскрытой дверцей ждала у ворот. Дантес сел, с ним сели комиссар и два солдата. Дверца захлопнулась, и карета покатила в Марсель.
— Прощай, Дантес! Прощай, Эдмон! — закричала Мерседес, выбегая на галерею.
Узник услышал этот последний крик, вырвавшийся, словно рыдание, из растерзанного сердца его невесты, выглянул в окно кареты, крикнул: "До свидания, Мерседес!" — и исчез за углом форта святого Николая.
— Подождите меня здесь, — сказал арматор, — я сяду в первую карету, какая мне встретится, съезжу в Марсель и вернусь к вам с известиями.
— Поезжайте, — закричали все в один голос, — поезжайте и возвращайтесь поскорее!
После этого двойного отъезда среди оставшихся несколько минут царило мрачное уныние.
Отец Эдмона и Мерседес долго стояли врозь, погруженные каждый в свою скорбь, наконец глаза их встретились. Оба почувствовали, что они две жертвы, пораженные одним и тем же ударом, и бросились друг другу в объятия.
В это время в залу воротился Фернан, налил себе стакан воды, выпил и сел на стул.
Случилось так, что на соседний стул, отойдя от старика, опустилась Мерседес.
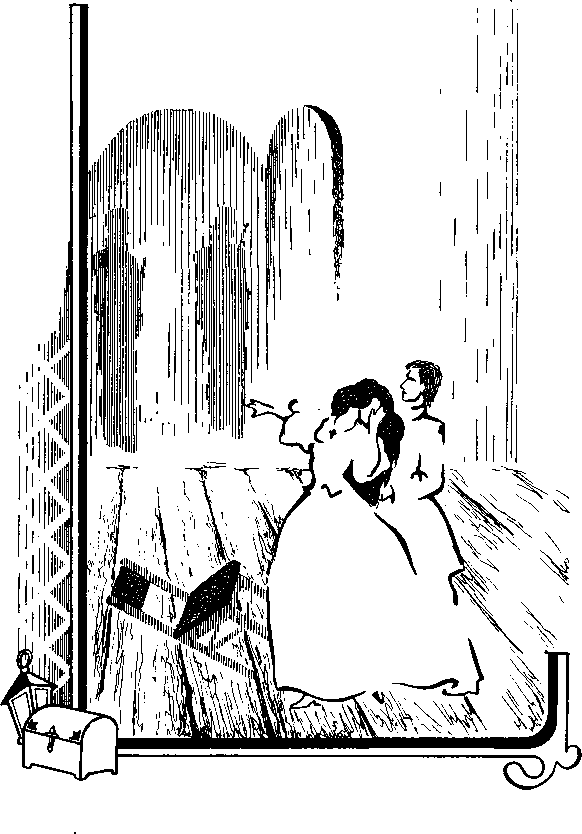
Фернан невольно отодвинул свой стул.
— Это он! — сказал Данглару Кадрусс, не спускавший глаз с каталанца.
— Не думаю, — отвечал Данглар, — он слишком глуп; во всяком случае, грех на том, кто это сделал.
— Ты забываешь о том, кто ему посоветовал, — сказал Кадрусс.
— Ну, знаешь! — ответил Данглар. — Если бы пришлось отвечать за все то, что говоришь на ветер!
— Должен отвечать, когда то, что говоришь на ветер, падает другому на голову!
Между тем гости на все лады истолковывали арест Дантеса.
— А вы, Данглар, — спросил чей-то голос, — что думаете об этом?
— Я думаю, — отвечал Данглар, — не провез ли он каких-нибудь запрещенных товаров.
— Но вы, Данглар, как бухгалтер, должны были бы знать об этом.
— Да, конечно, но бухгалтер знает только то, что ему предъявляют. Я знаю, что мы привезли хлопок, вот и все; что мы взяли груз в Александрии у Пастре и в Смирне у Паскаля; больше у меня ничего не спрашивайте.
— О! Теперь я вспоминаю, — прошептал несчастный отец, цепляясь за последнюю надежду. — Он говорил мне вчера, что привез для меня ящик кофе и ящик табаку.
— Вот видите, — сказал Данглар, — так и есть! В наше отсутствие таможенники обыскали "Фараон" и нашли контрабанду.
Мерседес этому не поверила. Долго сдерживаемое горе вдруг вырвалось наружу, и она разразилась рыданиями.
— Полно, полно, будем надеяться, — сказал старик, сам не зная, что говорит.
— Будем надеяться! — повторил Данглар.
"Будем надеяться!" — хотел сказать Фернан, но слова застряли у него в горле, только губы беззвучно шевелились.
— Господа! — закричал один из гостей, стороживший на галерее. — Господа, карета! Моррель! Он, наверное, везет нам добрые вести!
Мерседес и старик-отец бросились навстречу арматору. Они столкнулись в дверях. Моррель был очень бледен.
— Ну что? — спросили они в один голос.
— Друзья мои! — отвечал арматор, качая головой. — Дело оказалось гораздо серьезнее, чем мы думали.
— О, господин Моррель! — вскричала Мерседес. — Он невиновен!
— Я в этом убежден, — отвечал Моррель, — но его обвиняют…
— В чем же? — спросил старик Дантес.
— В том, что он бонапартистский агент.
Те из читателей, которые жили в эпоху, к которой относится мой рассказ, помнят, какое это было страшное обвинение.
Мерседес вскрикнула; старик упал на стул.
— Все-таки, — прошептал Кадрусс, — вы меня обманули, Данглар, и шутка сыграна, но я не хочу, чтобы бедный старик и невеста умерли с горя, я сейчас же расскажу им все.
— Молчи, несчастный! — крикнул Данглар, хватая его за руку. — Молчи, если тебе дорога жизнь. Кто тебе сказал, что Дантес не виновен? Корабль заходил на остров Эльба, Дантес сходил на берег, пробыл целый день в Портоферрайо. Что, если при нем найдут какое-нибудь уличающее письмо? Тогда всех, кто за него заступится, обвинят в сообщничестве.
Кадрусс, с присущим эгоизму чутьем, сразу понял всю вескость этих доводов; он посмотрел на Данглара растерянным, испуганным взглядом и, вместо того чтобы сделать шаг вперед, отскочил на два шага назад.
— Если так, подождем, — прошептал он.
— Да, подождем, — сказал Данглар. — Если он невиновен, его освободят; если виновен, то не стоит подвергать себя опасности ради заговорщика.
— Тогда уйдем, я больше не в силах оставаться здесь.
— Пожалуй, пойдем, — сказал Данглар, обрадовавшись, что ему есть с кем уйти. — Пойдем, и пусть они выпутываются как знают…
Все разошлись. Фернан, оставшись опять единственной опорой Мерседес, взял ее за руку и отвел в Каталаны. Друзья Дантеса, со своей стороны, отвели домой, на Мельянские аллеи, обессилевшего старика.
Вскоре слух об аресте Дантеса как бонапартистского агента разнесся по всему городу.
— Кто бы мог подумать, Данглар? — сказал Моррель, нагнав своего бухгалтера и Кадрусса. Он спешил в город за новостями о Дантесе, надеясь на свое знакомство с помощником королевского прокурора де Вильфором. — Кто бы мог подумать?
— Что вы хотите, сударь, — отвечал Данглар. — Я же говорил вам, что Дантес без всякой причины останавливался у острова Эльба; эта остановка показалась мне подозрительной.
— А вы рассказывали о ваших подозрениях кому-нибудь, кроме меня?
— Как можно, — прибавил Данглар вполголоса. — Вы сами знаете, что из-за вашего дядюшки, господина Поликара Морреля, который служил при том и не скрывает своих мыслей, и вас тоже подозревают, что вы жалеете о Наполеоне… Я побоялся бы повредить Эдмону, а также и вам. Есть вещи, которые подчиненный обязан сообщать своему хозяину и строго хранить в тайне от всех других.
— Правильно, Данглар, правильно, вы честный малый! Зато я уже позаботился о вас на случай, если бы этот бедный Дантес занял место капитана на "Фараоне".
— Как так?
— Да, я заранее спросил Дантеса, что он думает о вас и согласен ли оставить вас на прежнем месте; не знаю почему, но мне казалось, что между вами холодок.
— И что же он вам ответил?
— Что был такой случай, — он не сказал, какой именно, — когда он действительно в чем-то провинился перед вами, но что он всегда готов доверять тому, кому доверяет его арматор.
— Притворщик! — прошептал Данглар.
— Бедный Дантес! — сказал Кадрусс. — Он был такой славный!
— Да, но пока что "Фараон" без капитана, — сказал Моррель.
— Раз мы выйдем в море не раньше чем через три месяца, — сказал Данглар, — то можно надеяться, что за это время Эдмона освободят.
— Конечно, но до тех пор?
— А до тех пор, господин Моррель, я к вашим услугам, — сказал Данглар. — Вы знаете, что я умею управлять кораблем не хуже любого капитана дальнего плавания; вам даже выгодно будет взять меня, потому что, когда Эдмон выйдет из тюрьмы, вам некого будет и благодарить. Он займет свое место, а я — свое, только и всего.
— Благодарю вас, Данглар, — сказал арматор, — это действительно выход. Итак, примите командование, я вас уполномочиваю, и наблюдайте за разгрузкой, дело не должно страдать, какое бы несчастье ни постигало отдельных людей.
— Будьте спокойны, господин Моррель, но нельзя ли будет хоть навестить бедного Эдмона?
— Я это сейчас узнаю, я попытаюсь увидеться с господином де Вильфором и замолвить ему словечко за арестованного. Знаю, что он отъявленный роялист, но хоть он роялист и королевский прокурор, однако ж все-таки человек, и притом, кажется, не злой.
— Нет, не злой; я слышал, что он честолюбив, а это почти одно и то же.
— Словом, увидим— сказал Моррель со вздохом. — Ступайте на борт, я скоро буду.
И он направился к зданию суда.
— Видишь, какой оборот принимает дело? — сказал Данглар Кадруссу. — Тебе все еще охота заступаться за Дантеса?
— Разумеется, нет, но все-таки ужасно, что шутка могла иметь такие последствия.
— Кто шутил? Не ты и не я, а Фернан. Ты же знаешь, что я бросил записку, кажется, даже разорвал ее.
— Нет, нет! — вскричал Кадрусс. — Я как сейчас вижу ее в углу беседки, измятую, скомканную, и очень желал бы, чтобы она была там, где я ее вижу!
— Что ж делать? Верно, Фернан поднял ее, переписал или велел переписать, а то, может быть, даже и не взял на себя этого труда… Боже мой! Что, если он послал мою же записку! Хорошо, что я изменил почерк.
— Так ты знал, что Дантес — заговорщик?
— Я ровно ничего не знал. Я тебе уже говорил, что хотел пошутить, и только. По-видимому, я, как арлекин, шутя, сказал правду.
— Все равно, — продолжал Кадрусс, — я дорого бы дал, чтобы всего этого не было или по крайней мере чтобы я не был в это дело замешан. Ты увидишь, оно принесет нам несчастье, Данглар.
— Если оно должно принести кому-нибудь несчастье, так только настоящему виновнику, а настоящий виновник— Фернан, а не мы. Какое несчастье может случиться с нами? Нам нужно только сидеть спокойно, ни слова не говорить, и гроза нас минует.
— Amen, — сказал Кадрусс, кивнув Данглару, и направился к Мельянским аллеям, качая головой и бормоча себе под нос, как делают сильно озабоченные люди.
"Так, — подумал Данглар, — дело принимает оборот, какой я предвидел; вот я капитан, пока на время, а если этот дурак Кадрусс сумеет молчать, то и навсегда. Остается только тот случай, если правосудие выпустит Дантеса из своих когтей… Но правосудие есть правосудие, — улыбнулся он, — я вполне на него могу положиться".
Он прыгнул в лодку и велел грести к "Фараону", где арматор, как мы помним, назначил ему свидание.
VI
ПОМОЩНИК КОРОЛЕВСКОГО ПРОКУРОРА
В тот же самый день, в тот же самый час, на улице Гран-Кур, против фонтана Медуз, в одном из старых аристократических домов, выстроенных архитектором Пюже, тоже праздновали обручение.
Но герои этого празднества были не простые люди, не матросы и солдаты, они принадлежали к высшему марсельскому обществу. Это были старые сановники, вышедшие в отставку при узурпаторе, военные, бежавшие из французской армии в армию Конде; молодые люди, которых родители — все еще не уверенные в их безопасности, хотя уже поставили за них по четыре или по пять рекрутов, — воспитали в ненависти к тому, кого пять лет изгнания должны были превратить в мученика, а пятнадцать лет Реставрации — в бога.
Все сидели за столом, и разговор кипел всеми страстями того времени, страстями особенно неистовыми и ожесточенными, потому что на юге Франции уже пятьсот лет политическая вражда усугубляется враждой религиозной.
Император, ставший королем острова Эльба, после того как он был властителем целого материка, и правящий населением в пять-шесть тысяч душ, после того как сто двадцать миллионов подданных на десяти языках кричали ему: "Да здравствует Наполеон!" — казался всем участникам пира человеком, навсегда потерянным для Франции и престола. Сановники вспоминали его политические ошибки, военные рассуждали о Москве и Лейпциге, женщины — о разводе с Жозефиной. Этому роялистскому сборищу, которое торжествовало и радовалось — не падению человека, а уничтожению принципа, — казалось, что для него начинается новая жизнь, что оно очнулось от мучительного кошмара.
Осанистый старик, с орденом Людовика Святого на груди, встал и предложил своим гостям выпить за короля Людовика XVIII. То был маркиз де Сен-Меран.
Этот тост в честь хартвеллского изгнанника и короля-умиротворителя Франции был встречен громкими кликами; по английскому обычаю, все подняли бокалы, женщины откололи свои букеты и усеяли ими скатерть. В этом едином порыве была почти поэзия.
— Они признали бы, — сказала маркиза де Сен-Меран, женщина с сухим взглядом, тонкими губами, аристократическими манерами, еще изящная, несмотря на свои пятьдесят лет, — они признали бы, будь они здесь, все эти революционеры, которые нас выгнали и которым мы даем спокойно злоумышлять против нас в наших старинных замках, купленных ими за кусок хлеба во времена террора, — они признали бы, что истинное самоотвержение было на нашей стороне, потому что мы остались верны рушившейся монархии, а они, напротив, приветствовали восходившее солнце и наживали состояния, в то время как мы разорялись. Они признали бы, что наш король поистине был Людовик Возлюбленный, а их узурпатор всегда оставался Наполеоном Проклятым; правда, де Вильфор?
— Что прикажете, маркиза?.. Простите, я не слушал.
— Оставьте детей, маркиза, — сказал старик, предложивший тост. — Сегодня их помолвка, и им, конечно, не до политики.
— Простите, мама, — сказала молодая и красивая девушка, белокурая, с бархатными глазами, подернутыми влагой, — это я завладела господином де Вильфором. Господин де Вильфор, мама хочет говорить с вами.
— Я готов отвечать маркизе, если ей будет угодно повторить вопрос, которого я не расслышал, — сказал господин де Вильфор.
— Я прощаю тебе, Рене, — сказала маркиза с ласковой улыбкой, которую странно было видеть на этом холодном лице; но сердце женщины так уж создано, что, как бы ни было оно иссушено предрассудками и требованиями этикета, в нем всегда остается плодоносный и живой уголок— тот, в который Бог заключил материнскую любовь. — Я говорила, Вильфор, что у бонапартистов нет ни нашей веры, ни нашей преданности, ни нашего самоотвержения.
— Сударыня, у них есть одно качество, заменяющее все наши, — это фанатизм. Наполеон — Магомет Запада; для всех этих людей низкого происхождения, но необыкновенно честолюбивых, он не только законодатель и владыка, но еще символ — символ равенства.
— Равенства! — воскликнула маркиза. — Наполеон — символ равенства? А что же тогда господин де Робеспьер? Мне кажется, вы похищаете его место и отдаете корсиканцу; казалось бы, довольно и одной узурпации.
— Нет, сударыня, — возразил Вильфор, — я оставляю каждого на его пьедестале: Робеспьера — на площади Людовика Пятнадцатого, на эшафоте; Наполеона — на Вандомской площади, на его колонне. Но только один вводил равенство, которое принижает, а другой — равенство, которое возвышает; один низвел королей до уровня гильотины, другой возвысил народ до уровня трона. Это не мешает тому, — прибавил Вильфор, смеясь, — что оба они гнусные революционеры и что девятое термидора и четвертое апреля тысяча восемьсот четырнадцатого года — два счастливых дня для Франции, которые одинаково должны праздновать друзья порядка и монархии; но этим объясняется также, почему Наполеон, даже поверженный— и, надеюсь, навсегда, — сохранил ревностных сторонников. Что вы хотите, маркиза? Кромвель был только половиной Наполеона, а и то имел их!
— Знаете, Вильфор, все это слишком отдает революцией. Но я вам прощаю, — ведь нельзя же быть сыном жирондиста и не сохранить революционный душок.
Краска выступила на лице Вильфора.
— Мой отец был жирондист, это правда; но мой отец не голосовал за смерть короля; он подвергался гонениям в дни террора, как и вы, и чуть не сложил голову на том самом эшафоте, на котором скатилась голова вашего отца.
— Да, — отвечала маркиза, на лице которой ничем не отразилось это кровавое воспоминание, — только они взошли бы на эшафот ради диаметрально противоположных принципов, и вот вам доказательство: все наше семейство сохранило верность изгнанным Бурбонам, а ваш отец тотчас же примкнул к новому правительству; гражданин Нуартье был жирондистом, а граф Нуартье стал сенатором.
— Мама, мама, — сказала Рене, — вы не помните наше условие: никогда не возвращаться к этим мрачным воспоминаниям.
— Сударыня, — сказал Вильфор, — я присоединяюсь к мадемуазель де Сен-Меран и вместе с нею покорнейше прошу вас забыть о прошлом. К чему осуждать то, перед чем даже Божья воля бессильна? Бог властен преобразить будущее, в прошлом он ничего не может изменить. Мы можем если не отречься от прошлого, то хотя бы набросить на него покров. Я, например, отказался не только от убеждений моего отца, но даже от его имени. Отец мой был или, может статься, и теперь еще бонапартист и зовется Нуартье; я — роялист и зовусь де Вильфор. Пусть высыхают в старом дубе революционные соки, а вы смотрите только на ветвь, которая отделилась от него и не может, да, пожалуй, и не хочет оторваться от него совсем.
— Браво, Вильфор! — вскричал маркиз. — Браво! Хорошо сказано! Я тоже всегда убеждал маркизу забыть о прошлом, но без успеха; вы будете счастливее, надеюсь.
— Хорошо, — сказала маркиза, — забудем о прошлом, я сама этого хочу, но зато Вильфор должен быть непреклонен в будущем. Не забудьте, Вильфор, что мы поручились за вас перед его величеством, что его величество согласился забыть, по нашему ручательству (она протянула ему руку), как и я забываю, по вашей просьбе. Но, если вам попадет в руки какой-нибудь заговорщик, помните: за вами тем строже следят, что вы принадлежите к семье, которая, быть может, сама связана с заговорщиками.
— Увы, сударыня, — отвечал Вильфор, — Моя должность и особенно время, в которое мы живем, обязывают меня быть строгим. И я буду строг. Мне уже несколько раз случалось поддерживать обвинение по политическим делам, и в этом отношении я хорошо себя зарекомендовал. К сожалению, это еще не конец.
— Вы думаете? — спросила маркиза.
— Я этого опасаюсь. Остров Эльба слишком близок к Франции. Присутствие Наполеона почти в виду наших берегов поддерживает надежду в его сторонниках. Марсель кишит военными, состоящими на половинном жалованье; они беспрестанно ищут повода для ссоры с роялистами. Отсюда — дуэли между светскими людьми, а среди простонародья — поножовщина.
— Да, — сказал граф де Сальвьё, старый друг маркиза де Сен-Меран и камергер графа д’Артуа. — Но вы разве не знаете, что Священный союз хочет переселить его?
— Да, об этом шла речь, когда мы уезжали из Парижа, — отвечал маркиз. — Но куда же его пошлют?
— На Святую Елену.
— На Святую Елену! Что это такое? — спросила маркиза.
— Остров, в двух тысячах миль отсюда, по ту сторону экватора, — отвечал граф.
— В добрый час! Вильфор прав, безумие оставлять такого человека между Корсикой, где он родился, Неаполем, где еще царствует его зять, и Италией, из которой он хотел сделать королевство для своего сына.
— К сожалению, — сказал Вильфор, — имеются договоры тысяча восемьсот четырнадцатого года, и нельзя тронуть Наполеона, не нарушив этих договоров.
— Так их нарушат! — сказал граф де Сальвьё. — Он-то не был особенно щепетилен, когда приказал расстрелять несчастного герцога Энгиенского.
— Отлично, — сказала маркиза, — решено: Священный союз избавит Европу от Наполеона, а Вильфор избавит Марсель от его сторонников. Либо король царствует, либо нет; если он царствует, его правительство должно быть сильно и его исполнители — непоколебимы; только таким образом можно предотвратить зло.
— К сожалению, сударыня, сказал Вильфор с улыбкой, — помощник королевского прокурора всегда видит зло, когда оно уже совершилось.
— Так он должен его исправить.
— Я мог бы сказать, сударыня, что мы не исправляем зло, а мстим за него, и только.
Ах, господин де Вильфор, — сказала молоденькая и хорошенькая девица, дочь графа де Сальвьё, подруга мадемуазель де Сен-Меран, — постарайтесь устроить какой-нибудь интересный процесс, пока мы еще в Марселе. Я никогда не видала суда присяжных, а это, говорят, очень любопытно.
— Да, в самом деле, очень любопытно, мадемуазель, — отвечал помощник королевского прокурора. — Это уже не искусственная трагедия, а подлинная драма: не притворные страдания, а страдания настоящие. Человек, которого вы видите, по окончании спектакля идет не домой, ужинать со своим семейством и спокойно лечь спать, чтобы завтра все начать сначала, а в тюрьму, где его ждет палач. Так что для нервных особ, ищущих сильных ощущений, не может быть лучшего зрелища. Будьте спокойны, если случай представится, я не премину воспользоваться им.
— От его слов нас бросает в дрожь… а он смеется! — сказала Рене, побледнев.
— Что прикажете?.. Это поединок…Я уже пять или шесть раз требовал смертной казни для подсудимых, политических и других… Кто знает, сколько сейчас во тьме точится кинжалов или сколько их уже обращено на меня!
— Боже мой! — вскричала Рене. — Неужели вы говорите серьезно, господин де Вильфор?
— Совершенно серьезно, — отвечал Вильфор с улыбкой. — И от этих занимательных процессов, которых графиня жаждет из любопытства, а я — из честолюбия, опасность для меня только усилится. Разве эти наполеоновские солдаты, привыкшие слепо идти на врага, рассуждают, когда надо выпустить пулю или ударить штыком? Неужели у них дрогнет рука убить человека, которого они считают своим личным врагом, когда они, не задумываясь, убивают русского, австрийца или венгерца, которого они раньше и в глаза не видали? К тому же опасность необходима; иначе наше ремесло не имело бы оправдания. Я сам воспламеняюсь, когда вижу в глазах обвиняемого вспышку ярости: это придает мне силы. Тут уже не тяжба, а битва; я борюсь с ним — он защищается, я наношу новый удар, и битва кончается, как всякая битва, победой или поражением. Вот что значит выступать в суде! Опасность порождает красноречие. Если бы обвиняемый улыбнулся мне после моей речи, то я решил бы, что говорил плохо, что слова мои были бледны, слабы, невыразительны. Представьте себе, какая гордость наполняет душу прокурора, убежденного в виновности подсудимого, когда он видит, что преступник бледнеет и склоняет голову под тяжестью улик и под разящими ударами его красноречия! Голова преступника склоняется и падает!
Рене тихо вскрикнула.
— Как говорит! — заметил один из гостей.
— Вот такие люди и нужны в наше время, — сказал другой.
— В последнем процессе, — подхватил третий, — вы были великолепны, Вильфор. Помните — негодяй, который зарезал своего отца? Вы буквально убили его, прежде чем до него дотронулся палач.
— О, отцеубийцы, — этих мне не жаль. Для таких людей нет достаточно тяжкого наказания, — сказала Рене. — Но несчастные политические преступники…
— Они еще хуже, Рене, потому что король — отец народа, и хотеть свергнуть или убить короля — значит хотеть убить отца тридцати двух миллионов людей.
— Все равно, господин де Вильфор, — сказала Рене. — Обещайте мне, что будете снисходительны к тем, за кого я буду просить вас…
— Будьте спокойны, — ответил Вильфор с очаровательной улыбкой, — мы будем вместе писать обвинительные акты.
— Дорогая моя, — сказала маркиза, — занимайтесь своими колибри, собачками и тряпками и предоставьте вашему будущему мужу делать свое дело. Теперь оружие отдыхает и тога в почете; об этом есть прекрасное латинское изречение.
— Cedant arma togae,— с поклоном сказал Вильфор.
— Я не решилась сказать по-латыни, — отвечала маркиза.
— Мне кажется, что мне было бы приятнее видеть вас врачом, — продолжала Рене. — Карающий ангел, хоть он и ангел, всегда страшил меня.
— Добрая душа Рене! — прошептал Вильфор, бросив на молодую девушку взгляд, полный любви.
— Господин де Вильфор, — сказал маркиз, — будет нравственным и политическим врачом нашей провинции; поверь мне, дочка, эта почетная роль.
— И это поможет забыть роль, которую играл его отец, — вставила неисправимая маркиза.
— Сударыня, — отвечал Вильфор с грустной улыбкой, — я уже имел честь докладывать вам, что отец мой, как я по крайней мере надеюсь, отрекся от своих былых заблуждений, что он стал ревностным другом религии и порядка, быть может, даже более роялистом, чем я, ибо он роялист по раскаянию, а я — только по страсти.
И Вильфор окинул взглядом присутствующих, как он эго делал в суде после какой-нибудь великолепной тирады, проверяя действие своего красноречия на публику.
— Правильно, дорогой мой Вильфор, — сказал граф де Сальвьё, — эти же слова я сказал третьего дня в Тюильри министру двора, который выразил удивление по поводу брака между сыном жирондиста и дочерью офицера, служившего в армии Конде, и министр отлично понял меня. Сам король покровительствует этому способу объединения. Мы и не подозревали, что он слушает нас, а он вдруг вмешался в разговор и говорит: "Вильфор (заметьте, король не сказал "Нуартье", а подчеркнул имя "Вильфор"), Вильфор, — сказал король, — пойдет далеко; это молодой человек уже вполне сложившийся и принадлежит к моему миру. Я с удовольствием узнал, что маркиз и маркиза де Сен-Меран выдают за него свою дочь, и я сам посоветовал бы им этот брак, если бы они не явились первые ко мне просить позволения".
— Король так и сказал, граф? — воскликнул восхищенный Вильфор.
— Передаю вам собственные его слова, и если маркиз захочет быть откровенным, то сознается, что эти же слова король сказал ему самому, когда он, полгода назад, сообщил королю о своем намерении выдать за вас свою дочь.
— Это верно, — подтвердил маркиз.
— Так, значит, я всем обязан королю! Я на все готов, лишь бы послужить ему!
— Таким вы мне нравитесь, — сказала маркиза. — Пусть теперь явится заговорщик, — добро пожаловать!
— А я, мама, — сказала Рене, — молю Бога, чтобы он вас не услышал и чтобы он посылал господину де Вильфору только мелких воришек, беспомощных банкротов и робких жуликов; тогда я буду спать спокойно.
— Это все равно, что желать врачу одних мигреней, кори, осиных укусов, словом, самых легких пациентов, — сказал Вильфор со смехом. — Если вы хотите видеть меня королевским прокурором, пожелайте мне, напротив, страшных болезней, исцеление которых делает честь врачу.
В эту минуту, словно судьба только и ждала пожелания Вильфора, вошел лакей и сказал ему несколько слов на ухо.
Вильфор, извинившись, вышел из-за стола и воротился через несколько минут очень довольный, улыбающийся.
Рене посмотрела на своего жениха с восхищением: его голубые глаза сверкали на бледном лице, окаймленном черными бакенбардами; в эту минуту он и в самом деле был очень красив. Рене с нетерпением ждала, чтобы он объяснил причину своего внезапного исчезновения.
— Мадемуазель, вы только что выразили желание иметь мужем доктора, — сказал Вильфор, — так вот у меня с учениками Эскулапа (так еще говорили в тысяча восемьсот пятнадцатом году) есть некоторое сходство: я не могу располагать своим временем. Меня нашли даже здесь, подле вас, в день нашего обручения.
— А почему вас вызвали? — спросила молодая девушка с легким беспокойством.
— Увы, из-за больного, который, если верить тому, что мне сообщили, очень плох. Случай весьма серьезный, и болезнь грозит эшафотом.
— Боже! — вырвалось у побледневшей Рене.
— Что вы говорите! — воскликнули гости в один голос.
— По-видимому, речь идет не более и не менее как о бонапартистском заговоре.
— Неужели! — вскричала маркиза.
— Вот что сказано в доносе.
И Вильфор прочел:
"Приверженец престола и веры уведомляет господина королевского прокурора о том, что Эдмон Дантес, помощник капитана на корабле "Фараон", прибывшем сегодня из Смирны с заходом в Неаполь и Портоферрайо, имел от Мюрата письмо к узурпатору, а от узурпатора — письмо к бонапартистскому комитету в Париже.
В случае ареста письмо, уличающее его в преступлении, будет найдено при нем, или у его отца, или в его каюте на "Фараоне".
— Позвольте, — сказала Рене, — это письмо не подписано и адресовано не вам, а королевскому прокурору.
— Да, но королевский прокурор в отлучке; письмо подали его секретарю, которому поручено распечатывать почту; он вскрыл это письмо, послал за мной и, не застав меня дома, сам отдал приказ об аресте.
— Так виновный арестован? — спросила маркиза.
— То есть обвиняемый, — поправила Рене.
— Да, сударыня, — отвечал Вильфор, — и, как я уже говорил мадемуазель Рене, если у него найдут письмо, то мой пациент опасно болен.
— А где этот несчастный? — спросила Рене.
— Ждет у меня.
— Ступайте, друг мой, — сказал маркиз, — сказал маркиз, — не пренебрегайте ради нас своими обязанностями. Королевская служба требует вашего личного присутствия; ступайте же, куда вас призывает королевская служба.
— Ах, господин де Вильфор! — воскликнула Рене, умоляюще сложив руки. — Будьте снисходительны, сегодня день нашего обручения.
Вильфор обошел вокруг стола и, облокотившись на спинку стула, на котором сидела его невеста, сказал:
— Ради вашего спокойствия обещаю вам сделать все, что можно, дорогая Рене. Но если улики бесспорны, если обвинение справедливо, придется скосить эту бонапартистскую сорную траву.
Рене вздрогнула при слове "скосить", ибо у этой сорной травы, как выразился Вильфор, была голова.
— Не слушайте ее, Вильфор, — сказала маркиза, — это ребячество; она привыкнет.
И маркиза протянула Вильфору свою сухую руку, которую он поцеловал, глядя на Рене; глаза его говорили: "Я целую вашу руку или по крайней мере хотел бы поцеловать".
— Печальное предзнаменование! — прошептала Рене.
— Перестань, Рене, — сказала маркиза. — Ты выводишь меня из терпения своими детскими выходками. Желала бы я знать, что важнее — судьба государства или твои чувствительные фантазии?
— Ах, мама, — вздохнула Рене.
— Маркиза, простите нашу плохую роялистку, — сказал де Вильфор, — обещаю вам, что исполню долг помощника королевского прокурора со всем усердием, то есть буду беспощаден.
Но в то время как помощник прокурора говорил эти слова маркизе, жених украдкой посылал взгляд невесте, и взгляд этот говорил: "Будьте спокойны, Рене; ради вас я буду снисходителен".
Рене отвечала ему нежной улыбкой, и Вильфор удалился, преисполненный блаженства.
VII
ДОПРОС
Выйдя из столовой, Вильфор тотчас же сбросил с себя маску веселости и принял торжественный вид, подобающий человеку, на которого возложен высший долг — решать участь своего ближнего. Однако, несмотря на подвижность своего лица, которой он часто, как искусный актер, учился перед зеркалом, на этот раз ему трудно было нахмурить брови и омрачить чело. И в самом деле, не считая политического прошлого его отца, которое могло повредить его карьере, если от него не отмежеваться решительно, Жерар де Вильфор был в эту минуту так счастлив, как только может быть счастлив человек: располагая солидным состоянием, он занимал в двадцать семь лет видное место в судебном мире; он был женихом молодой и красивой девушки, которую любил не страстно, но разумно, как может любить помощник королевского прокурора. Мадемуазель де Сен-Меран была не только красива, но вдобавок принадлежала к семейству, которое было в большой милости при дворе. Кроме связей своих родителей, которые, не имея других детей, могли целиком воспользоваться ими в интересах своего зятя, невеста приносила ему пятьдесят тысяч экю приданого, к коему, ввиду надежд (ужасное слово, выдуманное свахами), могло со временем прибавиться полумиллионное наследство. Все это вместе взятое составляло итог блаженства до того ослепительный, что Вильфор находил пятна даже на солнце, если перед тем долго смотрел в свою душу внутренним взором.
У дверей его ждал полицейский комиссар. Вид этой мрачной фигуры заставил его спуститься с высоты седьмого неба на бренную землю, по которой мы ходим; он придал своему лицу подобающее выражение и подошел к полицейскому.
— Я готов! — сказал он. — Я прочел письмо, вы хорошо сделали, что арестовали этого человека; теперь сообщите мне о нем и о заговоре все сведения, какие вы успели собрать.
— О заговоре мы еще ничего не знаем; все бумаги, найденные при нем, запечатаны в одну связку и лежат на вашем столе. Что же касается самого обвиняемого, то его зовут, как вы изволили видеть из самого доноса, Эдмон Дантес, он служит помощником капитана на трехмачтовом корабле "Фараон", который возит хлопок из Александрии и Смирны и принадлежит марсельскому торговому дому "Моррель и Сын".
— До поступления на торговое судно он служил на флоте?.
— Нет, сударь! Это совсем молодой человек.
— Каких лет?
— Лет девятнадцати-двадцати, не больше.
Когда Вильфор, пройдя до перекрестка, уже подходил к своему дому, к нему приблизился человек, по-видимому его поджидавший. То был Моррель.
— Господин де Вильфор! — вскричал он. — Как хорошо, что я вас встретил! Подумайте, произошла страшная ошибка, арестовали моего помощника капитана, Эдмона Дантеса.
— Знаю, — отвечал Вильфор, — Я как раз иду допрашивать его.
— Господин де Вильфор, — продолжал Моррель с жаром, — вы не знаете обвиняемого, а я его знаю. Представьте себе человека самого тихого, честного и, я готов сказать, самого лучшего знатока своего дела во всем торговом флоте… Господин де Вильфор! Прошу вас за него от всей души.
Вильфор, как мы уже видели, принадлежал к аристократическому лагерю, а Моррель — к плебейскому; первый был крайний роялист, второго подозревали в тайном бонапартизме. Вильфор свысока посмотрел на Морреля и холодно ответил:
— Вы знаете, сударь, что можно быть тихим в домашнем кругу, честным в торговых сношениях и знатоком своего дела и тем не менее быть преступником в политическом смысле. Вы это знаете, правда, сударь?
Вильфор сделал ударение на последних словах, как бы намекая на самого Морреля; испытующий взгляд его старался проникнуть в самое сердце этого человека, который дерзал просить за другого, хотя не мог не знать, что сам нуждается в снисхождении.
Моррель покраснел, потому что совесть его была не совсем чиста в отношении политических убеждений, притом же тайна, доверенная ему Дантесом о свидании с маршалом и о словах, которые ему сказал император, смущала его ум. Однако он сказал с искренним участием:
— Умоляю вас, господин де Вильфор, будьте справедливы, как вы должны быть, и добры, как вы всегда бываете, и поскорее верните нам бедного Дантеса!
В этом "верните нам" уху помощника королевского прокурора почудилась революционная нотка.
"Да! — подумал он. — "Верните нам"… Уж не принадлежит ли этот Дантес к какой-нибудь секте карбонариев, раз его покровитель так неосторожно говорит во множественном числе? Помнится, комиссар сказал, что его взяли в кабаке, и притом в многолюдной компании, — это какая-нибудь тайная ложа".
Он продолжал вслух:
— Вы можете быть совершенно спокойны, сударь, и вы не напрасно просите справедливости, если обвиняемый не виновен; если же, напротив, он виновен, мы живем в трудное время, и безнаказанность может послужить пагубным примером. Поэтому я буду вынужден исполнить свой долг.
Он поклонился с ледяной учтивостью и величественно вошел в свой дом, примыкающий к зданию суда, а несчастный арматор, словно окаменев, остался стоять на улице.
Передняя была полна жандармов и полицейских; среди них, под пылающими ненавистью взглядами, спокойно и неподвижно стоял арестант.
Вильфор, пересекая переднюю, искоса взглянул на Дантеса и, взяв из рук полицейского пачку бумаг, исчез за дверью, бросив на ходу:
— Введите арестованного.
Как ни был мимолетен взгляд, брошенный на арестанта, Вильфор все же успел составить себе мнение о человеке, которого ему предстояло допросить. Он прочел ум на его широком и открытом челе, мужество в его упорном взоре и нахмуренных бровях и прямодушие в его полных полуотрытых губах, за которыми блестели два ряда зубов, белых, как слоновая кость.
Первое впечатление было благоприятно для Дантеса; но Вильфору часто говорили, что политическая мудрость повелевает не поддаваться первому порыву, потому что это всегда голос сердца, и он приложил это правило к первому впечатлению, забыв о разнице между впечатлением и порывом.
Он задушил добрые чувства, которые пытались ворваться к нему в сердце, чтобы оттуда завладеть его умом, принял перед зеркалом торжественный вид и сел, мрачный и грозный, за свой письменный стол.
Через минуту вошел Дантес. Он был все так же бледен, но спокоен и приветлив; он с непринужденной учтивостью поклонился своему судье, потом поискал глазами стул, словно находился в гостиной арматора Морреля.
Тут только встретил он тусклый взгляд Вильфора — взгляд, свойственный блюстителям правосудия, которые не хотят, чтобы кто-нибудь читал их мысли, и потому превращают свои глаза в матовое стекло. Этот взгляд дал почувствовать Дантесу, что он стоит перед судьей, воплощением суровости.
— Кто вы и как ваше имя? — спросил Вильфор, перебирая бумаги, поданные ему в передней; за какой-нибудь час дело уже успело вырасти в довольно объемистую пачку: так быстро язва шпионства разъедает несчастное тело, именуемое обвиняемым.
— Меня зовут Эдмон Дантес, — ровным и звучным голосом отвечал юноша, — я помощник капитана на корабле "Фараон", принадлежащем фирме "Моррель и Сын".
— Сколько вам лет? — продолжал Вильфор.
— Девятнадцать, — отвечал Дантес.
— Что вы делали, когда вас арестовали?
— Я обедал с друзьями по случаю моего обручения, сударь, — отвечал Дантес слегка дрогнувшим голосом, настолько мучителен был контраст между радостным празднеством и мрачной церемонией, которая совершалась в эту минуту, между хмурым лицом Вильфора и лучезарным личиком Мерседес.
— По случаю вашего обручения? — повторил помощник прокурора, невольно вздрогнув.
— Да, сударь, я женюсь на девушке, которую люблю уже три года.
Вильфор, вопреки своему обычному бесстрастию, был все же поражен таким совпадением, и взволнованный голос юноши, чей праздник так внезапно оборвался, пробудил сочувственный отзвук в его душе. Он тоже любил свою невесту, тоже был счастлив, и вот его радости помешали, для того чтобы он разрушил счастье человека, который, подобно ему, был так близок к блаженству.
"Такое философическое сопоставление, — подумал он, — будет иметь большой успех в гостиной маркиза де Сен-Меран"; и, пока Дантес ожидал дальнейших вопросов, он начал подбирать в уме антитезы, из которых ораторы строят блестящие фразы, рассчитанные на аплодисменты и подчас принимаемые за истинное красноречие.
Сочинив в уме изящный спич, Вильфор улыбнулся и сказал, обращаясь к Дантесу:
— Продолжайте.
— Что же мне продолжать?
— Осведомите правосудие.
— Пусть правосудие скажет мне, о чем оно желает быть осведомлено, и я ему скажу все, что знаю. Только, — прибавил он с улыбкою, — предупреждаю, что я знаю мало.
— Вы служили при узурпаторе?
— Меня должны были зачислить в военный флот, когда он пал.
— Говорят, вы весьма крайних политических убеждений, — сказал Вильфор, которому об этом никто ничего не говорил, но он решил на всякий случай предложить этот вопрос в виде обвинения.
— Мои политические убеждения, сударь? Увы, мне стыдно признаться, но у меня никогда не было того, что называется убеждениями, мне только девятнадцать лет, как я уже имел честь доложить вам; я ничего не знаю, никакого видного положения я занять не могу; всем, что я есть и чем я стану, если мне дадут то место, о котором я мечтаю, я буду обязан одному господину Моррелю. Поэтому все мои убеждения, и то не политические, а частные, сводятся к трем чувствам: я люблю моего отца, уважаю господина Морреля и обожаю Мерседес. Вот, милостивый государь, все, что я могу сообщить правосудию; как видите, все это для него малоинтересно.
Пока Дантес говорил, Вильфор смотрел на его доброе, открытое лицо и невольно вспомнил слова Рене, которая, не зная обвиняемого, просила о снисхождении к нему. Привыкнув иметь дело с преступлениями и преступниками, помощник прокурора в каждом слове Дантеса видел новое доказательство его невиновности. В самом деле, этот юноша, почти мальчик, простодушный, откровенный, красноречивый тем красноречием сердца, которое никогда не дается, когда его ищешь, полный любви ко всем, потому что был счастлив, а счастье и самых злых превращает в добрых, — изливал даже на своего судью нежность и доброту, переполнявшие его душу. Вильфор был с ним суров и строг, а у Эдмона во взоре, в голосе, в движениях не было ничего, кроме приязни и доброжелательности к тому, кто его допрашивал.
"Честное слово, — подумал Вильфор, — вот славный малый, и, надеюсь, мне нетрудно будет угодить Рене, исполнив первую ее просьбу; этим я заслужу сердечное рукопожатие при всех, а в уголке, тайком, нежный поцелуй".
От этой сладостной надежды лицо Вильфора прояснилось, и, когда, оторвавшись от своих мыслей, он перевел взгляд на Дантеса, тот, следивший за всеми переменами его лица, тоже улыбнулся.
— У вас есть враги? — спросил Вильфор.
— Враги? — сказал Дантес. — Я, по счастью, еще так мало значу, что не успел нажить их. Может быть, я немного вспыльчив, но я всегда старался укрощать себя в отношениях с подчиненными. У меня под началом человек десять — двенадцать матросов. Спросите их, милостивый государь, и они вам скажут, что любят и уважают меня не как отца — я еще слишком молод для этого, — а как старшего брата.
— Если у вас нет врагов, то, может быть, есть завистники. Вам только девятнадцать лет, а вас назначают капитаном, это высокая должность в вашем звании; вы женитесь на красивой девушке, которая вас любит, а это редкое счастье во всех званиях мира. Вот две веские причины, чтобы иметь завистников.
— Да, вы правы. Вы, верно, лучше меня знаете людей, и, может быть, все это верно. Но если эти завистники из числа моих друзей, то я предпочитаю не знать, кто они, чтобы мне не пришлось их ненавидеть.
— Вы не правы, сударь. Всегда надо, насколько можно, ясно видеть окружающее. И, сказать по правде, вы кажетесь мне таким достойным молодым человеком, что для вас я решаюсь отступить от обычных правил правосудия и помочь вас раскрыть истину… Вот донос, который возводит на вас обвинение. Узнаете почерк?
Вильфор вынул из кармана письмо и протянул его Дантесу. Дантес посмотрел, прочел, нахмурил лоб и сказал:
— Нет, я не знаю этой руки; почерк искажен, но довольно тверд. Во всяком случае, это писала искусная рука. Я очень счастлив, — прибавил он, глядя на Вильфора с благодарностью, — что имею дело с таким человеком, как вы, потому что действительно этот завистник — настоящий враг!
По молнии, блеснувшей в глазах юноши при этих словах, Вильфор понял, сколько душевной силы скрывается под его наружной кротостью.
— А теперь, — сказал Вильфор, — отвечайте мне откровенно, не как обвиняемый судье, а как человек, попавший в беду, отвечает человеку, который принимает в нем участие: есть ли правда в этом безымённом доносе?
И Вильфор с отвращением бросил на стол письмо, которое вернул ему Дантес.
— Все правда, сударь, и в то же время ни слова правды; а вот чистая правда, клянусь честью моряка, клянусь моей любовью к Мерседес, клянусь жизнью моего отца!
— Говорите, — сказал Вильфор и прибавил про себя: "Если бы Рене могла меня видеть, надеюсь, она была бы довольна мною и не называла бы меня палачом".
— Так вот: когда мы вышли из Неаполя, капитан Леклер заболел нервной горячкой; на корабле не было врача, а он не хотел приставать к берегу, потому что очень спешил на остров Эльба, и потому состояние его так ухудшилось, что на третий день, почувствовав приближение смерти, он позвал меня к себе.
"Дантес, — сказал он, — поклянитесь мне честью, что исполните поручение, которое я вам дам; дело чрезвычайно важное". — "Клянусь, капитан", — отвечал я. "Так как после моей смерти командование переходит к вам, как помощнику капитана, вы примете командование, возьмете курс на остров Эльба, остановитесь в Портоферрайо, пойдете к маршалу и отдадите ему это письмо; может быть, там дадут вам другое письмо или еще какое-нибудь поручение. Это поручение должен был получить я; вы, Дантес, исполните его вместо меня, и вся заслуга будет ваша".
"Исполню, капитан, но, может быть, не так-то легко добраться до маршала?" — "Вот кольцо, которое вы попросите ему передать, — сказал капитан, — это устранит все препятствия".
И с этими словами он дал мне перстень. Через два часа он впал в беспамятство, а на другой день скончался.
— И что же вы сделали?
— То, что я должен был сделать, то, что всякий другой сделал бы на моем месте. Просьба умирающего всегда священна, но у нас, моряков, просьба начальника — это приказание, которое нельзя не исполнить. Итак, я взял курс на Эльбу и прибыл туда на другой день; я всех оставил на борту и один сошел на берег. Как я и думал, меня не хотели допустить к маршалу, но я послал ему перстень, который должен был служить условным знаком, и все двери раскрылись передо мной. Он принял меня, расспросил о смерти бедного Леклера и, как тот и предвидел, дал мне письмо, приказав лично доставить его в Париж. Я обещал, потому что это входило в исполнение последней воли моего капитана. Прибыв сюда, я устроил все дела на корабле и побежал к моей невесте, которая показалась мне еще прекрасней и милей прежнего. Благодаря господину Моррелю мы уладили все церковные формальности; и вот, сударь, как я уже говорил вам, я сидел за обедом, готовился через час вступить в брак и думал завтра же ехать в Париж, как вдруг по этому доносу, который вы, по-видимому, теперь так же презираете, как и я, меня арестовали.
— Да, да, — проговорил Вильфор, — все это кажется мне правдой, и если вы в чем виновны, так только в неосторожности, да и неосторожность ваша оправдывается приказаниями капитана. Отдайте нам письмо, взятое вами на острове Эльба, дайте честное слово, что явитесь по первому требованию, и возвращайтесь к вашим друзьям.
— Так я свободен! — вскричал Дантес вне себя от радости.
— Да, только отдайте мне письмо.
— Оно должно быть у вас, его взяли у меня вместе с другими моими бумагами, и я узнаю некоторые из них в этой связке.
— Постойте, — сказал Вильфор Дантесу, который взялся уже было за шляпу и перчатки, — постойте! Кому адресовано письмо?
— Господину Нуартье, улица Кок-Эрон, в Париже.
Если бы молния поразила Вильфора, она не оказалась бы для него таким быстрым и внезапным ударом; он упал в кресло, с которого привстал, чтобы взять связку с бумагами, захваченными у Дантеса, и, лихорадочно порывшись в них, вынул роковое письмо, устремив на него взгляд, полный невыразимого ужаса.
— Господину Нуартье, улица Кок-Эрон, номер тринадцать, — прошептал он, побледнев еще сильнее.
— Точно так, — сказал изумленный Дантес. — Разве вы его знаете?
— Нет, — быстро ответил Вильфор, — верный слуга короля не знается с заговорщиками.
— Стало быть, речь идет о заговоре? — спросил Дантес, который, после того как уже считал себя свободным, почувствовал, что дело становится куда опаснее. — Во всяком случае, я уже сказал вам, сударь, что ничего не знал о содержании этого письма.
— Да, — сказал Вильфор глухим голосом, — но вы знаете имя того, кому оно адресовано!
— Чтобы отдать письмо лично ему, я должен был знать его имя.
— И вы никому его не показывали? — спросил Вильфор, читая письмо и все более и более бледнея.
— Никому, клянусь честью!
— Никто не знает, что вы везли письмо с острова Эльба к господину Нуартье?
— Никто, кроме того, кто вручил мне его.
— И это еще много, слишком много! — прошептал Вильфор.
Лицо его становилось все мрачнее по мере того, как он читал; его бледные губы, дрожащие руки, пылающие глаза внушали Дантесу самые дурные предчувствия.
Прочитав письмо, Вильфор уронил голову на руки и замер.
— Что с вами, сударь? — робко спросил Дантес.
Вильфор не отвечал, потом поднял бледное, искаженное лицо и еще раз перечел письмо.
— И вы уверяете, что ничего не знаете о содержании этого письма? — сказал Вильфор.
— Повторяю и клянусь честью, что не знаю ничего. Но что с вами? Вам дурно? Хотите, я позвоню, позову кого-нибудь?
— Нет, — сказал Вильфор, быстро вставая, — стойте на месте и молчите; здесь я приказываю, а не вы.
— Я только хотел помочь вам, сударь, — обиженно сказал Дантес.
— Мне ничего не нужно. Минутная слабость — только и всего. Думайте о себе, а не обо мне. Отвечайте.
Дантес ждал вопроса, но тщетно; Вильфор опустился в кресло, похолодевшей рукой отер пот с лица и в третий раз принялся перечитывать письмо.
— Если он знает, что тут написано, — прошептал он, — и если он когда-нибудь узнает, что Нуартье — отец Вильфора, то я погиб, погиб безвозвратно!
И он время от времени взглядывал на Эдмона, как будто его взгляды могли проникнуть сквозь невидимую стену, ограждающую в сердце тайну, о которой молчат уста.
— Нечего сомневаться! — воскликнул он вдруг.
— Ради самого Неба, — сказал несчастный юноша, — если вы сомневаетесь во мне, если вы подозреваете меня, допрашивайте. Я готов отвечать вам.
Вильфор сделал над собой усилие и голосом, которому он старался придать уверенность, сказал:
— Вследствие ваших показаний на вас ложатся самые тяжкие обвинения, поэтому я не властен тотчас же отпустить вас, как надеялся. Прежде чем решиться на такой шаг, я должен поговорить со следователем. А пока вы видели, как я отнесся к вам.
— О да, и я благодарю вас! — вскричал Дантес. — Вы обошлись со мною не как судья, а как друг.
— Ну так вот, я задержу вас еще на некоторое время, надеюсь, ненадолго, главная улика против вас — это письмо, и вы видите…
Вильфор подошел к камину, бросил письмо в огонь и подождал, пока оно сгорело.
— Вы видите, — продолжал он, — я уничтожил его.
— Вы больше чем правосудие, — вскричал Дантес, — вы само милосердие!
— Но выслушайте меня, — продолжал Вильфор. — После такого поступка вы, конечно, понимаете, что можете довериться мне?
— Приказывайте, я исполню ваши приказания.
— Нет, — сказал Вильфор, подходя к Дантесу, — нет, я не собираюсь вам приказывать; я хочу только дать вам совет, понимаете?
— Говорите, я исполню ваш совет как приказание.
— Я оставлю вас здесь, в здании суда, до вечера. Может быть, кто-нибудь другой будет вас допрашивать. Говорите все, что вы мне рассказывали, но ни полслова о письме!
— Обещаю, сударь.
Теперь Вильфор, казалось, умолял, а обвиняемый успокаивал судью.
— Вы понимаете, — продолжал Вильфор, посматривая на пепел, сохранявший еще форму письма, — теперь письмо уничтожено. Только вы да я знаем, что оно существовало; его вам не предъявят; если вам станут говорить о нем, отрицайте, отрицайте смело, и вы спасены.
— Я буду отрицать, не беспокойтесь, — сказал Дантес.
— Хорошо, — сказал Вильфор и взялся за звонок; потом помедлил немного и спросил: — У вас было только одно это письмо?
— Только это.
— Поклянитесь!
Дантес поднял руку.
— Клянусь! — сказал он.
Вильфор позвонил.
Вошел полицейский комиссар.
Вильфор сказал ему на ухо несколько слов; комиссар отвечал кивком головы.
— Ступайте за комиссаром, — сказал Вильфор Дантесу.
Дантес поклонился, еще раз бросил на Вильфора благодарный взгляд и вышел.
Едва дверь затворилась, как силы изменили Вильфору и он упал в кресло почти без чувств.
Через минуту он прошептал:
— Боже мой! От чего иногда зависит жизнь и счастье!.. Если бы королевский прокурор был в Марселе, если бы вместо меня вызвали следователя, я бы погиб… И это письмо, это проклятое письмо, ввергло бы меня в пропасть!.. Ах, отец, отец! Неужели ты всегда будешь мешать моему счастью на земле? Неужели я должен вечно бороться с твоим прошлым?
Но вдруг его словно осенило: лицо посветлело, на искривленных губах появилась улыбка, его блуждающий взгляд, казалось, остановился на какой-то мысли.
— Да, да, — вскричал он, — это письмо, которое должно было погубить меня, может стать источником моего счастья… Ну, Вильфор, за дело!
И, удостоверившись, что обвиняемого уже нет в передней, помощник королевского прокурора тоже вышел и быстрыми шагами направился к дому своей невесты.
VIII
ЗАМОК ИФ
Полицейский комиссар, выйдя в переднюю, сделал знак двум жандармам. Один стал по правую сторону Дантеса, другой — по левую. Отворилась дверь, которая выходила в здание суда, и арестованного повели по одному из тех длинных и мрачных коридоров, где трепет охватывает даже тех, у кого нет никаких причин трепетать.
Как квартира Вильфора примыкала к зданию суда, так здание суда примыкало к тюрьме, угрюмому сооружению, на которое с любопытством смотрит всеми своими зияющими отверстиями возвышающаяся перед ним Аккульская колокольня.
Сделав несколько поворотов по коридору, Дантес увидел дверь с решетчатым окошком. Комиссар ударил три раза железным молотком, и Дантесу показалось, что молоток бьет по его сердцу. Дверь отворилась, жандармы слегка подтолкнули арестанта, который все еще стоял в растерянности. Дантес переступил через порог, и дверь с шумом захлопнулась за ним. Он дышал уже другим воздухом, спертым и тяжелым: он был в тюрьме.
Его отвели в камеру, довольно опрятную, но с тяжелыми засовами и решетками на окнах. Вид нового жилища не вселил в него особого страха; притом же слова, сказанные помощником королевского прокурора с таким явным участием, отдавались у него в ушах как обнадеживающее утешение.
Было четыре часа пополудни, когда Дантеса привели в камеру. Все это происходило, как мы уже сказали, 28 февраля. Арестант скоро очутился в темноте.
Тотчас же слух его, заменяя зрение, обострился вдвое. При малейшем шуме, доносившемся до него, он вскакивал и бросался к двери, думая, что за ним идут, чтобы возвратить ему свободу; но шум исчезал в другом направлении, и Дантес снова опускался на скамью.
Наконец, часов в десять вечера, когда Дантес начинал терять надежду, послышался новый шум, который на этот раз несомненно приближался к его камере. Потом в коридоре раздались шаги и остановились у двери; ключ повернулся в замке, засовы заскрипели, и плотная дубовая дверь отворилась, впустив в темную камеру ослепительный свет двух факелов.
При свете их Дантес увидел, как блеснули ружья и палаши четырех жандармов.
Он шагнул было вперед, но тут же остановился при виде этой усиленной охраны.
— Вы за мной? — спросил Дантес.
— Да, — отвечал один из жандармов.
— По приказу помощника королевского прокурора?
— Разумеется.
— Хорошо, — сказал Дантес, — я готов следовать за вами.
Уверенность, что за ним пришли от имени де Вильфора, рассеяла все опасения бедного юноши; спокойно и непринужденно он вышел и сам занял место среди жандармов.
У дверей тюрьмы стояла карета; на козлах сидел кучер, рядом с кучером — пристав.
— Эта карета для меня? — спросил Дантес.
— Для вас, — ответил один из жандармов, — садитесь.
Дантес хотел возразить, но дверца отворилась, и его втолкнули в карету. Он не мог, да и не хотел сопротивляться; в одно мгновение он очутился на заднем сиденье, между двумя жандармами; двое других сели напротив, и тяжелый экипаж покатил со зловещим грохотом.
Узник посмотрел на окна: они были забраны железной решеткой. Он только переменил тюрьму; новая тюрьма была на колесах и катилась к неизвестной цели. Сквозь частые прутья, между которым едва можно было просунуть руку, Дантес все же разглядел, что его провезли по улице Кессери, а затем по улицам Святого Лаврентия и Тарамис спустились к набережной.
Немного погодя сквозь решетку окна и сквозь ограду памятника, мимо которого они ехали, он увидел огни портового управления.
Карета остановилась, пристав сошел с козел и подошел к кордегардии; оттуда вышли с десяток солдат и стали в две шеренги. Ружья их блестели в свете фонарей, горевших на набережной.
"Неужели все это ради меня?" — подумал Эдмон.
Отперев дверцу ключом, пристав безмолвно ответил на этот вопрос, ибо Дантес увидел между двумя рядами солдат оставленный для него узкий проход от кареты до набережной.
Два жандарма, сидевшие впереди, вышли из кареты первые, за ними, повинуясь приказанию, вышел он, а затем и остальные двое, сидевшие по бокам его. Все направились к лодке, которую таможенный служитель удерживал у берега за цепь. Солдаты смотрели на Дантеса с тупым любопытством. Его тотчас же посадили на корму, между четырьмя жандармами, а пристав сел на носу. Сильный толчок отделил лодку от берега; четыре гребца принялись быстро грести по направлению к Пилону. По окрику с лодки цепь, заграждающая порт, опустилась, и Дантес очутился в так называемом Фриуле, то есть вне порта.
Первое ощущение арестанта, когда он выехал на свежий воздух, было ощущение радости. Воздух — почти свобода. Он полной грудью вдыхал живительный ветер, несущий на своих крыльях таинственные запахи ночи и моря. Скоро, однако, он горестно вздохнул: он плыл мимо "Резерва", где был так счастлив еще утром, за минуту до ареста; сквозь ярко освещенные окна до него доносились веселые звуки танцев.
Дантес сложил руки, поднял глаза к небу и стал молиться.
Лодка продолжала свой путь; она миновала Мертвую Г олову, поравнялась с бухтой Фаро и начала огибать береговую батарею; Дантес ничего не понимал.
— Куда же меня везут? — спросил он одного из жандармов.
— Сейчас узнаете.
— Однако…
— Нам запрещено говорить с вами.
Дантес был наполовину солдат; расспрашивать жандармов, которым запрещено отвечать, показалось ему нелепым, и он замолчал.
Тогда самые странные мысли закружились в его голове: в утлой лодке нельзя было далеко уехать, кругом не было ни одного корабля на якоре; он подумал, что его довезут до отдаленного места на побережье и там объявят, что он свободен. Его не связывали, не пытались надевать наручники; все это казалось ему добрым предзнаменованием, при этом разве не сказал ему помощник прокурора, такой добрый и великодушный, что если только он не произнесет рокового имени Нуартье, то ему нечего бояться? Ведь на его глазах Вильфор сжег опасное письмо, единственную улику, которая имелась против него.
В молчании ждал он, чем все это кончится, глазами моряка, привыкшими в темноте измерять пространство, стараясь осмотреться вокруг.
Остров Ратонно, на котором горел маяк, остался справа, и лодка, держась близко к берегу, подошла к Каталанской бухте. Взгляд арестанта стал еще зорче: здесь была Мерседес, и ему ежеминутно казалось, что на темном берегу вырисовывается неясный силуэт женщины.
Как предчувствие не шепнуло Мерседес, что ее возлюбленный в трехстах шагах от нее?
Во всех Каталанах только в одном окне горел огонь. Приглядевшись, Дантес убедился, что это комната его невесты. Только одна Мерседес не спала во всем селении. Если бы он громко закричал, голос его долетел бы до ее слуха.
Ложный стыд удержал его. Что сказали бы жандармы, если бы он начал кричать как исступленный? Поэтому он не раскрыл рта и проехал мимо, не отрывая глаз от огонька.
Между тем лодка подвигалась вперед, но арестант не думал о лодке: он думал о Мерседес. Наконец освещенное окошко скрылось за выступом скалы. Дантес обернулся и увидел, что лодка удаляется от берега.
Пока он был поглощен своими мыслями, весла заменили парусами, и лодка теперь шла по ветру.
Хотя Дантесу не хотелось снова расспрашивать жандарма, однако же он придвинулся к нему и, взяв его за руку, сказал:
— Товарищи! Именем совести вашей и вашим званием солдата заклинаю: сжальтесь и ответьте мне. Я капитан Дантес, добрый и честный француз, хоть меня и обвиняют уж не знаю в какой измене. Куда вы меня везете? Скажите, я даю вам честное слово моряка, что я исполню свой долг и покорюсь судьбе.
Жандарм почесал затылок и посмотрел на своего товарища. Тот сделал движение, которое должно было означать: "Теперь уж, кажется, можно сказать", и жандарм повернулся к Дантесу:
— Вы уроженец Марселя и моряк, и еще спрашиваете, куда мы едем?
— Да, честью уверяю, что не знаю.
— Вы не догадываетесь?
— Нет.
— Не может быть.
— Клянусь всем священным в мире! Скажите, ради Бога!
— А приказ?
— Приказ не запрещает вам сказать мне то, что я все равно узнаю через десять минут, через полчаса или, быть может, через час. Вы только избавите меня от целой вечности сомнений. Я прошу вас как друга. Смотрите, я не собираюсь ни сопротивляться, ни бежать. Да это и невозможно. Куда мы едем?
— Либо вы ослепли, либо вы никогда не выходили из марсельского порта; иначе вы не можете не угадать, куда вас везут.
— Не могу.
— Так гляньте вокруг.
Дантес встал, посмотрел в ту сторону, куда направлялась лодка, и увидел в ста туазах перед собою черную отвесную скалу, на которой каменным наростом высился мрачный замок Иф.
Этот причудливый облик, эта тюрьма, которая вызывает такой беспредельный ужас, эта крепость, которая уже триста лет питает Марсель своими жуткими преданиями, возникнув внезапно перед Дантесом, и не помышлявшим о ней, произвела на него такое же действие, какое производит эшафот на приговоренного к смерти.
— Боже мой! — вскричал он. — Замок Иф? Зачем мы туда едем?
Жандарм улыбнулся.
— Но меня же не могут заключить туда! — продолжал Дантес. — Замок Иф — государственная тюрьма, предназначенная только для важных политических преступников. Я никакого преступления не совершил. Разве в замке Иф есть какие-нибудь следователи, какие-нибудь судьи?
— Насколько я знаю, — сказал жандарм, — там имеется только комендант, тюремщики, гарнизон да крепкие стены. Полно, полно, приятель, не представляйтесь удивленным, не то я, право, подумаю, что вы платите мне насмешкой за мою доброту.
Дантес сжал руку жандарма так, что чуть не сломал ее.
— Так вы говорите, что меня везут в замок Иф и там оставят?
— Вероятно, — сказал жандарм, — но во всяком случае незачем жать мне руку так крепко.
— Без всякого следствия? Без всяких формальностей?
— Все формальности выполнены, следствие закончено.
— И невзирая на обещание господина де Вильфора?
— Я не знаю, что вам обещал господин де Вильфор, — сказал жандарм, — знаю только, что мы едем в замок Иф. Эге! Да что вы делаете? Ко мне, товарищи! Держите!
Движением быстрым, как молния, и все же не ускользнувшим от опытного глаза жандарма, Дантес хотел броситься в море, но четыре сильные руки схватили его в ту самую минуту, когда ноги его отделились от днища.
Он упал в лодку, рыча от ярости.
— Эге, брат! — сказал жандарм, упираясь ему коленом в грудь. — Так-то ты держишь честное слово моряка!
Вот и полагайся на тихонь! Ну, теперь, любезный, только шевельнись, и я влеплю тебе пулю в лоб! Я ослушался первого пункта приказа, но не беспокойся, второй будет выполнен в точности.
И он действительно приставил дуло своего карабина к виску Дантеса. В первое мгновение Дантес хотел сделать роковое движение и покончить с нежданным бедствием, которое обрушилось на него и схватило в свои ястребиные когти. Но именно потому, что это бедствие было столь неожиданным, Дантес подумал, что оно не может быть продолжительным; потом он вспомнил обещание Вильфора, к тому же, надо признаться, смерть на дне лодки от руки жандарма показалась ему гадкой и жалкой.
Он опустился на доски и в бессильном бешенстве впился зубами в свою руку.
Лодка покачнулась от сильного толчка. Один из гребцов прыгнул на утес, о который легкое суденышко ударилось носом, заскрипел ворот, наматывая веревку, и Дантес понял, что они причаливают.
Жандармы, державшие его за руки и за шиворот, заставили его подняться, сойти на берег и потащили его к ступеням, которые вели к крепостным воротам; сзади шел пристав, вооруженный мушкетоном с примкнутым штыком.
Впрочем, Дантес и не помышлял о бесполезном сопротивлении. Его медлительность происходила не от противодействия, а от апатии. У него кружилась голова, и он шатался как пьяный. Он опять увидел два ряда солдат, выстроившихся на крутом откосе, почувствовал, что ступени принуждают его поднимать ноги, заметил, что вошел в ворота и что эти ворота закрылись за ним, но все это бессознательно, точно сквозь туман, не будучи в силах ничего различить. Он даже не видел моря, источника мучений для заключенных, которые смотрят на его простор и с ужасом сознают, что бессильны преодолеть его.
Во время минутной остановки Дантес немного пришел в себя и огляделся. Он стоял в четырехугольном дворе, между четырьмя высокими стенами; слышался размеренный шаг часовых, и всякий раз, когда они проходили мимо двух-трех освещенных окон, ружья их поблескивали.
Они простояли минут десять. Зная, что Дантесу уже не убежать, жандармы выпустили его. Видимо, ждали приказаний; наконец раздался чей-то голос:
— Где арестант?
— Здесь, — отвечали жандармы.
— Пусть идет за мной, я проведу его в камеру.
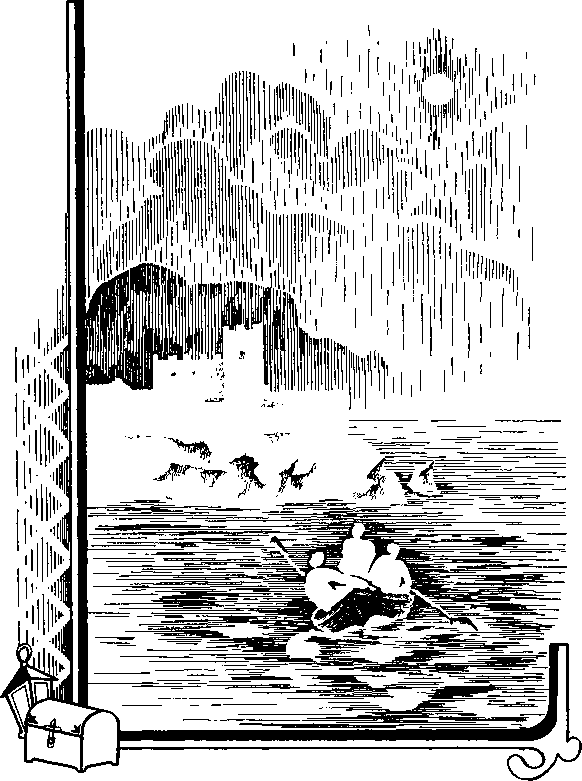
— Ступайте, — сказали жандармы, подталкивая Дантеса.
Он пошел за проводником, который действительно привел его в полуподземную камеру; из голых и мокрых стен, казалось, сочились слезы. Поставленная на табурет плошка, фитиль которой плавал в каком-то вонючем жире, осветила лоснящиеся стены этого страшного жилища; увидел Дантес и проводника: это был человек плохо одетый, с грубым лицом — по всей вероятности, из низших служителей тюрьмы.
— Вот вам камера на нынешнюю ночь, — сказал он. — Теперь уже поздно, и господин комендант лег спать. Завтра, когда он встанет и прочтет распоряжения, присланные на ваш счет, может быть, он назначит вам другую. А пока вот вам хлеб; тут, в этой кружке, вода; там, в углу, солома. Это все, чего может пожелать арестант. Спокойной ночи.
И прежде чем Дантес успел ответить ему, прежде чем он заметил, куда тюремщик положил хлеб, прежде чем он взглянул, где стоит кружка с водой, прежде чем он повернулся к углу, где лежала солома — его будущая постель, — тюремщик взял плошку и, закрыв дверь, лишил арестанта и того тусклого света, который показал ему, словно при вспышке зарницы, мокрые стены его тюрьмы.
Он остался один, среди тишины и мрака, немой, угрюмый, как своды подземелья, мертвящий холод которых он чувствовал на своем пылающем челе.
Когда первые лучи солнца едва осветили эту пещеру, тюремщик возвратился с приказом оставить арестанта здесь. Дантес стоял на том же месте. Казалось, железная рука пригвоздила его там, где он остановился накануне, только глаза его опухли от невыплаканных слез. Он не шевелился и смотрел в землю. Он провел всю ночь стоя и ни на минуту не забылся сном.
Тюремщик подошел к нему, обошел вокруг него, но Дантес, казалось, его не видел; он хлопнул его по плечу. Дантес вздрогнул и покачал головой.
— Вы не спали? — спросил тюремщик.
— Не знаю, — отвечал Дантес.
Тюремщик посмотрел на него с удивлением.
— Вы не голодны? — продолжал он.
— Не знаю, — повторил Дантес.
— Вам ничего не нужно?
— Я хочу видеть коменданта.
Тюремщик пожал плечами и вышел.
Дантес проводил его взглядом, протянул руки к полурастворенной двери, но дверь захлопнулась.
Тогда громкое рыдание вырвалось из его груди. Накопившиеся слезы хлынули в два ручья. Он бросился на колени, прижал голову к полу и долго молился, припоминая в уме всю свою жизнь и спрашивая себя, какое преступление совершил он в свой столь еще юной жизни, чтобы заслужить такую жестокую кару.
Так прошел день. Дантес едва проглотил несколько крошек хлеба и выпил несколько глотков воды. Он то сидел погруженный в думы, то кружил вдоль стен, как дикий зверь в железной клетке.
Одна мысль с особенной силой приводила его в неистовство: во время переезда, когда он, не зная, куда его везут, сидел так спокойно и беспечно, он мог бы десять раз броситься в воду и, мастерски умея плавать, умея нырять, как едва ли кто другой в Марселе, мог бы скрыться под водой, обмануть охрану, добраться до берега, бежать, спрятаться в какой-нибудь пустынной бухте, дождаться генуэзского или каталонского корабля, перебраться в Италию или Испанию и оттуда написать Мерседес, чтобы она приехала к нему. О своем пропитании он не беспокоился: в какую бы страну ни бросила его судьба — хорошие моряки везде редкость; он говорил по-итальянски, как тосканец, по-испански — как истый сын Кастилии. Он жил бы свободным и счастливым, с Мерседес, с отцом, потому что выписал бы и отца. А вместо этого он арестант, запертый в замке Иф, в этой тюрьме, откуда нет возврата, и не знает, что сталось с отцом, что сталось с Мерседес; и все это из-за того, что он поверил слову Вильфора. Было от чего сойти с ума, и Дантес в бешенстве катался по свежей соломе, которую принес тюремщик.
На другой день в тот же час явился тюремщик.
— Ну что, — спросил он, — поумнели немного?
Дантес не отвечал.
— Да бросьте унывать! Скажите, что бы я мог для вас сделать, ну, говорите!
— Я хочу видеть коменданта.
— Я уже сказал, что это невозможно, — отвечал тюремщик с досадой.
— Почему невозможно?
— Потому что тюремным уставом арестантам запрещено к нему обращаться.
— А что же здесь позволено? — спросил Дантес.
— Пища получше — за деньги, прогулка, иногда книги.
— Книг мне не нужно, гулять я не хочу, а пищей я доволен. Я хочу только одного — видеть коменданта.
— Если вы будете приставать ко мне с этим, я перестану носить вам еду.
— Ну что ж? — отвечал Дантес. — Если ты перестанешь носить мне еду, я умру с голоду, вот и все!
Выражение, с которым Дантес произнес эти слова, показало тюремщику, что его узник был бы рад умереть; а так как всякий арестант приносит тюремщику около десяти су дохода в день, то тюремщик Дантеса тотчас высчитал убыток, могущий произойти от его смерти, и сказал уже помягче:
— Послушайте: то, о чем вы просите, невозможно, стало быть, и не просите больше; не было примера, чтобы комендант по просьбе арестанта являлся к нему в камеру, поэтому ведите себя смирно, вам разрешат гулять, а на прогулке, может статься, вы как-нибудь встретите коменданта. Тогда и обратитесь к нему, и если ему угодно будет ответить вам, так это уж его дело.
— А сколько мне придется ждать этой встречи?
— Кто знает? — сказал тюремщик. — Месяц, три месяца, полгода, может быть, год.
— Это слишком долго, — прервал Дантес, — я хочу видеть его сейчас же!
— Не упорствуйте в одном невыполнимом желании, или через две недели вы сойдете с ума.
— Ты думаешь? — сказал Дантес.
— Да, сойдете с ума: сумасшествие всегда так начинается. У нас уже есть такой случай; здесь до вас жил аббат, который беспрестанно предлагал коменданту миллион за свое освобождение и на этом сошел с ума.
— А давно он здесь не живет?
— Два года.
— Его выпустили на свободу?
— Нет, посадили в карцер.
— Послушай, — сказал Дантес, — я не аббат и не сумасшедший; может быть, я и сойду с ума, но пока, к сожалению, я в полном рассудке; я предложу тебе другое.
— Что же?
— Я не стану предлагать тебе миллиона, потому что у меня его нет, но предложу тебе сто экю, если ты согласишься, когда поедешь в Марсель, заглянуть в Каталаны и передать письмо девушке, которую зовут Мерседес… даже не письмо, а только две строчки.
— Если я передам эти две строчки и меня поймают, я потеряю место, на котором получаю тысячу ливров в год, не считая дохода и стола; вы видите, я был бы дураком, если бы вздумал рисковать тысячей ливров, чтобы получить триста.
— Хорошо! — сказал Дантес. — Так слушай и запомни хорошенько: если ты не отнесешь записки Мерседес или по крайней мере не дашь ей знать, что я здесь, то когда-нибудь я подкараулю тебя за дверью и, когда ты войдешь, размозжу тебе голову табуретом!
— Ага, угрозы! — закричал тюремщик, отступая на шаг и приготовляясь к защите. — Положительно у вас голова не в порядке; аббат начал, как и вы, и через три дня вы будете буйствовать, как он; хорошо, в замке Иф есть карцеры.
Дантес поднял табурет и повертел им над головой.
— Ладно, ладно, — сказал тюремщик, — если уж вы непременно хотите, я уведомлю коменданта.
— Давно бы так, — отвечал Дантес, ставя табурет на пол и садясь на него с опущенной головой и блуждающим взглядом, словно он действительно начинал сходить с ума.
Тюремщик вышел и через несколько минут вернулся с четырьмя солдатами и капралом.
— По приказу коменданта, — сказал он, — переведите арестанта этажом ниже.
— В темную, значит, — сказал капрал.
— В темную; сумасшедших надо сажать с сумасшедшими.
Четверо солдат схватили Дантеса, который впал в какое-то забытье и последовал за ними без всякого сопротивления.
Они спустились вниз на пятнадцать ступеней; отворилась дверь темной камеры, в которую он вошел, бормоча:
— Он прав, сумасшедших надо сажать с сумасшедшими.
Дверь затворилась, и Дантес пошел вперед, вытянув руки, пока не дошел до стены; тогда он сел в угол и долго не двигался с места, между тем как глаза его, привыкнув мало-помалу к темноте, начали различать предметы.
Тюремщик не ошибся: Дантес был на волосок от безумия.
IX
ВЕЧЕР ОБРУЧЕНИЯ
Вильфор, как мы уже сказали, отправился опять на улицу Гран-Кур и, войдя в дом госпожи де Сен-Меран, застал гостей уже не в столовой, а в гостиной, за чашками кофе. Рене ждала его с нетерпением, которое разделяли и прочие гости. Поэтому его встретили радостными восклицаниями.
— Ну, сокрушитель голов, оплот государства, роялистский Брут! — крикнул один из гостей. — Что случилось? Говорите!
— Уж не готовится ли новый террор? — спросил другой.
— Уж не вылез ли из своего логова корсиканский людоед? — спросил третий.
— Маркиза, — сказал Вильфор, подходя к своей будущей теще, — простите меня, но я принужден просить у вас разрешения удалиться… Маркиз, разрешите сказать вам два слова наедине?
— Значит, это и вправду серьезное дело? — сказала маркиза, заметив нахмуренное лицо Вильфора.
— Очень серьезное, и я должен на несколько дней покинуть вас. Вы можете по этому судить, — прибавил Вильфор, обращаясь к Рене, — насколько это важно.
— Вы уезжаете? — вскричала Рене, не сумев скрыть своего огорчения.
— Увы! — отвечал Вильфор. — Это необходимо.
— А куда? — спросила маркиза.
— Это — судебная тайна, сударыня. Однако, если у кого-нибудь есть поручения в Париж, то один мой приятель едет туда сегодня, и он охотно примет их на себя.
Все переглянулись.
— Вы хотели поговорить со мною? — спросил маркиз.
— Да, если позволите, пройдемте к вам в кабинет.
Маркиз взял Вильфора под руку, и они вместе вышли.
— Что случилось? — сказал маркиз, входя в кабинет. — Говорите.
— Нечто весьма важное, требующее моего немедленного отъезда в Париж. Теперь, маркиз, простите мне нескромный и бестактный вопрос: у вас есть государственные облигации?
— В них все мое состояние; на шестьсот или семьсот тысяч франков.
— Так продайте, маркиз, продайте, или вы разорены.
— Как я могу продать их отсюда?
— У вас есть маклер в Париже?
— Есть.
— Дайте мне письмо к нему: пусть продает, не теряя ни минуты, ни секунды; может быть, даже я приеду слишком поздно.
— Черт возьми! — сказал маркиз. — Не будем терять времени.
Он сел к столу и написал своему агенту распоряжение о продаже всех облигаций по любой цене.
— Одно письмо есть, — сказал Вильфор, бережно пряча его в бумажник, — теперь мне нужно еще другое.
— К кому?
— К королю.
— К королю?
— Да.
— Но не могу же я так прямо писать его величеству.
— Да я и не прошу письма от вас, а только хочу, чтобы вы попросили его у графа де Сальвьё. Чтобы не терять драгоценного времени, мне нужно такое письмо, с которым я мог бы явиться прямо к королю, не подвергаясь всяким формальностям, связанным с получением аудиенции.
— А министр юстиции? Он же имеет право входа в Тюильри, и через него вы в любое время можете получить доступ к королю.
— Разумеется. Но зачем мне делиться с другими той важной новостью, которую я везу. Вы понимаете? Министр юстиции, естественно, отодвинет меня на второй план и похитит у меня всю заслугу. Скажу вам одно, маркиз: если я первый явлюсь в Тюильри, карьера моя обеспечена, потому что я окажу королю услугу, которую он никогда не забудет.
— Если так, друг мой, ступайте собирайтесь в дорогу; я обращусь к Сальвьё, и он напишет письмо, которое вам послужит пропуском.
— Хорошо, но не теряйте времени: через четверть часа я должен быть в почтовой карете.
— Велите остановиться у нашего дома.
— Вы, конечно, извинитесь за меня перед маркизой и перед мадемуазель де Сен-Меран, с которой я расстаюсь в такой день с глубочайшим сожалением.
— Они будут ждать вас в моем кабинете, и вы проститесь с ними.
— Тысяча благодарностей. Так приготовьте письмо.
Маркиз позвонил. Вошел лакей.
— Попросите сюда графа де Сальвьё, — распорядился маркиз. — А вы идите, — сказал он, обращаясь к Вильфору.
— Я сейчас же буду обратно.
И Вильфор торопливо вышел, но в дверях он решил, что вид помощника королевского прокурора, куда-то стремительно шагающего, может возмутить спокойствие целого города, поэтому он пошел своей обычной внушительной походкой.
Дойдя до своего дома, он заметил в тени какой-то белый призрак, который ждал его не шевелясь.
То была Мерседес, которая, не получая вестей об Эдмоне, проскользнула сюда под покровом темноты: она решила сама разузнать, почему арестовали ее жениха.
Завидев Вильфора, она отделилась от стены и преградила ему дорогу. Дантес говорил Вильфору о своей невесте, и Мерседес незачем было называть себя: Вильфор и без того узнал ее. Его поразили красота и благородная осанка девушки, и когда она спросила его о своем женихе, ему показалось, что обвиняемый — это он, а она — судья.
— Тот, о ком вы говорите, тяжкий преступник, — сухо ответил Вильфор, — и я ничего не могу сделать для него.
Мерседес зарыдала; Вильфор хотел пройти мимо, но она остановила его.
— Скажите по крайней мере, где он, — проговорила она, — чтобы я могла узнать, жив он или умер?
— Не знаю. Он больше не в моем распоряжении, — отвечал Вильфор.
Ее проницательный взгляд и умоляющий жест тяготили его; он оттолкнул Мерседес, вошел в дом и быстро захлопнул за собою дверь, как бы желая отгородиться от горя этой девушки.
Но горе не так легко отогнать. Раненный им уносит его с собою, как смертельную стрелу, о которой говорит Вергилий. Вильфор запер дверь, поднялся в гостиную, но тут ноги его подкосились; из его груди вырвался вздох, похожий на рыдание, и он упал в кресло.
Тогда-то в этой больной душе обнаружились первые зачатки смертельного недуга. Тот, кого он принес в жертву своему честолюбию, ни в чем не повинный юноша, который пострадал за вину его отца, предстал перед ним, бледный и грозный, об руку со своей невестой, такой же бледной, неся ему угрызения совести, — не те угрызения, от которых больной вскакивает, словно гонимый древним роком, а то глухое, мучительное постукивание, которое время от времени терзает сердце воспоминанием содеянного и до гробовой доски все глубже и глубже разъедает совесть.
Вильфор пережил еще одну, последнюю минуту колебания. Уже не раз, не испытывая ничего, кроме волнения борьбы, он требовал смертной казни для подсудимых, и эти казни, совершившиеся благодаря его громовому красноречию, увлекшему присяжных или судей, ни единым облачком не омрачали его чела, ибо эти подсудимые были виновны или по крайней мере Вильфор считал их таковыми.
Но на этот раз было совсем другое: к пожизненному заключению он приговорил невиновного — невинного, которому предстояло счастье: он отнял у него не только свободу, но и счастье; на этот раз он был уже не судья, а палач.
И, думая об этом, он почувствовал те глухие мучительные удары, которых он до той поры не знал; они отдавались в его груди и наполняли сердце безотчетным страхом. Так нестерпимая боль предостерегает раненого, и он никогда без содрогания не коснется пальцем открытой и кровоточащей раны, пока она не зажила.
Но рана Вильфора была из тех, которые не заживают или заживают только затем, чтобы снова открыться, причиняя еще большие муки, чем прежде.
Если бы в эту минуту раздался нежный голос Рене, моля его о пощаде, если бы прелестная Мерседес вошла и сказала ему: "Именем Бога, который нас видит и судит, заклинаю вас, отдайте мне моего жениха" — Вильфор, уже почти побежденный собственной совестью, покорился бы ей окончательно и оледенелой рукой, невзирая на все, что ему грозило, наверное, подписал бы приказ об освобождении Дантеса; но ничей голос не прозвучал в тишине, и дверь отворилась только для камердинера, который пришел доложить Вильфору, что почтовые лошади запряжены в дорожную коляску.
Вильфор встал или, вернее, вскочил, как человек, вышедший победителем из внутренней борьбы, подбежал к бюро, сунул в карман все золото, какое хранилось в одном из ящиков, покружил еще по комнате, растерянно потирая рукой лоб и бормоча бессвязные слова; наконец, почувствовав, что камердинер набросил ему на плечи плащ, он вышел, вскочил в карету и отрывисто приказал заехать на улицу Гран-Кур, к маркизе де Сен-Меран.
Несчастный Дантес был осужден безвозвратно.
Как обещал маркиз де Сен-Меран, Вильфор застал у него в кабинете его жену и дочь. При виде Рене молодой человек вздрогнул: он боялся, что она опять станет просить за Дантеса. Но, увы! Надо сознаться, в укор нашему эгоизму, что молодая девушка была занята только одним: отъездом своего жениха.
Она любила Вильфора; он уезжал накануне их свадьбы, сам точно не зная, когда вернется, и Рене, вместо того чтобы жалеть Дантеса, проклинала человека, преступление которого разлучало ее с женихом.
Каково же было Мерседес?
На углу улицы Дела-Лож ее ждал Фернан, который вышел за ней следом; она вернулась в Каталаны и, полумертвая, в отчаянии, бросилась на постель. Перед этой постелью Фернан стал на колени и, взяв холодную руку, которой Мерседес не отнимала, покрывал ее жаркими поцелуями, но Мерседес даже не чувствовала их.
Так прошла ночь. Когда все масло выгорело, ночник погас, но она не заметила темноты, как не замечала света; когда забрезжило утро, она и этого не заметила.
Горе пеленой застлало ей глаза, и она видела одного Эдмона.
— Ты здесь! — сказала она наконец, оборачиваясь к Фернану.
— Со вчерашнего дня я не отходил от тебя, — отвечал Фернан с горестным вздохом.
Моррель не считал себя побежденным. Он знал, что после допроса Дантеса отвели в тюрьму; тогда он обегал всех своих друзей, перебывал у всех влиятельных людей в Марселе, но повсюду уже распространился слух, что Дантес арестован как бонапартистский агент, и так как в то время даже смельчаки считали безумием любую попытку Наполеона вернуть себе престол, то Моррель встречал только холодность, боязнь или отказ. Он воротился домой в отчаянии, сознавая в душе, что дело очень плохо и что помочь никто не в силах.
Со своей стороны Кадрусс тоже был в большом беспокойстве. Вместо того, чтобы бегать по всему городу, как Моррель, и пытаться чем-нибудь помочь Дантесу, что, впрочем, ни к чему бы не привело, он засел дома с двумя бутылками наливки и старался утопить свою тревогу в хмеле. Но, для того чтобы одурманить его смятенный ум, двух бутылок было мало. Поэтому он остался сидеть, облокотившись на хромоногий стол, между двумя пустыми бутылками, не имея сил ни выйти из дому за вином, ни забыть о случившемся, и смотрел, как при свете коптящей свечи перед ним кружились и плясали все призраки, которые Гофман черной фантастической пылью рассеял по своим влажным от пунша страницам.
Один Данглар не беспокоился, не терзался и даже радовался: он отомстил врагу и обеспечил себе на "Фараоне" должность, которой боялся лишиться. Данглар был одним из тех расчетливых людей, которые родятся с пером за ухом и с чернильницей вместо сердца; все, что есть в мире, сводилось для него к вычитанию или к умножению, и цифра, особенно если она увеличивала итог, значила для него гораздо больше, чем человек, из-за которого этот итог мог быть уменьшен.
Поэтому Данглар лег спать в обычный час и спал спокойно.
Вильфор, получив от графа де Сальвьё рекомендательное письмо, поцеловал Рене в обе щеки, прильнул губами к руке маркизы де Сен-Меран, пожал руку маркизу и помчался на почтовых по дороге в Экс.
Старик Дантес, убитый горем, томился в смертельной тревоге.
Что же касается Эдмона, то мы знаем, что с ним сталось.
X
МАЛЫЙ КАБИНЕТ В ТЮИЛЬРИ
Оставим Вильфора на парижской дороге, по которой, платя тройные прогоны, он мчался во весь опор, и заглянем, миновав две-три гостиные, в малый тюильрийский покой, с полуциркульным окном, знаменитый тем, что это был любимый кабинет Наполеона и Людовика XVIII, а в наши дни — Луи-Филиппа.
В этом кабинете, сидя за столом орехового дерева, который он вывез из Хартвелла и который в силу одной из причуд, свойственных выдающимся личностям, он особенно любил, король Людовик XVIII рассеянно слушал человека лет пятидесяти, с седыми волосами и аристократическим лицом, изысканно одетого. В то же время он делал пометки на полях Горация, издания Грифиуса, издания довольно неточного, хотя и почитаемого и дававшего его величеству обильную пищу для хитроумных филологических наблюдений.
— Так вы говорите, сударь… — сказал король.
— Что я чрезвычайно обеспокоен, ваше величество.
— В самом деле? Уж не приснились ли вам семь коров тучных и семь тощих?
— Нет, ваше величество. Это означало бы только, что нас ждут семь годов обильных и семь голодных, а при таком предусмотрительном государе, как ваше величество, голода нечего бояться.
— Так что же вас беспокоит, милейший Б лака?
— Ваше величество, мне кажется, есть основания думать, что на юге собирается гроза.
— В таком случае, дорогой герцог, — отвечал Людовик XVIII, — мне кажется, вы плохо осведомлены. Я, напротив, знаю наверняка, что там прекрасная погода.
Людовик XVIII, хоть и был человек просвещенного ума, любил нехитрую шутку.
— Сир, — сказал де Блака, — хотя бы для того, чтобы успокоить верного слугу, соблаговолите послать в Лангедок, в Прованс и в Дофине надежных людей, которые доставили бы точные сведения о состоянии умов в этих трех провинциях.
— Canimus surdis,— отвечал король, продолжая делать пометки на полях Горация.
— Ваше величество, — продолжал царедворец, усмехнувшись, чтобы показать, будто он понял полустишие венузинского поэта, — ваше величество, быть может, совершенно правы, надеясь на преданность Франции; но, думается мне, что я не так уж не прав, опасаясь какой-нибудь отчаянной попытки…
— С чьей стороны?
— Со стороны Бонапарта или хотя бы его партии.
— Дорогой Блака, — сказал король, — ваши страхи мешают мне работать.
— А ваше спокойствие, государь, мешает мне спать.
— Постойте, дорогой мой, погодите: мне пришло на ум пресчастливое замечание о "Pastor quum traheret…"; погодите, потом скажете.
Наступило молчание, и король написал мельчайшим почерком несколько строк на полях Горация.
— Продолжайте, дорогой герцог, — сказал он, самодовольно подымая голову, как человек, считающий, что сам набрел на мысль, когда истолковал мысль другого. — Продолжайте, я вас слушаю.
— Ваше величество, — начал Блака, который сначала надеялся один воспользоваться вестями Вильфора, — я должен сообщить вам, что не пустые слухи и не голословные предостережения беспокоят меня. Человек благомыслящий, заслуживающий моего полного доверия и имевший от меня поручение наблюдать за югом Франции (герцог слегка замялся, произнося эти слова), прискакал ко мне на почтовых, чтобы сказать: страшная опасность угрожает королю. Вот почему я и поспешил к вашему величеству.
— Mala ducis avi domum,— продолжал король, делая пометки.
— Может быть, вашему величеству угодно, чтобы я оставил этот предмет?
— Нет, нет, дорогой герцог, но протяните руку…
— Которую?
— Какую угодно, вот там, налево…
— Здесь, ваше величество?
— Я говорю налево, а вы ищете направо; я хочу сказать — налево от меня, да тут, здесь должно быть донесение министра полиции от вчерашнего числа… Да вот и сам Дандре… Ведь вы сказали: господин Дандре? — продолжал король, обращаясь к камердинеру, который вошел доложить о приезде министра полиции.
— Да, государь, барон Дандре, — отвечал камердинер.
— Вот именно барон, — сказал Людовик XVIII с едва заметной улыбкой, — войдите, барон, и расскажите герцогу все последние новости о господине Бонапарте. Не скрывайте ничего, как бы серьезно ни было положение. Правда ли, что остров Эльба — вулкан и он извергает войну, ощетинившуюся и огненную: bella, horrida bella?
Дандре, изящно опираясь обеими руками на спинку стула, сказал:
— Вашему величеству угодно было удостоить взглядом мое вчерашнее донесение?
— Читал, читал, но расскажите сами герцогу, который никак не может его найти, что там написано; расскажите ему подробно, чем занимается узурпатор на своем острове.
— Все верные слуги его величества, — обратился барон к герцогу, — должны радоваться последним новостям, полученным с острова Эльба. Бонапарт…
Дандре посмотрел на Людовика XVIII, который, увлекшись каким-то примечанием, не поднял даже головы.
— Бонапарт, — продолжал барон, — смертельно скучает, по целым дням он созерцает работы саперов в Порто-Лонгоне.
— И почесывается для развлечения, — прибавил король.
— Почесывается? — переспросил герцог. — Что вы хотите сказать, ваше величество?
— Разве вы забыли, что этот великий человек, этот герой, этот полубог страдает накожной болезнью?
— Мало того, герцог, — продолжал министр полиции, — мы почти уверены, что в ближайшее время узурпатор сойдет с ума.
— Сойдет с ума?
— Несомненно, ум его мутится, он то плачет горькими слезами, то хохочет во все горло; иной раз сидит целыми часами на берегу и бросает камешки в воду, и если камень сделает пять или шесть рикошетов, то он радуется, точно снова выиграл битву при Маренго или Аустерлице. Согласитесь сами, это явные признаки сумасшествия.
— Или мудрости, господин барон, — смеясь, сказал Людовик XVIII. — Великие полководцы древности в часы досуга забавлялись тем, что бросали камешки в воду; разверните Плутарха и загляните в жизнеописание Сципиона Африканского.
Де Блака задумался, видя такую беспечность и в министре и в короле. Вильфор не выдал ему всей своей тайны, чтобы другой не воспользовался ею, но все же сказал достаточно, чтобы поселить в нем немалые опасения.
— Продолжайте, Дандре, — сказал король, — Блака еще не убежден; расскажите, как узурпатор обратился на путь истинный.
Министр полиции поклонился.
— На путь истинный, — прошептал герцог, глядя на короля и на Дандре, которые говорили поочередно, как вергилиевские пастухи. — Узурпатор обратился на путь истинный?
— Безусловно, любезный герцог.
— На какой же?
— На путь добра. Объясните, барон.
— Дело в том, герцог, — вполне серьезно начал министр, — что недавно Наполеон принимал смотр; двое или трое из старых ворчунов, как он их называет, изъявили желание возвратиться во Францию; он их отпустил, настойчиво советуя им послужить их доброму королю; это его собственные слова, герцог, могу вас уверить.
— Ну как, Блака? Что вы на это скажете? — спросил король с торжествующим видом, отрываясь на мгновение от огромной книги, раскрытой перед ним.
— Я скажу, ваше величество, что один из нас ошибается: или господин министр полиции, или я; но так как невозможно, чтобы ошибался господин министр полиции, ибо он охраняет благополучие и честь вашего величества, то, вероятно, ошибаюсь я. Однако на месте вашего величества я все же расспросил бы то лицо, о котором я имел честь докладывать; я даже настаиваю, чтобы ваше величество удостоили его этой чести.
— Извольте, герцог, по вашему совету я приму кого хотите, но я хочу принять его с оружием в руках. Господин министр, нет ли у вас донесения посвежее? На этом проставлено двадцатое февраля, а ведь сегодня уже третье марта.
— Нет, государь, но я жду нового донесения с минуты на минуту. Я выехал из дому с утра, и, может быть, оно получено без меня.
— Поезжайте в префектуру, и если оно еще не получено, то… — Людовик засмеялся, — то сочините сами; ведь так эго делается?
— Хвала Богу, государь, нам не нужно ничего выдумывать, — отвечал министр, — нас ежедневно заваливают самыми подробными доносами; их пишут всякие горемыки в надежде получить что-нибудь за услуги, которые они не оказывают, но хотели бы оказать. Они рассчитывают на счастливый случай и надеются, что какое-нибудь нежданное событие оправдает их предсказания.
— Хорошо, ступайте, — сказал король, — и не забудьте, что я вас жду.
— Ваше величество, через десять минут я здесь…
— А я, ваше величество, — сказал де Блака, — пойду приведу моего вестника.
— Постойте, постойте, — сказал король. — Знаете, Блака, мне придется изменить ваш герб; я дам вам орла с распущенными крыльями, держащего в когтях добычу, которая тщетно силится вырваться, и с девизом: Тепах.
— Я вас слушаю, ваше величество, — отвечал герцог, изнывая от нетерпения.
— Я хотел посоветоваться с вами об этом стихе: "Моlli fugiens anhelitu…". Помните, речь идет об олене, которого преследует волк. Ведь вы же охотник и главный начальник охоты на волков; как вам нравится это molli anhelitu?
— Превосходно, ваше величество. Но мой вестник похож на того оленя, о котором вы говорите, ибо он проехал двести двадцать льё на почтовых, и притом меньше чем в три дня.
— Это лишний труд и беспокойство, когда у нас есть телеграф, который сделал бы то же самое в три или четыре часа, и притом без всякой одышки.
— Государь, вы плохо вознаграждаете рвение бедного молодого человека, который примчался издалека, чтобы предостеречь ваше величество. Хотя бы ради графа Сальвьё, который мне его рекомендует, примите его милостиво, прошу вас.
— Граф Сальвьё? Камергер моего брата?
— Он самый.
— Да, да, ведь он в Марселе.
— Он оттуда мне и пишет.
— Так и он сообщает об этом заговоре?
— Нет, но рекомендует господина де Вильфора и поручает мне представить его вашему величеству.
— Вильфор! — вскричал король. — Так его зовут Вильфор?
— Да, сир.
— Это он и приехал из Марселя?
— Он самый.
— Что же вы сразу не назвали его имени? — сказал король, и на лице его показалась легкая тень беспокойства.
— Государь, я думал, что его имя неизвестно вашему величеству.
— Нет, нет, Блака; это человек дельный, благородного образа мыслей, главное — честолюбивый. Да вы же знаете его отца, хотя бы по имени…
— Его отца?
— Ну да, Нуартье.
— Нуартье-жирондиста? Сенатора?
— Вот именно.
— И ваше величество доверили государственную должность сыну такого человека?
— Блака, мой друг, вы ничего не понимаете; я вам сказал, что Вильфор честолюбив: чтобы выслужиться, он пожертвует всем, даже родным отцом.
— Так прикажите привести его?
— Сию же минуту. Где он?
— Ждет внизу, в моей карете.
— Ступайте за ним.
— Бегу.
И герцог побежал с живостью молодого человека; его искренний роялистский пыл придавал ему силы двадцатилетнего юноши.
Людовик XVIII, оставшись один, снова устремил взгляд на раскрытого Горация и прошептал: "Justum et tenacem propositi virum…".
Де Блака возвратился так же поспешно, как вышел, но в приемной ему пришлось сослаться на волю короля: пыльное платье Вильфора, его наряд, отнюдь не отвечающий придворному этикету, возбудил неудовольствие г-на де Брезе, который изумился дерзости молодого человека, решившегося в таком виде явиться к королю. Но герцог одним словом: "По велению его величества" — устранил все препятствия, и, несмотря на возражения, которые порядка ради продолжал бормотать церемониймейстер, Вильфор вошел в кабинет.
Король сидел на том же месте, где его оставил герцог. Отворив дверь, Вильфор очутился прямо против него; молодой человек невольно остановился.
— Войдите, господин де Вильфор, — сказал король, — войдите!
Вильфор поклонился и сделал несколько шагов в ожидании вопроса короля.
— Господин де Вильфор, — начал Людовик XVIII, — герцог Блака говорит, что вы имеете сообщить нам нечто важное.
— Государь, герцог говорит правду, и я надеюсь, что и вашему величеству угодно будет согласиться с ним.
— Прежде всего так ли велика, по-вашему, опасность, как меня хотят уверить?
— Ваше величество, я считаю ее серьезной; но благодаря моей поспешности она, надеюсь, может быть предотвращена.
— Говорите подробно, не стесняйтесь, — сказал король, начиная и сам заражаться волнением, которое отражалось на лице герцога и в голосе Вильфора, — говорите, но начните с начала, я во всем и везде люблю порядок.
— Я представлю вашему величеству подробный отчет; но прошу извинить, если мое смущение несколько затемнит смысл моих слов.
Взгляд, брошенный на короля после этого вкрадчивого вступления, сказал Вильфору, что августейший собеседник внимает ему с благосклонностью, и он продолжал:
— Ваше величество, я приехал со всей поспешностью в Париж, чтобы уведомить ваше величество о том, что по долгу службы я открыл не какой-нибудь вульгарный и не имеющий последствий сговор, какие каждый день затеваются в низших слоях населения и войска, но подлинный заговор, который угрожает трону вашего величества. Государь, узурпатор снаряжает три корабля; он замышляет какое-то дело, может быть безумное, но тем не менее и грозное, несмотря на все его безумие. В настоящую минуту он уже, должно быть, покинул остров Эльба и направился неизвестно куда, но, без сомнений, он попытается высадиться либо в Неаполе, либо на берегах Тосканы, а может быть, даже и во Франции. Вашему величеству небезызвестно, что властитель острова Эльба сохранил сношения и с Италией и с Францией.
— Да, — отвечал король в сильном волнении, — совсем недавно мы узнали, что бонапартисты собираются на улице Святого Иакова; но продолжайте, прошу вас; как вы получили все эти сведения?
— Ваше величество, я почерпнул их из допроса, который я учинил одному марсельцу. Я давно начал следить за ним и в самый день моего отъезда отдал приказ об его аресте. Этот человек, моряк буйного нрава и несомненный бонапартист, тайно ездил на остров Эльба; там он виделся с маршалом, и тот дал ему устное поручение к одному парижскому бонапартисту, имени которого я от него так и не добился; но поручение состояло в том, чтобы подготовить умы к возвращению (прошу помнить, ваше величество, что я передаю слова подсудимого), — к возвращению, которое должно последовать в самое ближайшее время.
— А где этот человек? — спросил король.
— В тюрьме, ваше величество.
— И дело показалось вам серьезным?
— Настолько серьезным, что, узнав о нем на семейном торжестве, в самый день моего обручения, я тотчас все бросил, и невесту и друзей, все отложил до другого времени и явился повергнуть к стопам вашего величества и мои опасения и заверения в моей преданности.
— Да, — сказал Людовик, — ведь вы должны были жениться на мадемуазель де Сен-Меран.
— На дочери одного из преданнейших ваших слуг.
— Да, да, но вернемся к этому сговору, господин де Вильфор.
— Ваше величество, боюсь, что это нечто большее, чем сговор, боюсь, что это заговор.
— В наше время, — отвечал Людовик с улыбкой, — легко затеять заговор, но трудно привести в исполнение, уже потому, что мы, недавно возвратившись на престол наших предков, обращаем взгляд одновременно на прошлое, на настоящее и на будущее. Вот уже десять месяцев, как мои министры зорко следят за тем, чтобы берега Средиземного моря бдительно охранялись. Если Бонапарт высадится в Неаполе, то вся коалиция подымется против него, прежде чем он успеет дойти до Пьомбино; если он высадится в Тоскане, то ступит на вражескую землю; если он высадится во Франции, то лишь с горсточкой людей, и мы справимся с ним без труда, потому что население ненавидит его. Поэтому успокойтесь, но будьте все же уверены в нашей королевской признательности.
— А! Вот и господин Дандре! — воскликнул герцог Блака.
На пороге кабинета стоял министр полиции, бледный, трепещущий; взгляд его блуждал, словно сознание покидало его. Вильфор хотел удалиться, но де Блака удержал его за руку.
Назад: Часть первая
Дальше: XI КОРСИКАНСКИЙ ЛЮДОЕД

