Книга: Дюма. Том 05. Графиня де Монсоро
Назад: XXXVI О ТОМ, КАК ПРОХОДИЛ БОЛЬШОЙ КОРОЛЕВСКИЙ СОВЕТ
Дальше: VII ШАХМАТЫ ШИКО, БИЛЬБОКЕ КЕЛЮСА И САРБАКАН ШОМБЕРГА
Часть вторая
I
УЛИЦА ФЕРОНРИ
У Шико были крепкие ноги, и он, разумеется, не преминул бы воспользоваться этим преимуществом и, конечно, догнал бы человека, ударившего Горанфло дубинкой, если бы поведение незнакомца и особенно его спутника не показалось шуту подозрительным и не навело его на мысль, что встреча с этими людьми таит опасность, ибо он может узнать их, чего они, по всей видимости, отнюдь не желают. Оба беглеца явно старались поскорее затеряться в толпе, но на каждом углу оборачивались, дабы удостовериться в том, что их не преследуют.
Шико подумал, что он может остаться незамеченным, только если пойдет впереди. Незнакомцы по улицам Моннэ и Тирешап вышли на улицу Сент-Оноре; здесь-то на углу Шико обогнал их и притаился в конце улицы Бурдоннэ.
Дальше незнакомцы двинулись по улице Сент-Оноре, держась домов, расположенных на той стороне, что и хлебный рынок; шляпы их были надвинуты на лоб по самые брови, плащи закрывали их лица до глаз; быстрым, по-военному четким шагом они направлялись к улице Феронри. Шико продолжал идти впереди.
На углу улицы Феронри эти двое снова остановились, чтобы оглядеться еще раз.
К этому времени Шико успел опередить их настолько, что был уже в средней части улицы.
Здесь, перед домом, который, казалось, вот-вот развалится от ветхости, стояла карета, запряженная двумя дюжими лошадьми. Шико подошел ближе и увидел возницу, дремавшего на козлах, и женщину, с беспокойством, как показалось гасконцу, выглядывавшую из-за занавесок. Он догадался, что карета ожидает тех двух мужчин. Шико обошел ее и, прикрытый двойной тенью — от кареты и от дома, нырнул под широкую каменную скамью, служившую прилавком для торговцев зеленью, которые в те времена дважды в неделю продавали свой товар на улице Феронри.
Не успел Шико забиться под скамью, как те двое, по-прежнему настороженно оглядываясь, оказались рядом с лошадьми.
Один из них принялся расталкивать возницу и, так как тот продолжал спать сном праведника, отпустил в его адрес весьма выразительное гасконское проклятие. Между тем его спутник, еще более нетерпеливый, кольнул кучера в зад острием своего кинжала.
— Эге, — сказал Шико, — значит, я не ошибся: это мои земляки. Нет ничего удивительного, что они так славно отлупили Горанфло: ведь он бранил гасконцев.
Молодая женщина, убедившись, что перед ней те, кого она ждала, поспешно высунулась из-за занавесок тяжелого экипажа. Тут Шико смог разглядеть ее получше. Лет ей можно было дать около двадцати или двадцати двух. Она была очень хороша собой и чрезвычайно бледна, и, будь то днем, по легкой испарине, увлажнявшей на висках ее золотистые волосы, по обведенным синевой глазам, по матовой бледности рук, по томности ее позы нетрудно было бы заметить, что она находится во власти недомогания, истинную природу которого очень скоро выдали бы ее частые обмороки и округлившийся стан.
Но Шико из всего этого увидел только, что она молода, бледна и светловолоса.
Мужчины подошли к карете и, естественно, оказались между нею и скамьей, под которой в три погибели скорчился Шико.
Тот, что был ростом повыше, взял в свои ладони белоснежную ручку, протянутую ему дамой, поставил одну ногу на ступеньку кареты, положил локти на край дверцы и спросил:
— Ну как, моя милочка, сердечко мое, прелесть моя, как мы себя чувствуем?
Дама в ответ с печальной улыбкой покачала головой и показала ему флакон с солями.
— Опять обмороки, святая пятница! Как бы я сердился на вас, моя любимая, за то, что вы так расхворались, если бы сам не был виновником вашей приятной болезни.
— И какого дьявола притащили вы госпожу в Париж? — довольно грубо спросил второй незнакомец. — Что за проклятие, клянусь честью! Вечно к вашему камзолу какая-нибудь юбка пристегнута.
— Э, дорогой Агриппа, — сказал тот, что заговорил первым и казался мужем или возлюбленным дамы, — ведь так тяжело разлучаться с теми, кого любишь.
И он обменялся с предметом своей любви взглядом, исполненным страстного томления.
— Свихнуться впору, слушая ваши речи, клянусь спасением души! — возмутился его спутник. — Значит, вы приехали в Париж заниматься любовью, мой дорогой юбочник? По мне, так и в Беарне вполне достаточно места для ваших любовных прогулок и не было нужды забираться в этот Вавилон, где сегодня вечером мы, по вашей милости, уже раз двадцать чуть не попали в беду. Возвращайтесь в Беарн, коли вам хочется амурничать возле каретных занавесочек, но здесь — черт подери! — никаких интриг, кроме политических, мой господин.
При слове “господин” Шико возымел желание приподнять голову и поглядеть, но он не мог сделать этого без риска быть обнаруженным.
— Пусть себе ворчит, моя милочка, не обращайте внимания. Стоит ему прекратить свою воркотню — и он наверняка заболеет, у него начнутся, как у вас, испарины и обмороки.
— Святая пятница, как же вы любите поговорить! — воскликнул ворчун. — Уж если вам охота любезничать с госпожой, садитесь, по крайней мере, в карету, там безопаснее, на улице вас могут узнать.
— Ты прав, Агриппа, — сказал влюбленный гасконец. — Вы видите, милочка, советы у него совсем не такие скверные, как его физиономия. Дайте-ка мне местечко, прелесть моя, если вы не против, чтобы я сел возле вас, раз уж я не могу встать на колени перед вами.
— Я не только не против, государь, — ответила молодая дама, — я этого жажду всей душой.
— Государь! — прошептал Шико, невольно приподняв голову, которая крепко стукнулась о камень скамьи. — Государь! Что это она говорит?
Между тем счастливый любовник воспользовался полученным разрешением, и пол кареты заскрипел под дополнительным грузом.
Вслед за скрипом раздался звук продолжительного и нежного поцелуя.
— Черт подери! — воскликнул мужчина, оставшийся на улице. — Человек и в самом деле всего лишь глупое животное.
— Пусть меня повесят, если я хоть что-нибудь в этом понимаю, — пробормотал Шико. — Но подождем. Терпенье и труд все перетрут.
— О! Как я счастлив! — продолжал тот, кого назвали государем, ничуть не обеспокоенный брюзжанием своего друга, брюзжанием, к которому он, по всей видимости, давно уже привык. — Святая пятница! Сегодня прекрасный день: одни добрые парижане ненавидят меня всей душой и убили бы без малейшей жалости, другие добрые парижане делают все возможное, чтобы расчистить мне дорогу к трону, а я держу в своих объятиях милую женщину! Где мы сейчас находимся, д’Обинье? Я прикажу, когда стану королем, воздвигнуть на этом месте памятник во славу доброго гения Беарнца.
— Беа…
Шико не договорил — он набил себе вторую шишку по соседству с первой.
— Мы на улице Феронри, государь, и она тут не очень-то приятно пахнет, — ответил д’Ооинье, который вечно был в дурном расположении духа и, когда уставал сердиться на людей, сердился на все, что придется.
— "Мне кажется, — продолжал Генрих, ибо наши читатели уже, без сомнения, узнали короля Наваррского, — мне кажется, что я вижу, вижу ясно всю свою будущую жизнь: я король, я сижу на троне, сильный и могущественный, хотя, возможно, и менее любимый, чем сейчас. Мой взгляд проникает в будущее вплоть до моего смертного часа. О моя дорогая, повторяйте мне еще и еще, что вы меня любите! При звуках вашего голоса сердце мое так и тает!
И в приступе грусти, которая его иной раз охватывала, Беарнец с глубоким вздохом опустил голову на плечо своей возлюбленной.
— Боже мой! — испуганно воскликнула молодая женщина. — Вам дурно, государь?
— Вот-вот! Только этого недоставало, — возмутился д’Обинье, — нечего сказать, хорош солдат, хорош полководец и король, который падает в обморок!
— Нет, нет, успокойтесь, моя милочка, — сказал Генрих, — упасть в обморок возле вас было бы счастьем для меня.
— Просто не понимаю, государь, — заметил д’Обинье, — почему это вы подписываетесь “Генрих Наваррский”? Вам следовало бы подписываться “Ронсар” или “Клеман Маро”. Дьявольщина! И как это вы ухитряетесь не ладить с госпожой Марго: ведь вы оба души не чаете в поэзии!
— Ах, д’Обинье, сделай милость, не говори мне о моей жене. Святая пятница! Ты же знаешь поговорку… Что, если мы вдруг встретимся здесь с Марго?
— Несмотря на то, что она сейчас в Наварре, верно?
— Святая пятница! А я, разве я сейчас не в Наварре? Во всяком случае, разве не считается, что я там? Послушай, Агриппа, ты меня прямо в дрожь вогнал. Садись, и поехали.
— Ну уж нет, — сказал д’Обинье, — езжайте, а я пойду за вами. Я вас буду стеснять, и, что того хуже, вы будете стеснять меня.
— Тогда закрой дверцу, ты, беарнский медведь, и поступай как тебе заблагорассудится, — ответил Генрих.
— Лаварен, туда, куда ты знаешь! — обратился он к вознице.
Карета медленно тронулась в путь, а за ней зашагал д’Обинье, который порицал друга, но считал необходимым оберегать короля.
Отъезд Генриха Наваррского избавил Шико от ужасного страха: не такой человек был д’Обинье, чтобы оставить в живых неосторожного, подслушавшего его откровенный разговор с Генрихом.
— Следует ли Валуа знать о том, что здесь произошло? — размышлял Шико, вылезая на четвереньках из-под скамьи. — Вот в чем вопрос.
Шико потянулся, чтобы вернуть гибкость своим длинным ногам, сведенным судорогой.
— А зачем ему знать? — продолжал гасконец, рассуждая сам собой. — Двое прячущихся мужчин и беременная женщина! Нет, поистине, это было бы подлостью! Я ничего не скажу. К тому же, как я полагаю, оно не так уж и важно, поскольку в конечном-то счете правлю королевством я.
И Шико, один на пустынной улице, весело подпрыгнул.
— Влюбленные — это очень мило, — продолжал он, — но д’Обинье прав: наш дорогой Генрих Наваррский влюбляется слишком часто для короля in partibus. Всего год тому назад он приезжал в Париж из-за госпожи де Сов. А нынче берет с собой очаровательную крошку, предрасположенную к обморокам. Кто бы это мог быть, черт возьми? По всей вероятности — Фоссез. И потом, мне кажется, что если Генрих Наваррский — серьезный претендент на престол, если он, бедняга, действительно стремится к трону, то ему не мешало бы поразмыслить над тем, как избавиться и от своего врага Меченого, и от своего врага кардинала де Гиза, и от своего врага милейшего герцога Майенского. Мне-то он по душе. Беарнец, я уверен, рано или поздно доставит неприятности этому богомерзкому живодеру из Лотарингии. Итак, решено: я ни словечком не обмолвлюсь о том, что видел и слышал.
Тут на улицу вывалилась толпа пьяных лигистов с криками:
— Да здравствует месса! Смерть Беарнцу! На костер гугенотов! В огонь еретиков!
К этому времени карета уже свернула за угол стены кладбища Невинно Убиенных и скрылась в глубине улицы Сен-Дени.
— Итак, — продолжал размышлять Шико, — припомним, что было: я видел кардинала де Гиза, видел герцога Майенского, видел короля Генриха Валуа, видел короля Генриха Наваррского. В моей коллекции не хватает только принца. Так отправимся же на поиски герцога Анжуйского и будем искать его, пока не обнаружим! А, кстати, где мой Франциск Третий? Клянусь святым чревом, я жажду лицезреть его, этого достойного монарха!
И Шико направился в сторону церкви Сен-Жермен-л’Осеруа.
Не только Шико был занят поисками герцога Анжуйского и обеспокоен его отсутствием, Гизы также искали принца, и тоже безуспешно. Его высочество герцог Анжуйский не был человеком, склонным к безрассудному риску, и позже мы увидим, какие опасения все еще удерживали его вдали от друзей.
На мгновение Шико показалось, что он нашел принца. Это случилось на улице Бетизи. У дверей винной лавки собралась большая толпа, и в ней Шико увидел господина де Монсоро и Меченого.
— Добро! — сказал он. — Вот прилипалы. Акула должна быть где-нибудь поблизости.
Шико ошибался. Господин де Монсоро и Меченый были заняты тем, что у дверей переполненного пьяницами кабачка усердно потчевали вином некоего оратора, подогревая таким способом его гугнивое красноречие.
Оратором этим был мертвецки пьяный Горанфло. Монах повествовал о своем путешествии в Лион и о поединке в гостинице с одним из мерзопакостных приспешников Кальвина.
Господин де Гиз слушал рассказ с пристальным вниманием, улавливая в нем какую-то связь с молчанием Никола Давида.
Улица Бетизи была забита народом. К круглой коновязи, весьма обычной в ту эпоху для большинства улиц, были привязаны кони нескольких дворян-лигистов. Шико смешался с толпой, окружившей коновязь, и навострил уши.
Горанфло, разгоряченный, разбушевавшийся, без конца сползавший с седла то в одну, то в другую сторону, уже раз грохнувшийся оземь со своей живой кафедры и снова, с грехом пополам, водворенный на спину Панурга, лепетал что-то бессвязное, но, к несчастью, все же еще лепетал и поэтому оставался жертвой настойчивых домогательств герцога и коварных вопросов господина де Монсоро, которые вытягивали из него обрывки признаний и клочья фраз.
Эта исповедь встревожила Шико совсем иначе, чем присутствие в Париже короля Наваррского. Он чувствовал, что приближается момент, когда Горанфло произнесет его имя, и оно озарит мрачным светом всю тайну. Гасконец не стал терять времени: где отвязав, а где и перерезав поводья лошадей, тершихся друг о друга у коновязи, он отвесил им парочку крепких ударов плетью и погнал в самую гущу толпы, которая при виде рванувшихся с отчаянным ржанием животных раздалась и бросилась врассыпную.
Горанфло испугался за Панурга, дворяне — за своих коней и поклажу, а многие испугались и за самих себя. Вдруг кто-то крикнул: “Пожар!”, крик был подхвачен еще десятком голосов. Шико молниеносно проскользнул между людьми и подскочил к Горанфло. При виде его горящего взгляда монах тотчас протрезвел и, схватив Панурга под уздцы, вместо того чтобы последовать за бегущей толпой, бросился в противоположную сторону. Очень скоро между Горанфло и герцогом де Гизом образовалось весьма значительное пространство, которое в то же мгновенье заполнил все прибывающий поток запоздалых зевак.
Воспользовавшись этим, Шико увлек шатающегося на своем осле монаха в углубление, образованное апсидой церкви Сен-Жермен-л’Осеруа, и прижал его и Панурга к стене. Так поступает скульптор с барельефом, когда он собирается заделать стену.
— А, пропойца! — сказал Шико. — А, язычник! А, изменник! А, вероотступник! Так, значит, ты по-прежнему готов продать друга за кувшин вина?
— Ах, господин Шико! — пролепетал монах.
— Как! Я тебя кормлю, негодяй, — продолжал Шико. — я тебя пою, я набиваю твои карманы и твое брюхо, а ты предаешь своего господина!
— Ах, Шико! — сказал растроганный монах.
— Ты выбалтываешь мои секреты, несчастный!
— Любезный друг!
— Замолчи! Ты доносчик и заслужил наказание.
Коренастый, сильный, толстый монах, могучий, как бык, но укрощенный раскаянием и особенно вином, не пытался защищаться, и Шико тряс его, словно большой надутый воздухом шар.
Один Панург восстал против насилия, учиняемого над его другом, и все пытался лягнуть Шико, но удары его копыт не попадали в цель, а Шико отвечал на них ударами палки.
— Это я-то заслужил наказание? — бормотал монах. — Я, ваш друг, любезный господин Шико?
— Да, да, заслужил, — отвечал Шико, — и ты его получишь.
И палка гасконца перешла с ослиного крупа на широкие, мясистые плечи монаха.
— Эх, кабы я не был выпивши! — воскликнул Горанфло в порыве гнева.
— Ты бы меня отколотил, не так ли, неблагодарная скотина? Меня, своего друга?
— Вы мой друг, господин Шико! И вы меня бьете!
— Кого люблю, того и бью.
— Тогда убейте меня, и дело с концом! — воскликнул Горанфло.
— А стоило бы.
— Эх, кабы я не был выпивши! — повторил Горанфло с громким стоном.
— Ты это уже говорил.
И Шико удвоил доказательства своей любви к бедному монаху, который жалобно заблеял.
— Ну вот, — сказал гасконец, — то он волк, а то овечкой прикидывается. А ну, влезай-ка на Панурга и отправляйся спать в “Рог изобилия”.
— Я дороги не вижу, — сказал монах; из глаз его градом катились слезы.
— А! — отозвался Шико. — Если бы ты еще вином плакал! По крайней мере, протрезвел бы! Но нет, оказывается, я еще и поводырем твоим должен быть!
И Шико повел осла под уздцы, в то время как монах, вцепившись обеими руками в луку седла, прилагал все усилия к тому, чтобы сохранить равновесие.
Так прошествовали они по мосту Менье, улице Сен-Бартелеми, Малому мосту и вступили на улицу Сен-Жак. Шико тянул осла, монах лил слезы.
Двое слуг и мэтр Бономе, по распоряжению Шико, стащили Горанфло с осла и отвели в уже известную нашим читателям комнату.
— Готово, — сказал, вернувшись, мэтр Бономе.
— Он лег? — спросил Шико.
— Храпит…
— Чудесно! Но так как через денек-другой он все же проснется, помните: я не хочу, чтобы он знал, как очутился здесь. Никаких объяснений! Будет даже неплохо, коли он решит, что и вовсе не выходил отсюда с той славной ночи, когда он учинил такой громкий скандал в своем монастыре, и станет думать, будто все это ему приснилось!
— Понял, господин Шико, — ответил трактирщик, — но что с ним стряслось, с этим бедным монахом?
— Большая беда. Кажется, он поссорился в Лионе с посланцем герцога Майенского и убил его.
— О, Боже! — воскликнул хозяин. — Так значит…
— Значит, герцог Майенский, по всей вероятности, поклялся, что не будь он герцог, если не колесует монаха заживо, — ответил Шико.
— Не волнуйтесь, — сказал Бономе, — он не выйдет отсюда ни за что на свете.
— В добрый час! А теперь, — продолжал гасконец, успокоенный насчет Горанфло, — совершенно необходимо разыскать герцога Анжуйского. Что ж, поищем!
И он отправился во дворец его величества Франциска III.
II
ПРИНЦ И ДРУГ
Как мы уже знаем, во время вечера Лиги Шико тщетно искал герцога Анжуйского на улицах Парижа.
Вы помните, что герцог де Гиз пригласил принца прогуляться по городу; это приглашение обеспокоило принца, всегда отличавшегося подозрительностью. Франсуа предался размышлениям, а после размышлений он обычно делался осторожнее всякой змеи.
Однако в его интересах было увидеть собственными глазами все, что произойдет на улицах вечером, и поэтому он счел необходимым принять приглашение, но в то же время решил не покидать свой дворец без подобающей случаю надежной охраны.
Всякий человек, когда он испытывает страх, хватается за свое излюбленное оружие. Вот и герцог отправился за своей шпагой, и этой шпагой был Бюсси д’Амбуаз.
Должно быть, герцог был основательно напуган, если уже он решился на такой шаг. Бюсси, обманутый в своих надеждах касательно графа де Монсоро, избегал герцога, и Франсуа в глубине души понимал, что на месте своего любимца — если бы, разумеется, заняв его место, он одновременно приобрел и его храбрость, — он сам испытывал бы по отношению к принцу, который его так жестоко предал, нечто большее, чем простое презрение.
Что касается Бюсси, то молодой человек, подобно всем избранным натурам, гораздо живее воспринимал страдания, чем радости: как правило, мужчина, бесстрашный перед лицом опасности, сохраняющий хладнокровие и спокойствие при виде клинка и пистолета, поддается горестным переживаниям скорее, чем трус. Легче всего женщины заставляют плакать тех мужчин, перед которыми трепещут другие мужчины.
Бюсси был словно одурманен своим горем; он видел, что Диана принята при дворе как графиня де Монсоро, возведена королевой Луизой в ранг придворной дамы; он видел, что тысячи любопытных глаз пожирают эту красоту, не имеющую себе равных, красоту, которую он, можно сказать, извлек из склепа, где она была погребена. В течение всего вечера он не отрывал горящего взора от молодой женщины, но она ни разу не подняла на него своих опущенных глаз, и, среди праздничного блеска, Бюсси, который был несправедлив, как всякий истинно влюбленный, Бюсси, который предал забвению прошлое и сам истребил в своей душе все надежды на счастье, порожденные в ней прошлым, не подумал, как должна была страдать Диана оттого, что не смела поднять глаза и увидеть среди всех этих равнодушных или глупо любопытных людей лицо, затуманенное милой ее сердцу печалью.
"Да, — сказал себе Бюсси, видя, что ему не дождаться от Дианы взгляда, — женщины ловки и бесстрашны только тогда, когда им надо обмануть опекуна, мужа или мать, но они становятся робкими и неумелыми, когда требуется заплатить простой долг признательности; они так боятся, чтобы их не сочли влюбленными, так высоко оценивают свою малейшую милость, что, желая привести в отчаяние того, кто их домогается, способны без всякой жалости разбить ему сердце, если 13-2139 им придет в голову такая фантазия. Диана могла мне откровенно сказать: “Благодарю за все, что вы для меня сделали, господин де Бюсси, но я не люблю вас!” Я или умер бы на месте, или излечился. Но нет! Она предпочитает, чтобы я любил ее безнадежно. Однако этому не бывать, потому что я ее больше не люблю. Я презираю ее".
И с сердцем, преисполненным ярости, он отошел от придворных, окружавших короля.
Разве на это лицо еще недавно все женщины взирали с любовью, а мужчины — со страхом? Лоб изборожден морщинами, глаза блуждают, рот искривила усмешка.
Идя к выходу, он увидел свое отражение в венецианском зеркале и сам себе показался отвратительным.
“Я безумец, — решил он. — Как! Из-за одной женщины, которая мною пренебрегает, я оттолкнул от себя сотню других, готовых сделать меня своим избранником! Но из-за чего она мною пренебрегает, вернее, из-за кого? Не из-за этого ли долговязого скелета с бледным, как у покойника, лицом, который все время торчит в двух шагах от нее, не сводит с нее ревнивого взгляда… и тоже делает вид, что меня не замечает? А ведь стоит мне захотеть, и через четверть часа он будет лежать под моим коленом, безмолвный и холодный, с клинком моей шпаги в сердце; стоит мне захотеть, и я могу залить ее белоснежное платье кровью того, кто приколол к нему эти цветы; и уж если я не в силах заставить любить себя, я заставил бы, по крайней мере, бояться меня и ненавидеть. О! Лучше ее ненависть, лучше ненависть, чем безразличие! Да, но это была бы жалкая месть: так поступил бы какой-нибудь К ел юс или Можирон, если бы к ел юсы и можироны умели любить. Лучше быть похожим на того героя Плутарха, которым я всегда восхищался, — на юного Антиоха: он умер от любви, не открыв миру своих чувств, не проронив ни слова жалобы. Да, я буду хранить молчание! Да, я, сражавшийся один на один с самыми грозными людьми этого века, я, выбивший шпагу из рук самого Крийона, храбреца Крийона, — он стоял передо мною безоружный, и жизнь его была в моей власти, — я подавлю свое страдание, задушу его в своем сердце, не оставив ему ни малейшей надежды, как Геракл задушил титана Антея, не дав ему коснуться ногой матери-земли. Нет ничего невозможного для меня, для Бюсси, которого, как Крийона, зовут храбрецом; все, что свершили античные герои, свершу и я”.
Придя к такому решению, молодой человек расслабил свои конвульсивно скрюченные пальцы, которыми раздирал себе грудь, провел ладонью по влажному от пота лбу и медленно направился к двери. Его кулак уже поднялся было, чтобы грубо отдернуть портьеру, но Бюсси призвал на помощь все свое терпение и выдержку и вышел с улыбкой на устах, с ясным челом и… с вулканом в сердце.
Правда, встретив по дороге герцога Анжуйского, он отвернулся, ибо почувствовал, что ему всех душевных сил недостанет, чтобы улыбнуться или хотя бы поклониться этому человеку, который называл его своим другом и так подло предал.
Проходя мимо, принц окликнул его по имени, но Бюсси даже не повернул головы.
Он возвратился к себе, положил на стол шляпу, вынул из ножен кинжал и отцепил ножны, расстегнул плащ и камзол и упал в большое кресло, откинув голову на украшавший спинку щит с родовым гербом.
Слуги, заметив отрешенный вид господина, подумали, что он хочет вздремнуть, и удалились.
Бюсси не спал — он грезил.
Он просидел так несколько часов, не замечая, что в другом конце комнаты сидит еще один человек и пристально за ним наблюдает, не двигаясь, не произнося ни звука и, по всей вероятности ожидая удобного момента, чтобы словом или знаком обратить на себя внимание.
Ледяная дрожь пробежала по спине Бюсси, и веки его затрепетали. Наблюдатель не шевельнулся. Вскоре зубы графа начали выбивать дрожь, пальцы скрючились, голова, внезапно налившаяся тяжестью, скользнула по спинке кресла и упала на плечо.
В это мгновение человек, следивший за Бюсси, со вздохом поднялся со своего стула и подошел к нему.
— Господин граф, — сказал он, — вас лихорадит.
Граф поднял красное от жара лицо.
— А, это ты, Реми, — пробормотал он.
— Да, граф, я вас ждал здесь.
— Почему?
— Потому, что там, где страдают, долго не задерживаются.
— Благодарю вас, мой друг, — сказал Бюсси, протягивая Одуэну руку.
Реми стиснул в своих ладонях эту грозную руку, ставшую теперь слабее детской ручонки, и с нежностью и уважением прижал к своей груди.
— Послушайте, граф, надо решить, что вам больше по душе: хотите, чтобы лихорадка взяла над вами верх и убила вас — оставайтесь на ногах; хотите перебороть ее — ложитесь в постель и прикажите почитать вам какую-нибудь замечательную книгу, в которой можно почерпнуть хороший пример и новые силы.
Графу ничего другого не оставалось, как повиноваться.
Друзья, явившиеся навестить Бюсси, застали его уже в постели.
Весь следующий день Реми провел у изголовья больного. Он выступал в двух качествах — врачевателя тела и целителя души. Для тела у него были освежающие напитки, для души — слова сердечного участия.
13*
Но через сутки, в тот самый день, когда господин де Гиз явился в Лувр, Бюсси увидел, что Реми возле него нет.
“Он устал, — подумал Бюсси, — это вполне естественно. Бедный мальчик! Ему так нужны воздух, солнце, весна. К тому же его, несомненно, ожидает Гертруда. Правда, Гертруда всего лишь служанка, но она его любит… Служанка, которая любит, стоит больше королевы, которая не любит”.
Так прошел весь день. Реми все не возвращался, но именно поэтому Бюсси особенно хотелось его видеть. В нем поднималось раздражение против бедного лекаря.
— Эх, — в который раз вздохнул он, — а я-то верил, что еще существуют признательность и дружба! Нет, больше я ни во что не хочу верить!
К вечеру, коща улицы стали наполняться шумной толпой народа, когда наступившие сумерки уже мешали ясно различать предметы в комнате, Бюсси услышал многочисленные и очень громкие голоса в прихожей.
Вбежал насмерть перепуганный слуга:
— Ваше сиятельство, там герцог Анжуйский.
— Пусть войдет, — ответил Бюсси, нахмурившись при мысли, что его господин проявляет о нем заботу, в то время как ему противна даже любезность.
Герцог вошел. В комнате Бюсси не было света: больному сердцу милы потемки, ибо они населяют его призраками.
— Тут слишком темно, Бюсси, — сказал герцог. — Это должно наводить на тебя тоску.
Бюсси молчал, отвращение сковывало ему уста.
— Ты так серьезно болен, — продолжал герцог, — что не можешь мне ответить?
— Я действительно очень болен, ваше высочество, — пробормотал Бюсси.
— Значит, поэтому ты не был у меня эти два дня? — сказал герцог.
— Да, ваше высочество, — подтвердил Бюсси.
Герцог, задетый краткостью ответов, сделал несколько кругов по комнате, разглядывая выступавшие из мрака скульптуры и щупая обивку.
— Ты неплохо устроился, Бюсси, по крайней мере, на мой взгляд, — заметил он.
Бюсси не отвечал.
— Господа, — обратился герцог к своей свите, — обождите меня в соседней комнате. Решительно, мой бедный Бюсси серьезно болен. Почему же не позвали Мирона? Лекарь короля не может быть слишком хорош для Бюсси.
Один из слуг Бюсси покачал головой, герцог заметил это движение.
— Послушай, Бюсси, у тебя какое-нибудь горе? — спросил он почти заискивающим тоном.
— Не знаю, — ответил граф.
Герцог приблизился к нему, подобный тем отвергаемым влюбленным, которые, по мере того как их отталкивают, становятся все мягче и нежнее.
— Ну что же это такое? Поговори же со мной, наконец, Бюсси! — воскликнул он.
— О чем я могу с вами говорить, ваше высочество?
— Ты сердишься на меня, да? — герцог понизил голос.
— Сержусь? За что? К тому же на принцев не сердятся — какой в этом прок?
Герцог замолчал.
— Однако, — продолжал Бюсси, — мы даром теряем время на всякие околичности. Перейдемте к делу, ваше высочество.
Герцог посмотрел на Бюсси.
— Я вам нужен, не так ли? — спросил тот с жесткой прямотой.
— Господин де Бюсси!
— Э! Конечно же, я вам нужен. Думаете, я поверил, что вы пришли навестить меня из дружбы? Нет, клянусь Богом, нет! Ведь вы никого не любите.
— О! Бюсси! Как ты можешь говорить мне такое!
— Хорошо, покончим с этим. Я слушаю вас, ваше высочество. Что вам нужно? Если ты принадлежишь принцу и этот принц притворяется до такой степени, что называет тебя “мой друг”, то, очевидно, надо быть ему благодарным за это притворство и пожертвовать ему всем, даже жизнью! Говорите!
Герцог покраснел, но было темно, и никто не увидел его смущения.
— Мне ничего от тебя не нужно, Бюсси, — сказал он, — и напрасно ты думаешь, что я пришел с каким-то расчетом! Я просто хотел взять тебя с собой прогуляться немного по городу. Ведь погода такая чудесная! И весь Париж взволнован тем, что нынче вечером будут записывать в члены Лиги.
Бюсси поглядел на герцога.
— Разве у вас нет Орильи? — спросил он.
— Какой-то лютнист!
— О! Ваше высочество! Вы забываете про остальные его таланты. Мне казалось, что он выполняет у вас и другие обязанности. Да и помимо Орильи у вас есть еще десяток или дюжина дворян: я слышу их шаги в моей прихожей.
Портьера на дверях стала медленно отодвигаться.
— Кто там? — высокомерно спросил герцог. — Кто смеет без предупреждения входить в комнату, где нахожусь я?
— Это я, Реми, — ответил Одуэн и уверенно, не проявляя ни малейших признаков смущения, вошел в комнату.
— Что это еще за Реми? — спросил герцог.
— Реми, ваше высочество, — ответил молодой человек, — лекарь.
— Реми больше чем лекарь, ваше высочество, — добавил Бюсси, — он мой друг.
— А! — произнес задетый этими словами герцог.
— Ты слышал желание его высочества? — спросил Бюсси, готовый встать с постели.
— Да, чтобы вы сопровождали его высочество, но…
— Но что? — сказал герцог.
— Но вы, господин граф, не будете сопровождать его высочество, — продолжал Одуэн.
— Это еще почему? — с вызовом спросил Франсуа.
— Потому, что на улице слишком холодно.
— Слишком холодно? — переспросил герцог, пораженный тем, что ему возражают.
— Да, слишком холодно. И поэтому я, отвечающий за здоровье господина де Бюсси перед его друзьями и особенно перед самим собой, запрещаю ему выходить.
Несмотря на эти слова, Бюсси все же поднялся на постели, но Реми взял его руку и многозначительно пожал ее.
— Прекрасно, — сказал герцог. — Если прогулка столь опасна для вашего здоровья, оставайтесь.
И Франсуа в крайнем раздражении сделал два шага к двери.
Бюсси не шевельнулся.
Герцог снова возвратился к кровати.
— Так, значит, решено — ты не хочешь рисковать?
— Вы же видите, ваше высочество, — ответил Бюсси, — мой лекарь запрещает мне.
— Тебе следовало бы позвать Мирона: это опытный врач.
— Ваше высочество, я предпочитаю врача-друга врачу-ученому, — возразил Бюсси.
— В таком случае прощай.
— Прощайте, ваше высочество.
И герцог удалился.
Как только он покинул дворец Бюсси, Реми, провожавший его взглядом до самого выхода, бросился к больному.
— А теперь, сударь, вставайте, пожалуйста, и как можно скорее.
— Зачем?
— Чтобы отправиться на прогулку со мной. В комнате слишком жарко.
— Но ты только что говорил герцогу, что на улице слишком холодно.
— С тех пор как он ушел, погода переменилась.
— Значит?.. — сказал, приподнимаясь, заинтересованный Бюсси.
— Значит, теперь, — ответил Одуэн, — я убежден, что свежий воздух пойдет вам на пользу.
— Ничего не понимаю, — сказал Бюсси.
— А разве вы понимаете что-нибудь в микстурах, которые я вам даю? Тем не менее вы их проглатываете. Ну, живей! Поднимайтесь! Прогулка с герцогом Анжуйским была бы опасна; с вашим лекарем она будет целительной. Это я вам говорю. Может быть, вы мне больше не доверяете? В таком случае, откажитесь от моих услуг.
— Ну что же, пойдем, раз ты этого хочешь, — сказал Бюсси.
— Так надо.
Бледный и дрожащий Бюсси встал на ноги.
— Интересная бледность, красивый больной! — заметил Реми.
— Но куда мы пойдем?
— В один квартал, где я как раз сегодня сделал анализ воздуха.
— И этот воздух?..
— Целителен для вашего недуга, ваше сиятельство.
Бюсси оделся.
— Шляпу и шпагу! — приказал он.
И он нахлобучил первую и пристегнул вторую.
Затем вышел на улицу вместе с Реми.
III
ЭТИМОЛОГИЯ УЛИЦЫ ЖЮСЬЕН
Реми взял своего пациента под руку, свернул налево, на улицу Кокийер, и шел по ней до крепостного вала.
— Странно, — сказал Бюсси, — ты ведешь меня к болотам Гранж-Бательер. Это там-то, по-твоему, целительный воздух?
— Ах, сударь, — ответил Реми, — чуточку терпения. Сейчас мы пройдем мимо улицы Пажевен, оставим справа от нас улицу Бренез и выйдем на Монмартр; вы увидите, что это за прелестная улица.
— Ты полагаешь, я ее не знаю?
— Ну что ж, если вы ее знаете, тем лучше! Мне не надо будет тратить время на то, чтобы знакомить вас с ее красотами, и я без промедления отведу вас на одну премилую маленькую улочку. Идемте, идемте, больше я не скажу ни слова.
И в самом деле, после того как Монмартрские ворота остались слева и они прошли по улице около двухсот шагов, Реми свернул направо.
— Да ты меня дурачишь, Реми, — воскликнул Бюсси, — мы возвращаемся туда, откуда пришли!
— Это улица Жипсьен или Эжипсьен, как вам будет угодно, народ уже начинает именовать ее улицей Жисьен, а вскорости и вовсе будет называть улицей Жюсьен, потому что так звучит приятней и потому что таков дух языков — чем дальше к югу, тем больше гласных. Вы должны бы знать это, сударь, ведь вы побывали в Польше. Там, у этих забияк, идо сих пор по четыре согласных подряд стоят, и поэтому разговаривают они, словно камни жуют, да при этом еще бранятся. Разве не так?
— Так-то оно так, — сказал Бюсси, — но ведь мы сюда пришли не затем, чтобы изучать филологию. Послушай, скажи мне: куда мы идем?
— Поглядите на эту церквушку, — сказал Реми, не отвечая на вопрос, — какова? Ах, ваше сиятельство, как отлично она расположена: фасадом на улицу, а апсидой — к саду церковного прихода! Бьюсь об заклад, что до сих пор вы ее не замечали!
— Ив самом деле, — отозвался Бюсси, — как-то не замечал.
Бюсси не был единственным знатным господином, который никогда не переступал порог церкви святой Марии Египетской, этого храма, посещаемого только простолюдинами и известного прихожанам также под именем часовни Кокерон.
— Ну что ж, — сказал Реми, — теперь, когда вы знаете, как эта церковь называется, и когда вы вдоволь налюбовались ею снаружи, войдемте, и вы посмотрите на витражи нефа: они достойны этого.
Бюсси посмотрел на Одуэна и увидел на лице молодого человека такую ласковую улыбку, что сразу понял: молодой лекарь привел его в церковь не затем, чтобы показать ему витражи, которые к тому же в вечерних сумерках нельзя было толком и разглядеть, а совсем с другой целью.
Следует заметить, что кое-чем в церкви все же стоило полюбоваться, потому что она была освещена для предстоящей службы: стены ее украшали наивные росписи XVI века; такие фрески еще сохранились в немалом количестве в Италии благодаря ее прекрасному климату, а у нас сырость — с одной стороны и вандализм — с другой стерли со стен эти предания минувших времен, эти свидетельства веры, ныне утраченной. Художник изобразил для короля Франциска I и по его указаниям жизнь святой Марии Египетской, и среди наиболее интересных событий простодушный живописец, великий друг правды если не анатомической, то, по крайней мере, исторической, в самом видном месте часовни поместил тот щекотливый эпизод, когда святая Мария, за отсутствием у нее денег для расчета с лодочником, предлагает ему себя вместо оплаты за перевоз.
Справедливости ради вы вынуждены сказать, что, несмотря на глубочайшее уважение прихожан к обращенной Марии Египетской, многие почтенные женщины округи считали, что художник мог бы поместить этот эпизод где-нибудь в другом месте или хотя бы передать его не столь бесхитростно; при этом они ссылались на то или, вернее сказать, красноречиво умалчивали о том, что некоторые особенности фрески слишком часто привлекают взоры юных приказчиков, которых их хозяева-суконщики приводят в церковь по воскресеньям и на праздники.
Бюсси поглядел на Одуэна. Тот, на мгновение превратившись в юного приказчика, с превеликим вниманием разглядывал эту фреску.
— Ты что, собирался пробудить во мне анакреонтические мысли этой твоей часовней? — спросил Бюсси. — Если это так, то ты ошибся. Надо привести сюда монахов или школьников.
— Боже упаси, — сказал Одуэн. — Omnis cogitatio libidinosa cerebrum inficit.
— А зачем же тогда?..
— Проклятье! Не глаза же выкалывать себе, прежде чем войти сюда.
— Послушай, ведь ты привел меня не для того, чтобы показать мне колени святой Марии Египетской, а с какой-то другой целью, правда?
— Только для этого, черт возьми! — сказал Реми.
— Ну что ж, тогда пойдем, я на них уже насмотрелся.
— Терпение! Служба кончается. Если мы выйдем сейчас, мы потревожим молящихся.
И Одуэн легонько придержал Бюсси за локоть.
— Ну вот, все и выходят, — сказал Реми. — Поступим и мы так же, если вы не возражаете.
Бюсси с заметно безразличным и рассеянным видом направился к двери.
— Да вы этак и святой воды забудете взять. Где ваша голова, черт возьми? — сказал Одуэн.
Бюсси послушно, как ребенок, пошел к колонне, в которую была вделана чаша с освященной водой.
Одуэн воспользовался этим, чтобы сделать условный знак какой-то женщине, и она при виде жеста молодого лекаря, в свою очередь, направилась к той же самой колонне.
Поэтому в тот момент, когда граф поднес руку к чаше в виде раковины, поддерживаемой двумя египтянами из черного мрамора, другая рука, несколько толстоватая и красноватая, но тем не менее несомненно принадлежавшая женщине, протянулась к его пальцам и смочила их очистительной влагой.
Бюсси не смог удержаться от того, чтобы не перевести свой взгляд с толстой красной руки на лицо женщины; в то же мгновение он внезапно отступил на шаг и побледнел — во владелице этой руки он признал Гертруду, полускрытую черным шерстяным покрывалом.
Он застыл с вытянутой рукой, забыв перекреститься, а Гертруда, поклонившись ему, прошла дальше, и ее высокий силуэт обрисовался в портике маленькой церкви.
В двух шагах позади Гертруды, чьи мощные локти раздвигали толпу, шла женщина, тщательно укутанная в шелковую накидку; изящные и юные очертания ее хрупкого стана, прелестные ножки тут же заставили Бюсси подумать, что во всем мире нет другого такого стана, других таких ножек, другого такого облика.
Реми не пришлось ничего ему говорить, молодой лекарь только посмотрел на графа. Теперь Бюсси понимал, почему Одуэн привел его на улицу святой Марии Египетской и заставил войти в эту церковь.
Бюсси последовал за женщиной, Одуэн последовал за Бюсси.
Эта процессия из четырех человек, идущих друг за другом ровным шагом, могла бы показаться забавной, если бы грустный вид и бледность двоих из них не выдавали их жестоких страданий.
Гертруда, продолжавшая идти впереди, свернула за угол, на улицу Монмартр, прошла по ней несколько шагов и потом вдруг нырнула направо — в тупик, куда выходила какая-то калитка.
Бюсси заколебался.
— Вы что же, господин граф, — сказал Реми, — хотите, чтобы я наступил вам на пятки?
Бюсси двинулся вперед.
Гертруда, все еще возглавлявшая шествие, достала из кармана ключ, открыла калитку и пропустила вперед свою госпожу, которая так и не повернула головы.
Одуэн, шепнув несколько слов горничной, посторонился и дал дорогу Бюсси, затем вошел сам вместе с Гертрудой. Калитка затворилась, и переулок опустел.
Было половина восьмого вечера. Уже наступил май, и в потеплевшем воздухе чувствовалось первое дуновение весны. Из своих лопнувших темниц появлялись на свет молодые листья Бюсси огляделся: он стоял посреди маленького, в пятьдесят квадратных футов, садика, обнесенного очень высокой стеной, увитой плющом и диким виноградом. Они выбрасывали новые побеги, отчего со стены время от времени осыпалась маленькими кусочками штукатурка, и насыщали ветер тем терпким и сильным ароматом, который вечерняя прохлада извлекает из их листьев.
Длинные левкои, радостно вырываясь из расщелин старой церковной стены, раскрывали свои бутоны, красные, как чистая, без примеси, медь.
И, наконец, первая сирень, распустившаяся поутру на солнце, туманила своими нежными испарениями все еще смятенный рассудок молодого графа, спрашивавшего себя, не обязан ли он — всего лишь час тому назад такой слабый, одинокий, всеми покинутый, — не обязан ли он этими ароматами, теплом, жизнью одному лишь присутствию столь нежно любимой женщины?
Под аркой из ветвей жасмина и ломоноса, на небольшой деревянной скамье у церковной стены, сидела, склонив голову, Диана. Руки ее были бессильно опущены. Молодая женщина бессознательно обрывала лепестки левкоя и разбрасывала по песку.
В эту самую минуту на каштане завел свою длинную и грустную песню соловей, то и дело украшая ее руладами, взрывающимися, словно ракеты фейерверка.
Бюсси оказался наедине с госпожой де Монсоро, так как Гертруда и Реми держались в отдалении. Он подошел к ней; Диана подняла голову.
— Господин граф, — сказала она робким голосом, — всякие хитрости были бы недостойны нас: наша встреча в церкви святой Марии Египетской не случайность.
— Нет, сударыня, — ответил Бюсси, — это Одуэн привел меня туда, не сказав, с какой целью, клянусь, я не знал…
— Вы меня не поняли, сударь, — сказала Диана грустно. — Да, я знаю, что это господин Реми привел вас в церковь, и, возможно, даже силой?
— Вовсе не силой, сударыня, — возразил Бюсси. — Я не знал, кого там увижу.
— Вот безжалостный ответ, господин граф, — прошептала Диана, покачав головой и поднимая на Бюсси влажные глаза. — Не хотите ли вы сказать, что, если бы вам был известен замысел Реми, вы не последовали бы за ним?
— О, сударыня!…
— Что ж, это естественно, это справедливо, сударь. Вы оказали мне неоценимую услугу, а я вас до сих пор не поблагодарила за ваш рыцарский поступок. Простите меня и примите мою глубочайшую признательность.
— Сударыня…
Бюсси остановился. Он был настолько ошеломлен, что не находил ни мыслей, ни слов.
— Ноя хотела доказать вам, — продолжала, воодушевляясь, Диана, — что я не отношусь к числу неблагодарных женщин с забывчивым сердцем. Это я попросила господина Реми оказать мне честь свидания с вами, я указала место встречи. Простите, если я вызвала ваше неудовольствие.
Бюсси прижал руку к сердцу.
— Сударыня! Как вы можете так думать?
Мысли в голове этого несчастного с разбитым сердцем стали понемногу проясняться. Ему казалось, что легкий вечерний ветерок, доносящий до него столь сладостные ароматы и столь нежные слова, в то же время рассеивает облако, застилавшее ему глаза.
— Я знаю, — продолжала Диана, которая находилась в более выгодном положении, ибо давно уже готовилась к этой встрече, — я понимаю, как тяжело было вам выполнить мое поручение. Мне хорошо известна ваша деликатность. Я знаю вас и ценю, поверьте мне. Так судите же сами, сколько я должна была выстрадать при мысли, что вы станете неверно думать о чувствах, таящихся в моем сердце.
— Сударыня, — сказал Бюсси, — вот уже три дня, как я болен.
— Да, я знаю, — ответила Диана, заливаясь краской, выдавшей, как близко к сердцу приняла она эту болезнь, — и я страдала не меньше вашего, потому что господин Реми — конечно, он меня обманывал, — господин Реми уверял…
— … что причина моих страданий — ваша забывчивость? О! Это прав да.
— Значит, я должна была поступить так, как поступила, граф, — продолжала Диана. — Я вас вижу, я вас благодарю за ваши любезные заботы обо мне и клянусь вам в вечной признательности… поверьте, что я говорю это от всей души.
Бюсси печально покачал головой и ничего не ответил.
— Вы сомневаетесь в моих словах? — спросила госпожа де Монсоро.
— Сударыня, — сказал Бюсси, — каждый, питающий расположение к кому-либо, выражает его как умеет: в день вашего представления ко двору вы знали, что я нахожусь во дворце, стою перед вами, вы не могли не чувствовать моего взгляда, который я не отводил от вас, но вы даже глаз на меня не подняли, не дали мне понять ни словом, ни жестом, ни знаком, что вы меня заметили… Впрочем, я должно быть, не прав, сударыня, возможно, вы меня не узнали, ведь мы виделись всего дважды.
Диана ответила на это взглядом, исполненным грустного упрека и поразившим Бюсси в самое сердце.
— Простите, сударыня, простите меня, — воскликнул он, — вы так непохожи на всех остальных женщин и между тем поступаете так, как самые обычные из них! Этот брак!
— Разве вы не знаете, что меня к нему принудили?
— Знаю, но вы с легкостью могли его расторгнуть.
— Напротив, это было совершенно невозможно.
— Но разве ничто не подсказывало вам, что рядом с вами находится преданный вам человек?
Диана опустила глаза.
— Именно это и пугало меня больше всего, — сказала она.
— Вот из каких соображений вы пожертвовали мною? Так представьте теперь, во что превратилась моя жизнь с тех пор, как вы принадлежите другому.
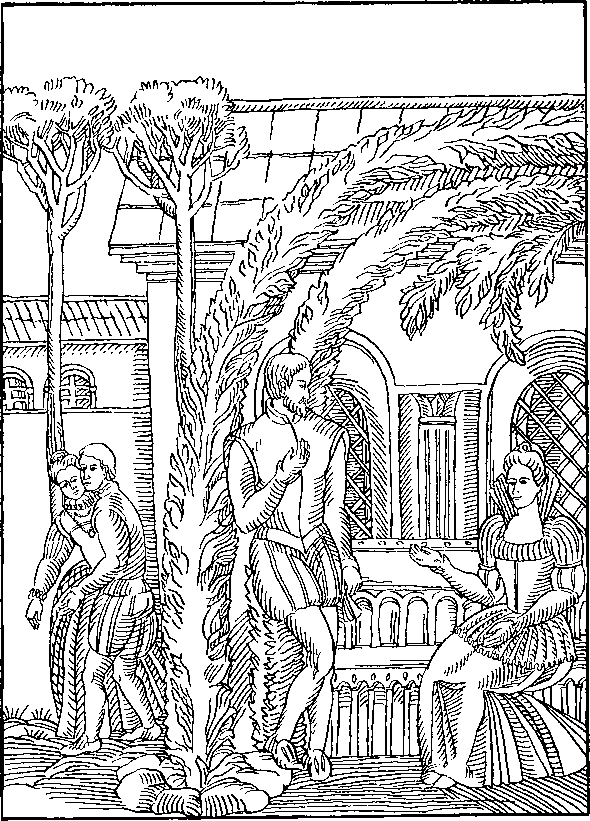
— Сударь, — с достоинством ответила графиня, — женщина не может, не запятнав при этом свою честь, сменить фамилию, пока живы двое мужчин, носящие один — ту фамилию, которую она оставила, другой — ту, что она приняла.
— Как бы то ни было, вы предпочли мне Монсоро и поэтому сохранили его фамилию.
— Вы так полагаете? — прошептала Диана. — Тем лучше.
И глаза ее наполнились слезами.
Бюсси, заметив, что она опустила голову, в волнении шагнул к ней.
— Ну что ж, — сказал он, — вот я и стал опять тем, кем был, сударыня: чужим для вас человеком.
— Увы! — вздохнула Диана.
— Ваше молчание говорит об этом лучше слов.
— Я могу ответить только молчанием.
— Ваше молчание, сударыня, — это продолжение приема, оказанного мне вами в Лувре. Там вы меня не замечали, здесь вы не желаете со мной разговаривать.
— В Лувре рядом со мною был господин де Монсоро. Он смотрел на меня. Он ревнует.
— Ревнует! Вот как! Чего же ему еще надо, Бог мой?! Кому он еще может завидовать, когда все завидуют его счастью?
— А я говорю вам, сударь, что он ревнует. Он заметил, что уже несколько дней кто-то бродит возле нового дома, в который мы переселились.
— Значит, вы покинули домик на улице Сент-Антуан?
— Как, — непроизвольно воскликнула Диана, — это были не вы?!
— Сударыня, после того как ваше бракосочетание было оглашено, после того как вы были представлены ко двору, после того вечера в Лувре, наконец, когда вы не удостоили меня взглядом, я нахожусь в постели, меня пожирает лихорадка, я умираю. Теперь вы видите, что ваш супруг не имеет оснований ревновать, во всяком случае ко мне, потому что меня он никак не мог видеть возле вашего дома.
— Что ж, господин граф, если у вас, по вашим словам, было некоторое желание повидать меня, благодарите этого неизвестного мужчину, потому что, зная господина де Монсоро, как я его знаю, я испугалась за вас и решила встретиться с вами и предупредить: не подвергайте себя опасности, граф, не делайте меня еще более несчастной.
— Успокойтесь, сударыня, повторяю вам: то был не я.
— Позвольте мне рассказать вам до конца все, что я хотела. Опасаясь этого человека, которого мы с вами не знаем, но которого, возможно, знает господин де Монсоро, опасаясь этого человека, он требует, чтобы я покинула Париж, и, таким образом, господин граф, — заключила Диана, протягивая Бюсси руку, — сегодняшняя наша встреча, вероятно, будет последней… Завтра я уезжаю в Меридор.
— Вы уезжаете, сударыня? — вскричал Бюсси.
— Это единственный способ успокоить господина де Монсоро, — сказала Диана, — и единственный способ вновь обрести спокойствие. Да и к тому же, что касается меня, я ненавижу Париж, ненавижу свет, двор, Лувр. Я счастлива уединиться с воспоминаниями моей юности. Мне кажется, что, если я вернусь на тропинку моих девичьих лет, на меня, как легкая роса, падет немного былого счастья. Отец едет вместе со мной. Там я встречусь с госпожой и господином де Сен-Люк, они очень скучают без меня. Прощайте, господин де Бюсси.
Бюсси закрыл лицо руками.
— Значит, — прошептал он, — все для меня кончено.
— Что вы хотите этим сказать?! — воскликнула Диана, приподнимаясь на скамье.
— Я говорю, сударыня, что человек, который отправляет вас в изгнание, человек, который лишает меня единственной оставшейся мне надежды — дышать одним с вами воздухом, видеть вашу тень за занавеской, касаться мимоходом вашего платья и, наконец, боготворить живое существо, а не тень, — я говорю… я говорю, что этот человек — мой смертельный враг и я уничтожу его своими собственными руками, даже если мне суждено при этом погибнуть самому.
— О! Господин граф!
— Презренный! — вскричал Бюсси. — Как! Ему недостаточно того, что вы его жена, вы, самое прекрасное и целомудренное из всех созданий Божьих! Он еще ревнует! Ревнует! Нелепое, ненасытное чудовище! Он готов уничтожить весь мир!
— Успокойтесь, граф, успокойтесь! Быть может, он не так уж и виноват.
— Не так уж и виноват! И вы его защищаете, сударыня?!
— Если бы вы знали! — сказала Диана, пряча лицо в ладонях, словно боясь, что Бюсси сквозь ночную тьму разглядит на нем краску смущения.
— Если бы я знал? — переспросил Бюсси. — Ах, сударыня, я знаю одно: мужу, у которого такая жена, не должно быть дела ни до чего на свете.
— Но что, если вы ошибаетесь, господин граф, — сказала Диана глухим, прерывающимся и страстным голосом, — что, если он не муж мне?
С этими словами молодая женщина коснулась своей холодной рукой пылающих рук Бюсси, вскочила и убежала прочь. Легко, как тень, скользнула она по темным тропинками, схватила под руку Гертруду и, увлекая ее за собой, исчезла, прежде чем Бюсси, опьяненный, обезумевший, сияющий, успел протянуть руки, чтобы удержать ее.
Он вскрикнул и зашатался.
Реми подоспел как раз вовремя, чтобы подхватить его и усадить на скамью, которую только что покинула Диана.
IV
О ТОМ, КАК Д'ЭПЕРНОНУ РАЗОРВАЛИ КАМЗОЛ, И О ТОМ, КАК ШОМБЕРГА ПОКРАСИЛИ В СИНИЙ ЦВЕТ
В то время как мэтр Ла Юрьер собирал подпись за подписью, в то время как Шико сдавал Горанфло на хранение в “Рог изобилия”, в то время как Бюсси возвращался к жизни в благословенном маленьком саду, полном ароматов, песен и любви, король, удрученный всем, что он увидел в городе, раздраженный проповедями, которые он выслушал в церквах, приведенный в ярость загадочными приветствиями, которыми встречали его брата, герцога Анжуйского, — тот попался ему на глаза на улице Сент-Оноре в сопровождении герцога де Гиза, герцога Майенского и целой толпы дворян, возглавляемой, по всей видимости, господином де Монсоро, — так вот Генрих возвратился в Лувр в обществе Можирона и Келюса.
Он отправился в город, как обычно, с четверкой своих друзей. Но едва они отошли от Лувра, Шомберг ид’Эпернон, заскучавшие от созерцания озабоченного государя, рассудили, что уличная суматоха дает полный простор для поисков удовольствий и приключений. Они воспользовались первой же толчеей на углу улицы Астрюс, чтобы исчезнуть, пока король с другими двумя миньонами продолжал свою прогулку по набережной, замешались в толпу, запрудившую улицу Орлеан.
Не успели молодые люди сделать и сотни шагов, как каждый из них уже нашел себе занятие: д’Эпернон подставил свой сарбакан под ноги бежавшему горожанину, и тот вверх тормашками полетел на землю, а Шомберг сорвал чепец с женщины, которую он поначалу принял за безобразную старуху, но, к счастью, она оказалась молодой и прехорошенькой.
Однако двое друзей выбрали для своих проделок неудачный день. Добрые парижане, обычно весьма покладистые, были охвачены той лихорадкой непокорства, что время от времени столь внезапно вспыхивает в стенах столиц. Сбитый с ног буржуа вскочил и закричал: “Бей нечестивцев!”. Это был один из “ревнителей веры”, его послушались и бросились на д‘Эпернона. Женщина, с которой сорвали чепец, крикнула: “Бей миньонов!”, что было уже куда опаснее, а ее муж, красильщик, напустил на Шомберга своих подмастерьев.
Шомберг был храбр. Он остановился, положил руку на эфес шпаги и прикрикнул на них.
Д‘Эпернон был осторожен — он удрал.
Король не беспокоился об отставших от него миньонах, он прекрасно знал, что они выпутаются из любой истории: один — с помощью своих быстрых ног, другой — с помощью своей крепкой руки; поэтому король продолжал свою прогулку и, завершив ее, возвратился, как мы видели, в Лувр.
Там он прошел в оружейную палату и уселся в большое кресло. Весь дрожа от возбуждения, Генрих искал только предлог, чтобы дать волю своему гневу.
Можирон играл с Нарциссом, огромной борзой короля.
Келюс сидел, скорчившись, на подушке, подпирая кулаками щеки, и смотрел на Генриха.
— Они действуют, они действуют, — говорил ему король. — Их заговор ширится. Они то как тигры, то как змеи: то бросаются на тебя, то подползают к тебе незаметно!
— Э, государь, — сказал Келюс, — что за королевство без заговоров? Чем же — черт подери! — будут, по-вашему, заниматься сыновья короля, братья короля, кузены короля, если они перестанут устраивать заговоры?
— Нет, Келюс, в самом деле, когда я слышу ваши нелепые афоризмы и вижу ваши толстые, надутые щеки, мне начинает казаться, что вы разбираетесь в политике не больше, чем балаганные шуты.
Келюс повернулся вместе с подушкой и непочтительно обратил к королю свою спину.
— Скажи, Можирон, — продолжал Генрих, — прав я или нет, черт побери, и надо ли меня убаюкивать глупыми остротами и затасканными истинами, словно я такой король, как все короли, или торговец шерстью, который боится потерять своего любимого кота?
— Ах, — ваше величество, — сказал Можирон, всегда и во всем придерживавшийся одного мнения с Келюсом, — коли вы не такой король, как остальные, докажите это делом, поступайте как великий король. Какого дьявола! Вот перед вами Нарцисс, это хорошая собака, прекрасный зверь, но попробуйте дернуть его за уши — он зарычит, наступите ему на лапы — он укусит.
— Великолепно, — сказал Генрих, — а этот приравнивает меня к моей собаке.
— Ничего подобного, государь, — ответил Можирон, — и даже совсем напротив. Как вы могли заметить, я ставлю Нарцисса намного выше вас, потому что Нарцисс умеет защитить себя, а ваше величество — нет.
И он тоже повернулся к королю спиной.
— Ну вот я и остался один, — сказал король, — превосходно, продолжайте, мои дорогие друзья, ради которых, как меня упрекают, я пускаю по ветру свое королевство. Покидайте меня, оскорбляйте меня, убивайте меня все разом. Клянусь честью! Меня окружают одни палачи. Ах, Шико, мой бедный Шико, где ты?
— Прекрасно, — сказал Келюс, — только этого нам не хватало. Теперь он взывает к Шико.
— Вполне понятно, — ответил ему Можирон.
И наглец процедил сквозь зубы некую латинскую пословицу, которая переводится на французский следующей аксиомой: “Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты”.
Генрих нахмурил брови, в его больших глазах сверкнула молния страшного гнева, и на сей раз взгляд, брошенный им на зарвавшихся друзей, был воистину королевским.
Но приступ гнева, по-видимому, обессилил короля. Генрих снова откинулся в кресле и стал теребить за уши одного из щенков, сидевших в корзинке.
Тут в передней раздались быстрые шаги, а затем появился д‘Эпернон, без шляпы, без плаща, в разодранном в клочья камзоле.
Келюс и Можирон обернулись к вновь пришедшему, а Нарцисс с лаем кинулся на него, словно он узнавал любимцев короля только по их платью.
— Господи Иисусе! — воскликнул Генрих. — что с тобой?
— Государь, — сказал д‘Эпернон, — поглядите на меня: вот как обходятся с друзьями вашего величества.
— Да кто же с тобой так обошелся? — спросил король.
— Ваш народ, черт возьми! Вернее говоря, народ герцога Анжуйского. Этот народ кричал: “Да здравствует Лига! Да здравствует месса! Да здравствует Гиз! Да здравствует Франсуа!” В общем, да здравствуют все, кроме короля.
— А что ты ему сделал, этому народу, почему он с тобой так обошелся?
— Я? Ровным счетом ничего. Что может сделать народу один человек? Народ признал во мне друга вашего величества, и этого было достаточно.
— Но Шомберг!
— Что Шомберг?
— Шомберг не пришел тебе на помощь? Шомберг не защитил тебя?
— Разрази меня гром, у Шомберга и без меня забот хватало.
— Что это значит?
— А то, что я оставил его в руках красильщика, с жены которого он сорвал чепец и который собирался, вместе с оравой своих подмастерьев, задать ему жару.
— Проклятье! — вскричал король. — Где же ты его оставил, моего бедного Шомберга? — добавил он, поднимаясь. — Я сам отправлюсь ему на помощь, быть может, кто-нибудь и скажет, — он взглянул в сторону Можирона и К ел юса, — что мои друзья покинули меня, но, по крайней мере, никто не скажет, что я покинул своих друзей.
— Благодарю, государь, — произнес голос позади Генриха, — я здесь, Gott verdamme mich, я справился с ними сам, хотя и не без труда.
— О! Шомберг! Это голос Шомберга! — вскричали трое миньонов. — Но где же ты, черт возьми?
— Черт подери! Я там, где вы меня видите, — произнес тот же голос.
И тут все заметили, что из темноты кабинета к ним приближается не человек, нет — тень человека.
— Шомберг! — воскликнул король. — Откуда ты явился, откуда ты вышел и почему ты такого цвета?
И действительно, Шомберг с головы до пят, не исключая ни одной части его тела и ни одной детали его костюма, весь был самого прекрасного ярко-синего цвета, какой только можно себе представить.
— Der Teufel! — закричал он. — Будь они прокляты, эти мерзавцы! Теперь вам понятно, почему весь этот народ бежал за мной.
— Нов чем же дело? — спросил Генрих. — Если бы ты был желтый, это можно было бы объяснить твоим испугом, но синий!
— Дело в том, что эти негодяи окунули меня в чан. Я думал, что это всего лишь чан с водой, а это был чан с индиго!
— Черт возьми! — засмеялся Келюс. — Они сами себя наказали: индиго — штука дорогая, а ты впитал краски не меньше чем на двадцать экю.
— Смейся, смейся, хотел бы я видеть тебя на моем месте.
— И ты никого не выпотрошил? — спросил Можирон.
— Знаю одно: мой кинжал остался где-то там — вошел по самую рукоятку в какой-то мешок, набитый мясом. Но все свершилось за одну секунду: меня схватили, подняли, понесли, окунули в чан и чуть не утопили.
— А как ты от них вырвался?
— У меня достало смелости решиться на трусливый поступок, государь.
— Что же ты сделал?
— Крикнул: “Да здравствует Лига!”
— Совсем как я, — сказал д‘Эпернон, — только меня заставили добавить к этому: “Да здравствует герцог Анжуйский!”
— И я тоже, — сказал Шомберг, кусая пальцы от ярости, — я тоже так крикнул. Но это еще не все.
— Как! — воскликнул король. — Они заставили тебя крикнуть еще что-нибудь, мой бедный Шомберг?
— Нет, они не заставляли меня больше кричать, с меня и так, слава Богу, было довольно, но в тот момент, когда я кричал: “Да здравствует герцог Анжуйский!”…
— Ну-ну!..
— Угадайте, кто прошел мимо в тот момент?
— Ну разве я могу угадать?
— Бюсси, проклятый Бюсси, и он слышал, как я славил его господина!
— По всей вероятности, он не понял, что происходит, — сказал К ел юс.
— Черт возьми, как трудно было сообразить, что происходит! Я сидел в чане, с кинжалом у горла.
— И он не пришел тебе на выручку? — удивился Можирон. — Однако это долг дворянина по отношению к другому дворянину.
— У него был такой мечтательный вид, словно ему только крыльев не хватает, чтобы воспарить в небо.
— Впрочем, — сказал Можирон, — он мог тебя и не узнать.
— Прекрасное оправдание!
— Ты уже был синий?
— А! Ты прав! — сказал Шомберг.
— Тогда его поведение простительно, — заметил Генрих, — потому что, по правде говоря, мой бедный Шомберг, я и сам тебя не узнал.
— Все равно, — возразил Шомберг, в котором заговорило его немецкое упрямство, — мы с ним еще встретимся где-нибудь в другом месте, а не на углу улицы Кокийер, и в такой день, когда я не буду барахтаться в чане с индиго.
— О! Что касается меня, — сказал д‘Эпернон, — то я обижен не на слугу, а на хозяина, и хотел бы встретиться не с Бюсси, а с его высочеством герцогом Анжуйским.
— Да, да! — воскликнул Шомберг. — Его высочество герцог Анжуйский хочет убить нас смехом, в ожидании пока не сможет заколоть нас кинжалом.
— Это герцогу Анжуйскому пели хвалы на улицах. Вы сами их слышали, государь, — сказали в один голос Келюс и Можирон.
— Что и говорить, сегодня хозяин Парижа — герцог, а не король. Попробуйте выйти из Лувра, и вы увидите, отнесутся ли к вам с большим уважением, чем к нам, — сказал д’Эпернон Генриху.
— Ах, брат мой, брат мой! — пробормотал с угрозой Генрих.
— Э, государь, вы еще не раз скажете то, что сказали сейчас: “Ах, брат мой, брат мой!”, но никаких мер против этого брата не примете, — заметил Шомберг. — И, однако, заявляю вам: для меня совершенно ясно, что ваш брат стоит во главе какого-то заговора.
— А, дьявольщина! — воскликнул Генрих. — То же самое я говорил только что этим господам, но они в ответ пожали плечами и повернулись ко мне спиной.
— Государь, — сказал Можирон, — мы пожали плечами и повернулись к вам спиной не потому, что вы заявили о существовании заговора, а потому, что мы не заметили у вас желания расправиться с ним.
— А теперь, — подхватил Келюс, — мы поворачиваемся к вам лицом, чтобы снова сказать вам: “Государь, спасите нас или, вернее, спасите себя, ибо, стоит погибнуть нам, и для вас тоже наступит конец. Завтра в Лувр явится господин де Гиз, завтра он потребует, чтобы вы назначили главу Лиги, завтра вы назовете имя герцога Анжуйского, как вы обещали сделать, и, лишь только герцог Анжуйский станет во главе Лиги, то есть во главе ста тысяч парижан, распаленных бесчинствами сегодняшней ночи, вы окажетесь у него в руках”.
— Так, так, — сказал король, — а в случае если я приму решение, вы готовы меня поддержать?
— Да, государь, — в один голос ответили молодые люди.
— Но сначала, государь, — заметил д’Эпернон, — позвольте мне надеть другую шляпу, другой камзол и другой плащ.
— Иди в мою гардеробную, д’Эпернон, и мой камердинер даст тебе все необходимое: мы ведь с тобой одного роста.
— А мне, государь, позвольте сначала помыться.
— Иди в мою ванную, Шомберг, и мой банщик позаботится о тебе.
— Ваше величество, мы можем надеяться, что оскорбление не останется неотомщенным? — спросил Шомберг.
Генрих поднял руку, призывая к молчанию, и, опустив голову на грудь, по-видимому, глубоко задумался. Через некоторое время он сказал:
— Келюс, узнайте, возвратился ли герцог Анжуйский в Лувр.
Келюс вышел. Д’Эпернон и Шомберг остались вместе со всеми ждать его возвращения — настолько их рвение было подогрето надвигающейся опасностью. Самая большая выдержка нужна матросам не во время бури, а во время затишья перед бурей.
— Ваше величество, — спросил Можирон, — значит, решились?..
— Увидите, — ответил король.
Появился Келюс.
— Господин герцог еще не возвращался, — сообщил он.
— Хорошо, — ответил король, — Д’Эпернон, ступайте смените ваше платье. Шомберг, ступайте смените ваш цвет. А вы, Келюс, и вы, Можирон, отправляйтесь во двор и не прозевайте, когда вернется мой брат.
— А когда он вернется?.. — спросил Келюс.
— Когда он вернется, прикажите закрыть все ворота. Ступайте!
— Браво, государь! — воскликнул Келюс.
— Ваше величество, — обещал д’Эпернон, — через десять минут я буду здесь.
— А я, государь, не знаю, когда я буду здесь, это зависит от качества краски.
— Возвращайтесь поскорее, вот все, что я могу вам сказать.
— Но вы, ваше величество, остаетесь одни? — спросил Можирон.
— Нет, Можирон, я остаюсь с Богом, у которого буду просить покровительства нашему делу.
— Просите хорошенько, государь, — сказал Келюс, — я уже начинаю подумывать, не столкнулся ли Господь с дьяволом, чтобы погубить всех нас в этом и в том мире.
— Amen!1 — сказал Можирон.
Те двое, что должны были сторожить во дворе, вышли в одну дверь, а те, что должны были привести себя в порядок, — в другую.
Оставшийся в одиночестве король преклонил колени на своей молитвеннной скамеечке.
V
ШИКО ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ СТАНОВИТСЯ КОРОЛЕМ ФРАНЦИИ
Пробило полночь. В это время ворота Лувра обычно закрывались. Но Генрих мудро рассудил, что герцог Анжуйский не преминет провести ночь в Лувре, чтобы оставить меньше пищи для подозрений, которые могли возникнуть у короля после событий, происходивших в Париже этим вечером.
И Генрих приказал не запирать ворота до часу ночи.
В четверть первого к королю поднялся Келюс.
— Государь, — сказал он, — герцог возвратился.
— Что делает Можирон?
— Он хочет убедиться, что герцог не выйдет снова.
— Это сомнительно.
— Значит… — сказал Келюс, жестом показывая королю, что остается только действовать.
— Значит, дадим ему спокойно улечься спать, — сказал Генрих.
— Кто с ним?
1 Аминь! {лат.)
— Господин де Монсоро и его всегдашние дворяне.
— А господин де Бюсси?
— Господина де Бюсси с ним нет.
— Отлично, — сказал король, для которого было большим облегчением узнать, что его брат лишен своей лучшей шпаги.
— Какова будет воля короля? — спросил Келюс.
— Скажите д’Эпернону и Шомбергу, чтобы они поторопились, а господину де Монсоро, что я желаю с ним говорить.
Келюс поклонился и выполнил поручение со всей быстротой, которую сообщают действиям человека чувство ненависти и жажда мщения.
Через пять минут вошли д’Эпернон и Шомберг: один — заново одетый, другой — добела отмытый, только в морщинках на лице сохранился еще голубоватый оттенок; по мнению банщика, исчезнуть совсем он мог лишь после нескольких паровых ванн.
Вслед за двумя миньонами появился господин де Монсоро.
— Господин капитан гвардии вашего величества уведомил меня, что ваше величество оказали мне честь призвать меня к себе, — сказал главный ловчий, кланяясь.
— Да, сударь, — ответил Генрих, — да. Прогуливаясь нынче вечером, я увидел сверкающие звезды и великолепную луну и невольно подумал, что при столь замечательной погоде мы могли бы завтра отменно поохотиться. Сейчас всего лишь полночь, господин граф, отправляйтесь тотчас же в Венсен и распорядитесь выставить для меня лань, а завтра мы ее затравим.
— Но, государь, — сказал Монсоро, — я полагал, что завтра ваше величество удостоит аудиенции его высочество герцога Анжуйского и господина де Гиза, чтобы назначить главу Лиги.
— Ну и что из этого, сударь? — сказал король тем высокомерным тоном, который делал ответ затруднительным.
— Вам… вам может недостать времени.
— Тот, кто умеет правильно распорядиться временем, никогда не ощущает в нем недостатка; именно поэтому я и говорю вам: у вас есть время выехать сегодня ночью, при условии, что вы выедете тотчас же. У вас есть время выставить этой ночью лань, и у вас будет время подготовить команды к завтрашнему дню, к десяти утра. Итак, отправляйтесь, и немедленно! Келюс, Шомберг, прикажите отворить господину де Монсоро ворота Лувра — от моего имени, от имени короля! И от имени короля прикажите запереть их, когда он уедет.
В полном удивлении главный ловчий вышел из комнаты.
— Что это — прихоть короля? — спросил он в передней у миньонов.
— Да, — лаконично ответили они.
Господин де Монсоро понял, что здесь ему ничего не добиться, и умолк.
“Ну и ну! — сказал он себе, бросив взгляд в сторону покоев герцога Анжуйского. — Мне кажется, это не сулит ничего доброго его королевскому высочеству”.
Но у главного ловчего не было никакой возможности предостеречь принца. Справа от него шел Келюс, слева — Шомберг. На мгновение у Монсоро мелькнула мысль, что миньоны получили тайный приказ арестовать его, и, лишь очутившись за пределами Лувра и услышав, как за ним закрылись ворота, он понял неосновательность своих подозрений.
Через десять минут Шомберг и Келюс возвратились к королю.
— А теперь, — сказал Генрих, — ни звука, и отправляйтесь все четверо за мной.
— Куда мы идем, государь? — Спросил, как всегда, осторожный д’Эпернон.
— Тот, кто дойдет, увидит, — ответил король.
— Пошли, — сказали в один голос четверо молодых людей.
Миньоны вооружились шпагами, пристегнули плащи и последовали за королем, а он с фонарем в руке повел их известным нам потайным коридором, по которому ходили, как мы с вами не раз видели, королева-мать и король Карл IX, направляясь к их дочери и сестре, к милой Марго, чьи покои — мы об этом также уже говорили — занимал теперь герцог Анжуйский.
В коридоре дежурил один из камердинеров герцога, но, прежде чем он успел отступить к двери, чтобы предупредить своего господина, Генрих схватил его и, приказав молчать, передал своим спутникам, а те затолкали растерявшегося слугу в одну из комнат и там заперли.
Таким образом, ручку на дверях опочивальни герцога Анжуйского повернул сам король.
Герцог только что лег в постель, весь во власти честолюбивых мечтаний, пробужденных в нем событиями этого вечера. Он слышал, как превозносили его имя и даже не поминали имени короля. Он видел, как парижане расступались перед ним, шествовавшим в сопровождении герцога де Гиза, перед ним и его дворянами, а дворян короля встречали улюлюканьем, насмешками, оскорблениями. Ни разу еще с начала его жизненного пути, отмеченного тайными происками, трусливыми заговорами и скрытыми подкопами, не выпадали ему на долю такая популярность и как ее следствие — такие надеждь.
Он положил на стол переданное ему господином де Монсоро письмо герцога де Гиза, где ему советовали обязательно присутствовать завтра при утреннем туалете короля.
Герцог Анжуйский не нуждался в подобных советах — уж он-то не собирался упускать час своего торжества.
Но каково же было изумление Франсуа, когда он увидел, что дверь из потайного коридора распахнулась, и в какой ужас он пришел, обнаружив, что ее открыла рука короля!
Генрих сделал своим спутникам знак остаться на пороге и, серьезный, нахмуренный, подошел к кровати брата, не произнося ни слова.
— Государь, — залепетал герцог, — честь, которой вы удостаиваете меня, столь неожиданна…
…что она пугает вас, не правда ли? — сказал король. — Понимаю. Нет, нет, брат мой, не вставайте, останьтесь в постели.
— Но, государь, все же… позвольте мне, — сказал герцог Анжуйский, весь дрожа и придвигая к себе письмо герцога де Гиза, которое он только что кончил читать.
— Вы читали? — спросил король.
— Да, ваше величество.
— Очевидно, то, что вы читали, весьма увлекательно, раз вы еще не спите в столь поздний час.
— О государь, — ответил герцог с вымученной улыбкой, — ничего заслуживающего внимания: вечерняя корреспонденция.
— Разумеется, — сказал Генрих, — понятно: вечерняя корреспонденция — корреспонденция Венеры. Впрочем, нет, я ошибся, письма, которые посылают с Иридой или с Меркурием, не запечатывают такой большой печатью.
Герцог спрятал письмо.
— А он скромник, наш милый Франсуа, — сказал король со смехом, который слишком напоминал скрежет зубов, чтобы не испугать его брата.
Однако герцог сделал над собой усилие и попытался принять более уверенный вид.
— Ваше величество, вы желаете сказать мне что-нибудь наедине? — спросил герцог. Он заметил, как четверо дворян у дверей зашевелились, и понял, что они слушают и наслаждаются происходящим.
— Все, что я имею сказать вам наедине, — ответил король, делая ударение на последнем слове, ибо разговор с королем с глазу на глаз был привилегией, предоставленной братьям короля церемониалом французского двора, — все это вам, сударь, предстоит сегодня выслушать от меня при свидетелях. Поэтому, господа, слушайте хорошенько, король вам это разрешает.
Герцог поднял голову.
— Государь, — сказал он, глядя на короля тем ненавидящим и полным яда взглядом, который человек перенял у змеи, — прежде чем оскорблять человека моего положения, вы должны были бы отказать мне в гостеприимстве в Лувре;
в моем дворце я, по крайней мере, мог бы вам ответить подобающим образом.
— Поистине, — сказал Генрих с мрачной иронией, — вы забываете, что всюду, где бы вы ни находились, вы остаетесь моим подданным и что мои подданные всегда находятся в моей власти, где бы они ни были, потому что, слава Богу, я король!.. Король этой земли!..
— Государь, — воскликнул Франсуа, — в Лувре я у своей матери!
— А ваша мать — у меня, — ответил Генрих. — Однако ближе к делу, сударь: дайте мне это письмо.
— Какое?
— То, что вы читали, черт возьми, то, что лежало раскрытым на вашем ночном столике, то, что вы спрятали, увидев меня.
— Государь, подумайте! — сказал герцог.
— О чем? — спросил король.
— О том, что ваше поведение недостойно дворянина: такое требование может предъявлять лишь полицейский.
Король смертельно побледнел.
— Письмо, сударь! — повторил он.
— Письмо женщины, государь, подумайте! — воскликнул Франсуа.
— Есть женские письма, которые обязательно следует читать и очень опасно оставлять непрочитанными: пример — письма нашей матушки.
— Брат!
— Письмо, сударь, — вскричал король, топнув ногой, — или я вызову четверку швейцарцев, и они вырвут его у вас!
Герцог соскочил с кровати, зажав скомканное письмо в руках, с явным намерением добежать до камина и бросить его в огонь.
— И вы поступите так с вашим братом?!
Генрих отгадал его намерение и преградил путь к камину.
— Нес моим братом, — сказал он, — а с моим смертельным врагом! Не с моим братом, а с герцогом Анжуйским, который весь вечер разъезжал по Парижу за хвостом коня господина де Гиза! С братом, который пытается скрыть от меня письмо от одного из своих сообщников — господ лотарингских принцев.
— На этот раз, — сказал герцог, — ваша полиция поработала плохо.
— Говорю вам, что я видел на печати трех знаменитых дроздов Лотарингии, которые намереваются склевать лилии Франции. Дайте письмо, дайте мне его, или, черт побери…
Генрих сделал шаг к герцогу и опустил руку ему на плечо.
Как только Франсуа ощутил тяжесть руки короля, как только, скосив глаза, увидел угрожающие позы четырех миньонов, уже готовых обнажить шпаги, он упал на колени и, привалившись к своей кровати, закричал:
— Ко мне! На помощь! Мой брат хочет убить меня!
Эти слова, исполненные глубокого ужаса, который делал их убедительными, произвели впечатление на короля и умерили его гнев как раз потому, что они преувеличивали глубину этого гнева. Король подумал, что Франсуа и впрямь мог испугаться убийства и что это было бы братоубийством. У него на мгновение закружилась голова при мысли о том, что в его семье, над которой, как над всеми семьями угасающих родов, тяготеет проклятие: братья обречены на братоубийство.
— Нет, — сказал он, — вы ошибаетесь, брат: король не угрожает вам тем, чего вы страшитесь. Вы попытались бороться и проиграли, так признайте же себя побежденным. Вы ведь знали, что господин здесь — король, а если и не знали, то теперь убедились в этом. Что ж, скажите об этом вслух, и не шепотом, а во весь голос.
— О! Я говорю это, брат мой, я объявляю об этом! — вскричал герцог.
— Замечательно. Тоща дайте мне письмо… потому что король приказывает вам отдать ему письмо.
Герцог Анжуйский уронил бумагу на пол.
Король подобрал ее, сложил и, не читая, сунул в свой кошель для раздачи милостыни.
— Это все, государь? — спросил герцог, искоса глядя на короля.
— Нет, сударь, — сказал Генрих, — из-за сегодняшних беспорядков, к счастью, они не имели пагубных последствий, извольте — окажите мне такую милость! — посидеть в этой комнате до тех пор, пока мои подозрения на ваш счет не рассеются окончательно. Помещение вам знакомо, оно удобно и не слишком похоже на тюрьму. У вас будет приятное общество, во всяком случае, по ту сторону двери, потому что сегодня ночью вас будут сторожить эти четверо господ. Завтра утром их сменят швейцарцы.
— А мои друзья? Смогу я увидеть моих друзей?
— Кого вы называете своими друзьями?
— Господина де Монсоро, например, господина де Рибейрака, господина д’Антрагэ, господина де Бюсси.
— Ну, конечно, — сказал король, — еще и этого!
— Разве он имел несчастье чем-нибудь не угодить вашему величеству?
— Да, — сказал король.
— Когда же?
— Всегда, и сегодня вечером в частности.
— Сегодня вечером? Что же он сделал сегодня вечером?
— Он нанес мне оскорбление на улицах Парижа.
— Вам, государь?
— Да, мне или преданным мне людям, что одно и то же.
— Бюсси нанес оскорбление кому-то на улицах Парижа нынче вечером? Вас ввели в заблуждение, государь.
— Я знаю, что говорю.
— Государь, — воскликнул герцог с торжествующим видом, — господин де Бюсси уже два дня не выходит из своего дворца! Он лежит дома больной, его бьет лихорадка.
Король повернулся к Шомбергу.
— Если его и била лихорадка, — сказал молодой человек, — то, уж во всяком случае, не у него дома, а на улице Кокийер.
— Кто вам сказал, — спросил герцог Анжуйский, приподнимаясь, — что Бюсси был на улице Кокийер?
— Я сам его видел.
— Вы видели Бюсси на улице?
— Да, Бюсси, свежего, бодрого, веселого, похожего на самого счастливого человека в мире, и в сопровождении его всегдашнего пособника, этого Реми, уж не знаю — оруженосца его или лекаря.
— В таком случае, я больше ничего не понимаю, — сказал пораженный герцог. — Я видел Бюсси сегодня, он лежал под одеялами. Должно быть, он меня обманул.
— Хорошо, — сказал король, — когда все выяснится, господин де Бюсси будет наказан, как и другие, и вместе с другими.
Герцог не пытался больше вступаться за своего приближенного, он подумал, что, предоставив королю возможность излить свой гнев на Бюсси, тем самым отвратит его от себя.
— Если господин де Бюсси поступил так, — сказал Франсуа, — если он, после того как отказался выйти из дому со мной, вышел один, значит, у него, несомненно, были какие-то намерения, в которых он не мог признаться мне, зная мою преданность вашему величеству.
— Вы слышите, господа, что утверждает мой брат? — спросил король. — Он утверждает, что Бюсси делал все без его ведома.
— Тем лучше, — сказал Шомберг.
— Почему тем лучше?
— Потому что тогда вы, ваше величество, позволите нам поступить по нашему усмотрению.
— Хорошо, хорошо, там видно будет, — сказал Генрих. — Господа, я препоручаю моего бра та вашим заботам: оказывайте ему в течение этой ночи, во время которой вы будете удостоены чести охранять его, все почести, подобающие принцу крови, первому в королевстве человеку после меня.
— О государь, — сказал Келюс, и от его взгляда герцога бросило в дрожь, — будьте спокойны, мы знаем, скольким обязаны его высочеству.
— Прекрасно. Прощайте, господа, — сказал Генрих.
— Государь, — воскликнул герцог, которому отсутствие короля представилось еще более пугающим, чем его присутствие, — неужели я и в самом деле арестован?! Неужели мои друзья не смогут навещать меня? Неужели меня заточат в этой комнате?!
Тут он вспомнил о завтрашнем дне, о дне, когда ему так необходимо быть рядом с герцогом де Гизом.
— Государь, — продолжал Франсуа, заметив, что король готов смягчиться, — позвольте мне, по крайней мере, хоть завтра быть рядом с вами. Мое место — подле вашего величества. На глазах у вас я буду таким же пленником, и даже под лучшей охраной, чем в любом другом месте. Государь, окажите мне эту милость — разрешите быть при вас.
Король, не усмотрев ничего предосудительного в просьбе герцога Анжуйского, уже готов был согласиться с ней и сказать'^", когда внимание его отвлекла долговязая и весьма подвижная фигура, которая, стоя в дверях, руками, головой, шеей — одним словом, всем, чем только она могла двигать, делала самые отрицательные жесты, какие только способна была изобрести и выполнить без того, чтобы не вывихнуть себе кости.
Это был Шико, изображавший “нет”.
— Нет, — сказал Генрих брату, — вам здесь очень хорошо, и мне угодно, чтобы вы тут и оставались.
— Государь, — пролепетал герцог.
— Такова воля короля Франции. И как мне кажется, сударь, для вас этого должно быть достаточно, — добавил Генрих с высокомерным видом, окончательно изничтожившим герцога.
— Я же говорил, что настоящий король Франции — это я! — прошептал Шико.
VI
О ТОМ, КАК ШИКО НАНЕС ВИЗИТ БЮССИ И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВОСПОСЛЕДОВАЛО
Назавтра после этого дня или, скорее, этой ночи, около девяти часов утра, Бюсси спокойно завтракал в компании Реми, и тот в своем качестве лекаря предписывал ему разные подкрепляющие средства. Они беседовали о вчерашних событиях, и Реми пытался вспомнить легенды, изображенные на фресках церквушки св. Марии Египетской.
— Послушай, Реми, — внезапно промолвил Бюсси, — тебе не показался знакомым тот дворянин, которого окунули в чан на углу улицы Кокайер, когда мы там проходили?
— Разумеется, господин граф, и даже до такой степени, что я с той минуты все стараюсь вспомнить его имя.
— Значит, ты его тоже не узнал?
— Нет. Он был уже основательно синий.
— Мне следовало бы выручить его, — сказал Бюсси, — долг порядочных людей — защищать друг друга от всякого сброда. Но, по правде, Реми, я был слишком занят своими делами.
— Если мы его и не узнали, — сказал Одуэн, — то он наверняка нас узнал, ведь мы-то были естественного цвета. Мне показалось даже, что он злобно на нас таращился и грозил кулаком.
— Ты в этом уверен, Реми?
— За то, что таращился, я головой отвечаю, а насчет кулака и угроз не совсем уверен, — сказал Одуэн, знавший вспыльчивость Бюсси.
— В таком случае, Реми, надо узнать, кто был этот дворянин. Я не могу оставить безнаказанным подобное оскорбление.
— Постойте, постойте, — вскрикнул вдруг Одуэн так, словно он только что выскочил из ледяной воды или прыгнул в кипяток. — Ах, Боже мой! Вспомнил! Я знаю, кто это.
— Как ты мог узнать?
— Я слышал, как он ругался.
— Черт подери, всякий бы ругался в подобном положении!
— Да, но он ругался по-немецки.
— А!
— Он сказал: “Got! verdamme!”
— Значит, это Шомберг.
— Он самый, господин граф, он самый.
— Тогда, дорогой Реми, готовь твои мази.
— Почему?
— Потому что в скором времени тебе придется штопать его или мою шкуру.
— Вы не будете настолько безумны, чтобы позволить убить себя сейчас, когда вы наконец здоровы и счастливы, — сказал Реми, подмигивая. — Какого черта! Ведь святая Мария Египетская уже единожды воскресила вас. Ей может и прискучить сотворять чудо, за которое сам Христос брался всего лишь дважды.
— Совсем напротив, Реми, — ответил граф, — ты себе и не представляешь, какое это наслаждение — рисковать жизнью, когда ты счастлив. Уверяю тебя, что я дерусь без всякой охоты после крупного проигрыша в карты, или после того как я уличил любовницу в измене, или когда я недоволен собой. И, наоборот, каждый раз, когда кошелек мой туго набит, на сердце легко и совесть моя чиста, я выхожу на поединок смело и весело. Именно тогда я бываю уверен в своей руке и вижу противника насквозь. Я подавляю его своим везением. Я нахожусь в положении человека, который счастливо играет в кости и чувствует, как ветер удачи метет к нему золото соперника. Нет, именно в такие минуты я блистателен, уверен в себе, именно тогда я действую решительно. Сегодня я дрался бы великолепно, Реми, — молодой человек протянул лекарю руку, — потому что благодаря тебе я счастлив!
— Погодите, погодите, — сказал Одуэн, — тем не менее вам придется, если вы не возражаете, отказаться от этого удовольствия. Одна прекрасная дама из числа моих друзей поручила вас моим заботам и вынудила меня поклясться, что я сохраню вас здоровым и невредимым; вынудила под тем предлогом, будто вы обязаны ей жизнью и поэтому не можете распоряжаться этой жизнью без ее согласия.
— Мой добрый Реми, — сказал граф, погружаясь в те туманные мечтания, когда влюбленный воспринимает все, что совершается и говорится вокруг него так, как в театре мы видим декорации и актеров на сцене сквозь прозрачный занавес: неясно, без отчетливых линий и ярких красок. Это чудесное состояние полусна, когда, отдаваясь всей душой нежным мыслям о предмете вашей любви, вы одновременно чувствами воспринимаете слова или жесты друга.
— Вы называете меня “добрый Реми”,— сказал Одуэн, — потому что я дал вам возможность снова увидеть госпожу де Монсоро, но станете ли вы называть меня “добрый Реми”, когда окажетесь разлученным с нею, а, к несчастью, этот день близок, если уже не настал.
— Что ты говоришь? — вскричал, встрепенувшись, Бюсси. — Не будем с этим шутить, мэтр ле Одуэн!
— Э! Сударь, я не шучу. Разве вы не знаете, что она уезжает в Анжу и что я сам тоже обречен на страдания из-за разлуки с мадемуазель Гертрудой? Ах!..
Бюсси не мог сдержать улыбки при виде притворного отчаяния Реми.
— Ты ее очень любишь? — спросил он.
— Еще бы… и она меня тоже… Если бы вы знали, как она меня колотит!
— И ты ей это позволяешь?
— Из любви к науке: благодаря Гертруде я был вынужден изобрести превосходную мазь от синяков.
— В таком случае, тебе следовало бы послать несколько баночек Шомбергу.
— Не будем больше говорить о Шомберге, пусть он сам о себе позаботится.
— Да, и вернемся к госпоже де Монсоро или, вернее, к Диане де Меридор, потому что, знаешь…
— Бог мой, конечно, знаю!
— Реми, когда мы едем?
— А! Я так и думал. Как можно позже, господин граф.
— Почему?
— Во-первых, потому, что в Париже находится наш дорогой принц, глава анжуйцев, который прошлым вечером ввязался, как мне кажется, в такие дела, что мы ему, очевидно, понадобимся.
— Дальше?
— Дальше, потому что господин де Монсоро, словно по какой-то особой милости к нам Небес, ни о чем не подозревает, — во всяком случае, ни о чем не подозревает относительно вас, но может заподозрить кое-что, если вы исчезнете из Парижа в одно время с его женой, которая ему не жена.
— Ну и что? Какое мне дело до его подозрений?
— О! Разумеется. Но мне-то до этого есть дело, и очень большое, любезный мой господин. Я берусь штопать дыры от ударов шпаги, полученных на поединках потому что вы превосходно фехтуете и у вас никогда не бывает серьезных ран, но я отказываюсь иметь дело с кинжальными ранами, нанесенными из засады, и в особенности когда их наносят ревнивые мужья. Эти скоты в подобных случаях бьют изо всех сил. Вспомните беднягу господина де Сен-Мегрена, так злодейски убитого нашим другом, господином де Гизом.
— Чего же ты хочешь, мой милый, коли мне на роду написано погибнуть от руки Монсоро!
— Значит?
— Значит, он меня и убьет.
— А через неделю, через месяц или через год госпожа де Монсоро станет женой своего супруга, что приведет в бешенство вашу бедную душу, которая увидит это с небес или из преисподней и не сможет ничему помешать, поскольку у нее не будет тела.
— Ты прав, Реми, я хочу жить.
— В добрый час! Но жить — это еще не все, поверьте мне, надо еще следовать моим советам и быть любезным с Монсоро. Он сейчас ужасно ревнует к герцогу Анжуйскому. Тот, пока вы тряслись от лихорадки у себя в постели, прогуливался под окнами дамы, словно испанец, и был опознан по своему лютнисту Орильи. Оказывайте всяческие любезности милейшему супругу, который не является супругом, и даже не заикайтесь ему о его жене. Да вам это и ни к чему, вы и сами все о ней знаете. Тогда он будет рассказывать повсюду, что вы единственный дворянин, обладающий добродетелями Сципиона: стойкостью и целомудрием.
— Мне кажется, ты прав, — сказал Бюсси. — Сейчас, когда я больше не ревную к этому медведю, я его приручу. Ну и посмеемся же мы! Ах, Реми, теперь проси у меня все, что хочешь, мне все легко, ибо я счастлив.
Кто-то постучался в дверь; собеседники замолчали.
— Кто там? — спросил Бюсси.
— Ваше сиятельство, — ответил один из его пажей, — там внизу какой-то дворянин хочет говорить с вами.
— Говорить со мной в такую рань, кто же это?
— Высокий господин, одетый в зеленый бархат и розовые чулки, немного смешной, но вид у него человека порядочного.
— Гм, — вслух подумал Бюсси, — не Шомберг ли это?
— Он сказал “высокий господин”,— напомнил Рени.
— Верно. Тогда, может быть, Монсоро?
— Нет, он же сказал “вид человека порядочного”,— напомнил Реми.
— Ты прав, Реми, это не может быть ни тот ни другой. Впустите его.
Через некоторое время человек, о котором говорил паж, показался на пороге.
— Ах! Бог мой! — вскричал Бюсси при виде посетителя и поспешно встал, а Реми, как и подобает скромному другу, вышел в соседнюю комнату. — Господин Шико!
— Он самый, господин граф, — ответил гасконец.
Бюсси уставился на него с изумлением, говорящим яснее всяких слов: “Сударь, зачем вы сюда пожаловали?”
Поэтому Шико, несмотря на то, что ему не было задано этого вопроса, ответил очень серьезным тоном:
— Сударь, я пришел, чтобы предложить вам небольшую сделку.
— Я вас слушаю, — сказал Бюсси с недоумением.
— Что вы мне обещаете, если я окажу вам важную услугу?
— Это зависит от услуги, сударь, — ответил несколько свысока Бюсси.
Гасконец притворился, что не замечает его пренебрежительного тона.
— Сударь, — сказал он, усевшись и скрестив свои длинные ноги, — я вижу, что вы не удостаиваете меня приглашением сесть.
Краска бросилась в лицо Бюсси.
— Это увеличивает размеры вознаграждения, которое мне будет полагаться после того, как я окажу вам упомянутую услугу.
Бюсси ничего не ответил.
— Сударь, — не смущаясь, продолжал Шико, — вы знакомы с Лигой?
— Я о ней много слышал, — ответил Бюсси, начиная проявлять к словам гасконца некоторый интерес.
— В таком случае, — сказал Шико, — вы должны знать, что это объединение честных христиан, собравшихся для того, чтобы благоговейно уничтожить своих ближних — гугенотов. Вы состоите в Лиге, сударь?.. Я — да.
— Но, сударь…
— Скажите только — “да” или “нет”.
— Позвольте мне удивиться, — сказал Бюсси.
14-2139
— Я имел честь спросить вас, состоите ли вы в Лиге, вы поняли меня?
— Господин Шико, — сказал Бюсси, — я не люблю вопросов, смысла которых не понимаю, поэтому, будьте так любезны, перемените тему разговора, и ради приличия я подожду еще несколько минут, прежде чем сказать вам, что, не любя подобных вопросов, я, естественно, не люблю и людей, их задающих.
— Великолепно; приличия есть приличия, как говорит наш дорогой господин де Монсоро, когда он в хорошем настроении.
При имени Монсоро, которое гасконец обронил словно бы невзначай, Бюсси снова стал внимательным.
— Гм, — прошептал он, — не заподозрил ли Монсоро чего-нибудь и не прислал ли кто ко мне этого Шико на разведку?..
И сказал громко:
— Ближе к делу, господин Шико, в вашем распоряжении всего несколько минут.
— Optime, — ответил Шико, — несколько минут — это много; за несколько минут можно наговорить с три короба. Я, пожалуй, мог бы и не спрашивать вас, ведь если вы и не принадлежите к святой Лиге, то, вне всякого сомнения, вступите в нее, и очень скоро, учитывая, что его высочество герцог Анжуйский в ней состоит.
— Герцог Анжуйский! Кто это вам сказал?
— Он сам в личной беседе со мной, как говорят или, вернее, пишут законники; как писал, например, милейший и добрейший господин Никола Давид, светоч “парижского форума”. Этот светоч теперь угас, и до сих пор неизвестно, кто его задул. Если герцог Анжуйский принадлежит к Лиге, вам этого тоже не избежать: ведь вы его правая рука, черт побери! Лига понимает толк в деле и не согласится иметь своим главой однорукого.
— И что же дальше, господин Шико? — поинтересовался Бюсси, на этот раз значительно более вежливым тоном.
— Дальше? — переспросил Шико. — Дальше, если вы принадлежите к Лиге, — или подумают, что вы к ней принадлежите, а так обязательно подумают, — с вами случится то же, что случилось с его королевским высочеством.
— Что же случилось с его королевским высочеством? — воскликнул Бюсси.
— Сударь, — сказал Шико, поднимаясь и принимая ту позу, в которой незадолго до этого с ним говорил Бюсси, — сударь, я не люблю вопросов и — если вы разрешите мне продолжать — не люблю людей, задающих вопросы, поэтому у меня большое желание не вмешиваться и позволить сделать с вами то, что проделали ночью с вашим господином.
— Господин Шико, — сказал Бюсси с улыбкой, которая заключала в себе все извинения, какие может принести дворянин, — говорите же, умоляю вас, где герцог?
— Он заточен.
— Где?!
— В своей опочивальне. И четверо моих добрых друзей не спускают с него глаз: господин де Шомберг, которого вчера вечером выкрасили в синий цвет, как это вам известно, потому что вы были свидетелем этой операции; господин д‘Эпернон, желтый с перепугу, господин де Келюс, красный от гнева, и господин де Можирон, белый от скуки. Прелестное зрелище, особенно если учесть, что герцог начинает зеленеть от страха. Вскоре мы сможем наслаждаться полной радугой, мы — избранное общество Лувра.
— Значит, сударь, — сказал Бюсси, — вы думаете, что моей свободе угрожает опасность?
— Опасность… дайте подумать, сударь. Я полагаю, что в эту минуту вас готовы… вас должны были бы арестовать.
Бюсси содрогнулся.
— Как вы смотрите на Бастилию, господин де Бюсси? Это прекрасное место для размышлений, и господин Лоран Тестю, ее комендант, весьма недурно кормит своих пташек.
— Меня отправят в Бастилию?! — воскликнул Бюсси.
— По чести, так! У меня тут где-то в кармане даже вроде бы приказ есть препроводить вас туда, господин де Бюсси; хотите поглядеть?
И Шико действительно извлек из своей штанины, в которой могли бы поместиться три такие ляжки, как у него, составленный по всей форме королевский приказ, предписывающий взять под стражу господина Луи де Клермона, графа де Бюсси д’Амбуаза, в любом месте, где он будет обнаружен.
— Редакция господина де Келюса, — сказал Шико, — прекрасно написано.
— Так, значит, сударь, — воскликнул Бюсси, тронутый поступком Шико, — вы мне в самом деле оказываете услугу?
— Мне кажется, да, — сказал гасконец, — и вы того же мнения, сударь?
— Господин Шико, — сказал Бюсси, — заклинаю вас, ответьте мне как человек благородный: вы спасаете меня сегодня, чтобы погубить когда-нибудь в другой раз? Ведь вы любите короля, а король меня не любит.
— Господин граф, — сказал Шико, приподнимаясь на своем стуле и кланяясь, — я спасаю вас, чтобы вас спасти. А теперь можете думать о моем поступке все, что вам будет угодно.
— Но, Бога ради, чему я обязан подобной милостью?
— Разве вы забыли, что я просил вас о вознаграждении?
— Это верно.
14*
— Так что же?
— Ах, сударь, с радостью!
— Значит, вы, в свою очередь, сделаете то, о чем однажды я попрошу вас?
— Слово Бюсси! Если только это будет в моих силах.
— Прекрасно, этого с меня достаточно, — сказал Шико, вставая. — Теперь садитесь на коня и исчезайте, а я передам приказ о вашем аресте тому, кто имеет право исполнить его.
— Так вы не должны были сами арестовать меня?
— Да что вы! За кого вы меня принимаете? Я дворянин, сударь.
— Ноя покидаю моего господина!
— Не упрекайте себя, он первый вас покинул.
— Вы славный дворянин, господин Шико, — сказал Бюсси гасконцу.
— Черт возьми, я и сам так думаю, — ответил тот.
Бюсси позвал Одуэна.
Одуэн, который, надо отдать ему справедливость, подслушивал у дверей, тотчас же возник на пороге.
— Реми! — воскликнул де Бюсси. — Реми, наших коней!
— Они оседланы, ваше сиятельство, — спокойно ответил Реми.
— Сударь, — сказал Шико, — вот на редкость сообразительный молодой человек.
— Черт возьми, я и сам так думаю, — заметил Реми.
И они отвесили друг другу низкие поклоны, как это сделали бы лет пятьдесят спустя Гийом Горен и Готье Гаргий.
Бюсси набрал несколько пригоршней экю и рассовал их по своим карманам и по карманам Одуэна. Затем, поклонившись Шико и еще раз поблагодарив его, шагнул к двери.
— Простите, сударь, — сказал Шико, — разрешите мне присутствовать при вашем отъезде.
И гасконец последовал за Бюсси и Одуэном в маленький конюшенный двор, где паж и в самом деле держал под уздцы оседланных лошадей.
— Куда мы едем? — спросил Реми, небрежно беря поводья своего коня.
— Куда?.. — переспросил Бюсси в нерешительности или прикидываясь, что он в нерешительности.
— Что вы скажете о Нормандии, сударь? — сказал Шико, который наблюдал за сборами и с видом знатока разглядывал коней.
— Нет, — ответил Бюсси, — это слишком близко.
— А что вы думаете о Фландрии? — продолжал Шико.
— Это слишком далеко.
— Я полагаю, — сказал Реми, — что вы остановитесь на Анжу, оно находится на подходящем расстоянии, не правда ли, господин граф?
— Да, поехали в Анжу, — ответил Бюсси, покраснев.
— Сударь, — сказал Шико, — теперь, когда вы сделали ваш выбор и собираетесь выехать…
— Немедленно!
— … я имею честь приветствовать вас. Поминайте меня в своих молитвах.
И достойный дворянин все с тем же серьезным и величественным видом зашагал прочь, задевая за углы домов своей гигантской рапирой.
— Значит, это судьба, сударь, — сказал Реми.
— Поехали, скорей! — вскричал Бюсси. — Быть может, мы ее нагоним.
— Ах, сударь, — сказал Одуэн, — если вы будете помогать судьбе, вы отнимете у нее все ее заслуги.
И они тронулись в путь.
Назад: XXXVI О ТОМ, КАК ПРОХОДИЛ БОЛЬШОЙ КОРОЛЕВСКИЙ СОВЕТ
Дальше: VII ШАХМАТЫ ШИКО, БИЛЬБОКЕ КЕЛЮСА И САРБАКАН ШОМБЕРГА

