Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 21. Анж Питу 1995.
На главную: Предисловие
Дальше: VII ГЛАВА, ГДЕ ДОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО ДЛИННЫЕ НОГИ НЕСКОЛЬКО НЕУКЛЮЖИ, КОГДА ТАНЦУЕШЬ, НО ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫ, КОГДА УБЕГАЕШЬ
Александр Дюма
Анж Питу
Часть первая
I
ГЛАВА, В КОТОРОЙ ЧИТАТЕЛЬ ЗНАКОМИТСЯ С ГЕРОЕМ НАШЕГО ПОВЕСТВОВАНИЯ И С КРАЕМ, ГДЕ ОН ПОЯВИЛСЯ НА СВЕТ
На границе Пикардии и Суасоне, в центре той части французской земли, что под именем Иль-де-Франс входила в исконные владения наших королей, посреди гигантского полумесяца, образованного протянувшимся с севера на юг лесом площадью в пятьдесят тысяч арпанов, под сенью огромного парка, посаженного при Франциске I и Генрихе II, раскинулся городок Виллер-Котре, славный тем, что в его стенах появился на свет Шарль Альбер Демустье, который в пору, когда началась эта история, сочинял в родном городе, на радость тогдашним красавицам, «Письма к Эмилии о мифологии», пользовавшиеся бешеным успехом.
Дабы упрочить поэтическую репутацию городка, которому недоброжелатели, хотя там имеется королевский замок, а население составляет две тысячи четыреста жителей, отказывают в звании города, добавим, что он находится в двух льё от Ферте-Милон, где родился Расин, и в восьми льё от Шато-Тьерри, где родился Лафонтен. Отметим также, что мать автора «Британика» и «Гофолии» была родом из самого Виллер-Котре.
Вернемся, однако, к королевскому замку и двум тысячам четыремстам обитателям городка.
Замок этот, строительство которого было начато при Франциске I, чьи саламандры по сей день украшают его стены, и закончено при Генрихе II, чей вензель, сплетенный с вензелем Екатерины Медичи и окруженный тремя полумесяцами Дианы де Пуатье, и поныне венчает его двери, служил прибежищем королю-рыцарю в пору его любви к г-же д’Этамп и Луи Филиппу Орлеанскому в пору его любви к красавице г-же де Монтессон, однако после смерти этого последнего сделался почти необитаем, ибо сын его Филипп Орлеанский, кого позднее стали звать Эгалите, превратил королевскую резиденцию в обычный охотничий приют.
Как известно, замок и лес Виллер-Котре входили в число апанажей, пожалованных Людовиком XIV его брату месье, когда второй сын Анны Австрийской женился на сестре короля Карла II — Генриетте Английской.
В число двух тысяч четырехсот жителей — о них мы обещали нашим читателям сказать несколько слов — входили, как это бывает в любом, городке, насчитывающем две с лишним тысячи человеческих особей:
1° несколько дворян, проводивших лето в окрестных замках, а зиму в Париже и, по примеру герцога Орлеанского, бывавших в Виллер-Котре лишь от случая к случаю;
2° немалое число буржуа, в любую погоду выходивших из дома с зонтиком под мышкой, дабы совершить ежедневную послеобеденную прогулку с неизменным конечным пунктом — расположенным в четверти льё от города широким рвом, отделяющим парк от леса; местные жители называли его «Ого!», по всей вероятности, потому, что его вид исторгал у астматиков, сумевших проделать, не запыхавшись, столь долгий путь, исполненное гордости восклицание;
3° множество ремесленников, трудившихся целую неделю и лишь по воскресеньям позволявших себе ту прогулку, которой их более удачливые земляки наслаждались ежедневно;
4° и, наконец, небольшое число жалких пролетариев: им даже воскресенье не приносило отдыха, ибо, работая шесть дней в неделю на дворян, буржуа или даже на ремесленников, они по воскресеньям отправлялись в лес, чтобы собрать там сучья, которыми гроза — этот лесной жнец, расправляющийся с дубами так же легко, как и с колосьями, — осыпает влажную почву высоких мрачных лесов в роскошных герцогских владениях.
Если бы Виллер-Котре, который римляне называли Уmеm ad Cotiam Retiae, имел несчастье занимать в истории место, достаточно значительное для того, чтобы археологи обратили на него внимание и исследовали его превращение из деревни в городок и из городка в город — превращение, которого, как мы уже сказали, не желают признавать его враги, — они непременно отметили бы тот факт, что вначале эта деревня представляла собою двойной ряд домов, построенных по обе стороны дороги из Парижа в Суасон; затем, сказали бы они, когда местоположение на опушке прекрасного леса привлекло сюда новых жителей, к первой улице прибавились новые, расходящиеся в разные стороны, подобно звездным лучам, и устремляющиеся к соседним местностям, с которыми необходимо было поддерживать сношения, из одной-единственной точки, естественно ставшей центром, тем, что именуют в провинции площадью; вокруг этой площади выросли красивейшие дома деревни, превратившейся в городок, а в центре воздвигся фонтан, украсившийся в наши дни часовыми циферблатами с четырех сторон; наконец, археологи точно установили бы день, когда подле скромной церкви — первой необходимости народа — были заложены первые камни просторного замка — последней прихоти короля; замка, который, выполняя, как мы уже сказали, в разные времена роль королевской и герцогской резиденции, превратился ныне в печальный и отвратительный приют нищеты под надзором префектуры департамента Сена.
Однако в эпоху, когда начинается наша история, королевская власть хотя и пошатнулась, но все же не пала так низко, как сегодня; в замке, правда, уже не жил герцог, но он еще и не стал пристанищем для нищих; он был просто-напросто пуст, и под крышей его обитала лишь прислуга, необходимая для поддержания порядка, — прислуга, среди коей главными лицами были привратник, распорядитель игры в мяч и капеллан. Все окна огромного здания, как те, что выходили в парк, так и те, что смотрели на вторую городскую площадь, именуемую, на аристократический манер, замковой, были закрыты, что делало еще более унылой и безлюдной эту площадь; на одном из углов ее стоял домик: о нем читатель, надеюсь, позволит нам сказать несколько слов.
Домик этот был, можно сказать, виден только со спины, но спина, как это случается и у иных людей, являлась самой выразительной его частью. В самом деле, фасад его, обращенный к улице Суасон — одной из главных в городке, — с топорно закругленной сверху и угрюмо запертой восемнадцать часов в сутки дверью, выглядел все же веселым и улыбающимся; а с противоположной стороны царственно раскинулся сад, из-за ограды которого виднелись верхушки вишен, слив и яблонь, а по обеим сторонам калитки, выходящей на площадь, росли две вековые акации, которые каждую весну протягивали ветви через ограду, словно для того, чтобы осыпать все кругом своими душистыми цветами.
Домик этот принадлежал капеллану замка: он не только ведал тамошней церковью, где, несмотря на отсутствие хозяина, каждое воскресенье совершалась месса, но и содержал небольшой пансион, которому, в виде особой милости, были предоставлены две стипендии — в коллеже Плесси и в суасонской семинарии. Излишне говорить, что деньги на эти стипендии давало семейство герцогов Орлеанских (первой из них горожане были обязаны отцу Филиппа Эгалите, второй — сыну регента) и что обе эти стипендии были предметом вожделения родителей и причиной отчаяния детей, вынужденных из-за них писать каждый четверг особые сочинения.
Так вот, однажды в четверг — дело происходило в июле 1789 года — стояла пасмурная погода, с запада надвигалась гроза, и две великолепные акации, о которых мы уже упоминали, начали сбрасывать свой весенний целомудренный наряд и ронять на землю пожелтевшие от первой летней жары листочки; все утро на площади царила тишина, нарушаемая лишь шуршанием этих листьев, которые сталкиваясь друг с другом, кружились по истоптанной мостовой, да чириканьем воробьев, проносившихся над самой землей в погоне за мухами; но вот наконец на высокой аспидного цвета городской колокольне пробило одиннадцать.
В ту же секунду над площадью грянуло «ура», достойное целого полка улан, раздался грохот, похожий на шум горной лавины, мчащейся со скалы на скалу, калитка между двух акаций распахнулась, или, вернее сказать, рухнула и ватага детей высыпала на площадь, где почти сразу разделилась на пять-шесть веселых и шумных стаек; одни начали пускать волчок, другие — прыгать по начерченным белым мелом клеткам, третьи — играть в шары, стараясь забросить их в вырытые на равном расстоянии одна от другой ямки; попадание или промах обозначали для пустившего шар выигрыш или поражение.
В то же самое время, когда школяры-озорники (те немногочисленные соседи, чьи окна выходили на площадь, именовали их скверными мальчишками), которые были, как правило, одеты в продранные на коленях штаны и продранные на локтях куртки, застряли на площади, другие школяры (их звали примерными учениками, и они, по словам окрестных кумушек, составляли радость и гордость родителей) отделились от толпы и — каждый с корзинкой в руке, каждый своей дорогой — медленным шагом, нехотя, разошлись по домам, где их ждал хлеб с маслом или вареньем, призванный заменить игры, от участия в которых они добровольно отказались. Примерные ученики были, как правило, одеты в добротные куртки и почти безукоризненные штаны, что вкупе с их пресловутым благоразумием делало их предметом насмешек и даже ненависти в глазах их хуже одетых и менее послушных товарищей.
Помимо этих двух разрядов школяров — назовем их озорниками и пай-мальчиками, — существовал еще и третий разряд — его мы обозначим именем лентяев: они никогда не покидали школу вместе с товарищами ни для того, чтобы поиграть на замковой площади, ни для того, чтобы вернуться в родительский дом, ибо этих незадачливых школяров вечно оставляли в классе после уроков, иначе говоря, когда их товарищи, закончив переводы с латыни и на латынь, отправлялись играть в волчок или поедать хлеб с вареньем, они, прилипнув к партам, всю перемену корпели над теми переводами, которые не успели закончить во время урока, если, конечно, не были уличены в более серьезных проступках, за что им причиталась высшая кара в виде розог, ферулы или плетки.
Поэтому, если бы мы проделали в обратном направлении тот путь, каким шли школяры, только что выпущенные на свободу, то, пройдя по дорожке — она предусмотрительно огибала фруктовый сад и выходила в широкий двор, предназначенный для рекреаций, — мы бы услышали громкий, чеканящий слова голос, доносившийся с верхней площадки лестницы, и увидели бы спускающегося по этой лестнице школяра, движениями своими напоминавшего либо осла, стремящегося сбросить седока, либо мальчишку, только что наказанного плеткой и стремящегося избавиться от боли; беспристрастность историка не позволяет нам скрыть, что он принадлежал к третьему разряду.
— Ах, безбожник! Ах, маленький нехристь! — упрекал голос. — Ах, змееныш! Убирайся, уходи прочь, vade, vade!1 Вспомни: я терпел тебя целых три года, но ты из тех негодников, которые вывели бы из терпения самого Предвечного Отца. Кончено! С меня довольно! Забирай своих белок, лягушек, ящериц, забирай шелковичных червей и майских жуков и ступай к своей тетке, ступай к дядьке, если он у тебя есть, убирайся к дьяволу, иди куда хочешь — лишь бы я тебя больше никогда не видел! Vade, vade!
— О милый господин Фортье, простите меня, — отвечал с нижней ступеньки лестницы другой, умоляющий голос, — стоит ли так гневаться из-за одного несчастного варваризма и нескольких, как вы их называете, солецизмов.
— Три варваризма и семь солецизмов в переводе из двадцати пяти строк! — возмущался гневный голос.
— Сегодня я и вправду наделал ошибок, господин аббат: по четвергам мне не везет; но если завтра я вдруг напишу перевод как следует, может, вы простите мне сегодняшнюю неудачу, господин аббат?
— Три года подряд каждый раз ты твердишь мне одно и то же, бездельник! А экзамен назначен на первое ноября, и мне, который, поддавшись на уговоры твоей тетки Анжелики, имел глупость определить тебя кандидатом на вакантную сейчас стипендию в суасонской семинарии, придется снести этот позор: моего ученика выгонят с экзамена и я повсюду буду слышать: «Анж Питу — осел, Angelus Pitovius asinus est».
Дабы с самого начала внушить благосклонному читателю сочувствие к Анжу Питу, чье имя только что так живописно латинизировал аббат Фортье, поспешим сказать, что он и есть герой нашей истории и в полной мере заслуживает этого сочувствия.
— О добрейший господин Фортье! О мой дорогой учитель! — в отчаянии молил ученик.
— Я твой учитель? — вскричал аббат, глубоко оскорбленный этими словами. — Слава Создателю, я тебе больше не учитель, а ты мне не ученик; я от тебя отрекаюсь, я тебя не знаю, я много бы отдал за то, чтобы никогда тебя не видеть, я запрещаю тебе упоминать мое имя и даже здороваться со мной. Retro, несчастный! Retro!
— Господин аббат, — настаивал несчастный Питу, казалось чрезвычайно заинтересованный в том, чтобы примириться с наставником, — господин аббат, умоляю вас, не лишайте меня своей благосклонности из-за какого-то жалкого перевода.
— Ах вот как! — завопил аббат, выведенный из себя этой последней просьбой, и спустился вниз на четыре ступеньки, причем Анж Питу в то же самое время спустился ровно на столько же ступенек и оказался во дворе. — Ах вот как! Ты не можешь перевести ни одной фразы, но зато пускаешься в умствования, ты не умеешь отличить подлежащее от дополнения, но зато умеешь вывести меня из терпения!
— Господин аббат, вы были так добры ко мне, — отвечал творец варваризмов, — вам стоит только замолвить за меня словечко монсеньеру епископу, который будет нас экзаменовать.
— Мне, несчастный! Мне — поступать против совести?!
— Но ведь вы сотворите доброе дело, господин аббат, и Господь вас простит.
— Ни за что! Ни за что!
— А потом, кто знает? Вдруг экзаменаторы обойдутся со мной так же снисходительно, как с моим молочным братом Себастьеном Жильбером, в прошлом году получившим стипендию в Париже. А уж он-то, слава Создателю, грешил варваризмами куда больше моего, хотя ему было всего тринадцать лет, а мне уже семнадцать.
— Ну и ну! Вот уж глупость так глупость! — сказал аббат, спускаясь с лестницы и в свою очередь появляясь во дворе с плеткой в руке, вследствие чего Питу почел за лучшее держаться от него на прежнем расстоянии. — Да, я сказал «глупость!» — повторил аббат, скрестив руки на груди и с негодованием глядя на своего ученика. — И это результат моих уроков диалектики! Трижды скотина! Вот, значит, как хорошо ты усвоил аксиому: Noti minora loqui majora volens. Да ведь именно оттого, что Жильбер моложе тебя, с ним, четырнадцатилетним мальчиком, обошлись снисходительнее, чем обойдутся с тобой, восемнадцатилетним балбесом!
— Оттого, а еще потому, что он сын господина Оноре Жильбера, имеющего восемнадцать тысяч ливров ренты только со своих земель на равнине Пислё, — жалобно добавил логик.
Аббат Фортье пристально взглянул на Питу, вытянув губы трубочкой и нахмурив брови.
— Не так уж глупо, — проворчал он после минутной паузы. — Впрочем, это только видимость логики, но не ее суть. Speciem, non autem corpus.
— О если бы я был сыном человека, имеющего десять тысяч ливров ренты! — повторил Анж Питу, заметивший, что его ответ произвел на преподавателя некоторое впечатление.
— Да, но у тебя этих денег нет. Вдобавок ты невежда, подобный тому шалопаю, о котором пишет Ювенал, автор хоть и светский, — аббат перекрестился, — но правдивый: Arcadius juvenis. Бьюсь об заклад, ты не знаешь, что такое Arcadius.
— Черт возьми! — отвечал Анж Питу, гордо приосанившись. — Из Аркадии.
— И что с того?
— С чего?
— Аркадия — родина ослов, а у древних, как и у нас, asinus означало stultus.
— Я не хотел так толковать эту фразу, — отвечал Питу, — ибо был далек от мысли, что суровый ум моего достойного наставника может унизиться до сатиры.
Аббат Фортье снова взглянул на своего ученика пристально — не менее пристально, чем в первый раз.
— Клянусь честью, — пробормотал он, немного смягчившись под действием льстивых речей незадачливого школяра, — в иные минуты можно подумать, что этот негодяй не так глуп, как кажется.
— Пожалуйста, господин аббат, — сказал Питу (он если не слышал слов преподавателя, то угадал по его лицу, что тот немного смягчился), — простите меня, вот увидите, какую отличную работу я напишу завтра.
— Ладно, согласен, — сказал аббат, в знак перемирия засовывая плетку за пояс и подходя ближе к Питу, который, видя этот обнадеживающий жест, не стал отступать.
— О! Спасибо, спасибо! — вскричал школяр.
— Погоди, не спеши благодарить; да, я тебя прощаю, но при одном условии.
Питу повесил голову и стал покорно ожидать приговора почтенного аббата, от которого зависела его судьба.
— Условие мое такое: ты без единой ошибки ответишь на вопрос, что я тебе задам.
— По-латыни? — встревоженно спросил Питу.
— Latine, — отвечал аббат.
Питу горестно вздохнул.
Настала короткая пауза, во время которой до его слуха донеслись веселые крики школяров, игравших на площади перед замком.
Он вздохнул еще горестнее.
— Quid virtus? Quid religio? — спросил аббат.
Эти слова грозного педагога показались бедняге Питу трубным гласом ангела, возвещающим начало Страшного Суда. Глаза его затуманились, а мозг заработал так напряженно, что внезапно Питу понял, как сходят с ума.
Однако эти непомерные умственные усилия никак не могли увенчаться хоть каким-нибудь результатом, и искомый ответ заставлял себя ждать. В тишине было слышно, как грозный экзаменатор неспешно втягивает в нос понюшку табаку.
Питу понял, что дольше молчать невозможно.
— Nescio, — сказал он, надеясь, что учитель простит ему это признание, коль скоро оно сделано по-латыни.
— Не знаешь, что такое добродетель! — возопил аббат, задыхаясь от гнева. — Не знаешь, что такое религия!
— Я знаю, что это такое, по-французски, — отвечал Питу, — но не по-латыни.
— В таком случае отправляйся в Аркадию, juvenis, между нами все кончено, бездельник!
Питу был так удручен, что даже не подумал отскочить, хотя аббат Фортье вытянул из-за пояса плетку с таким же серьезным видом, с каким полководец, вступая в бой, извлекает из ножен шпагу.
— Но что же мне делать? — спросил несчастный, бессильно уронив руки, — что же мне делать, если меня не примут в семинарию?
— Делай что хочешь, мне это, черт возьми, совершенно безразлично!
Добрый аббат был так разгневан, что не выбирал слов.
— Но разве вы не знаете, что моя тетка считает меня без пяти минут аббатом?
— Что ж! Придется ей узнать, что ты неспособен быть даже ризничим.
— Но, господин Фортье…
— Я же сказал тебе — убирайся вон: limina linguae.
— Хорошо! — сказал Питу тоном человека, принявшего решение, пусть тягостное, но окончательное. — Вы позволите мне забрать мой пюпитр?
Питу надеялся, что за время этой краткой передышки аббат Фортье смилостивится.
— Еще бы, — отвечал аббат. — Забирай его вместе со всем содержимым.
Питу понуро поплелся по лестнице в класс, находившийся на втором этаже. Он вошел в комнату, где вокруг большого стола человек сорок школяров делали вид, что занимаются, тихонько приподнял крышку своего пюпитра, дабы убедиться, что все его обитатели в целости и сохранности, осторожно снял его с места и медленно двинулся в обратный путь, стараясь ничем не потревожить своих питомцев.
На верхней площадке лестницы стоял, указывая вниз рукояткой плети, аббат Фортье.
Пришлось Анжу Питу пройти под кавдинским ярмом. Он постарался сжаться в комочек и принять самый униженный вид. Это не помешало аббату Фортье наградить его последним ударом того орудия, которому учитель был обязан своими лучшими учениками и которое, хотя Анж Питу подвергался его действию чаще и продолжительнее, чем любой другой школяр, принесло в его случае столь незначительные плоды.
Покуда Анж Питу, утирая последнюю слезу, направляется со своим пюпитром на голове в сторону Плё — квартала, где живет его тетка, скажем несколько слов о его наружности и происхождении.
II
ГЛАВА, В КОТОРОЙ ДОКАЗЫВАЕТСЯ,
ЧТО ТЕТКА НЕ ВСЕГДА МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ МАТЬ
В ту пору, когда началась эта история, Луи Анжу Питу исполнилось, как он сам сказал в разговоре с аббатом Фортье, семнадцать с половиной лет. Был он юноша высокий, худощавый, светловолосый, краснощекий, с глазами цвета голубого фаянса. На устах его цвела свежесть и невинность юности, рот был большой, что называется, до ушей, за толстыми губами прятались два ряда великолепных зубов, призванных поражать всех тех, с кем будет разделять трапезу их хозяин.
Длинные костистые руки увенчивались ладонями широкими, как вальки; кривоватые ноги, колени величиною с детскую голову, туго обтянутые узкими черными штанами, огромные ступни в стоптанных башмаках телячьей кожи, порыжевших от времени; и, чтобы довершить точное и беспристрастное описание особых примет бывшего воспитанника аббата Фортье, добавим, что он был одет в длинную блузу из коричневой саржи.
Нам остается набросать его нравственный портрет.
Анж Питу осиротел в двенадцать лет; в эту пору он имел несчастье лишиться матери, у которой был единственным сыном. Отец Анжа умер, когда ребенок был совсем мал, и любящая мать до последних дней своей жизни позволяла сыну делать, что ему вздумается, вследствие чего физическое развитие мальчика было выше всяких похвал, нравственное же развитие оставляло желать лучшего. Родившийся в очаровательной деревушке под названием Арамон, расположенной в одном льё от города и окруженной лесами, Анж Питу начал познание мира с исследования этих лесов и впервые напряг свой ум, отыскивая средства войны с обитавшими там животными. Поскольку деятельность эта увлекла Анжа Питу безраздельно, к десяти годам он стал незаурядным браконьером и первоклассным птицеловом, не затратив на это почти никакого труда и, главное, не беря ни у кого уроков; им двигал исключительно тот инстинкт, что вселяет природа в человека, рожденного среди лесов, инстинкт, родственный тому, каким наделены животные. Ни один заяц, ни один кролик не мог проскользнуть мимо него незамеченным. В радиусе трех льё он знал наперечет все лужицы, откуда пьют птицы, а на всяком дереве, подходящем для их подманки, обнаруживались следы его ножа. Постоянные упражнения позволили Питу добиться во всех этих занятиях чрезвычайных успехов.
Благодаря своим длинным рукам и могучим коленям он взбирался на самые высокие и толстые деревья и разорял гнезда, свитые на любой высоте, с ловкостью и уверенностью, которые восхищали всех деревенских мальчишек и удостоились бы, живи он ближе к экватору, уважения обезьян. Охота на птиц, в которой блистал Питу и к которой неравнодушны также и многие взрослые, заключается в следующем: охотник подманивает птицу к дереву с ветками, намазанными клеем, подражая крику сойки или совы, так глубоко ненавистных всему пернатому сословию, что всякий зяблик, всякая синица, всякий чиж, заслышав их голос, срываются с места, дабы потрепать врага, а нередко и самому получить хорошенькую трепку; товарищи Питу, прежде чем устроить засаду, ловили живую сойку или сову, либо запасались специальной травой, трубчатые стебли которой позволяли им более или менее удачно подражать крику одной из этих птиц; что же касается Питу, то он пренебрегал всеми этими средствами, презирал все эти ухищрения: он полагался только на себя самого, устраивал ловушку своими силами и сам издавал пронзительные неприятные звуки, вводившие в заблуждение не только птиц другой породы, но и самих соек и сов, — настолько похоже воспроизводил Питу их пение, а точнее, крик. Охота же на птиц, слетающихся к лужице попить воды, была для Питу сущим пустяком, и если он не гнушался ею, то лишь оттого, что, требуя очень мало мастерства, она приносила очень много добычи. Поэтому, несмотря на презрение, питаемое Анжем к этому слишком легкому виду охоты, никто не умел лучше него накрыть папоротником лужицу, чересчур большую, чтобы ее можно было, как говорят знатоки, употребить в дело целиком; никто не умел лучше Питу наклонить под нужным углом смазанные клеем ветки, чтобы самые хитрые птицы не смогли проскользнуть ни над, ни под ними; наконец, никто не мог так уверенно и точно отмерить смолу, масло и клей для приготовления раствора не слишком жидкого и не слишком густого.
Так вот, поскольку отношение окружающих к талантам того или иного человека зависит от поприща, которое он избирает, и от зрителей, в присутствии которых он на этом поприще подвизается, Питу пользовался в родной деревне Арамон, среди крестьян, то есть людей, заимствующих добрую половину своих ресурсов у природы и питающих, как все крестьяне, инстинктивную ненависть к цивилизации, уважением, не позволявшим его бедной матери заподозрить, что сын ее следует ложным путем и дает сам себе бесплатное образование, решительно несходное с тем, какое он мог бы получить за деньги, а эта возможность у него имелась.
Но когда добрая женщина заболела, когда она почувствовала приближение смерти, когда она поняла, что дитя ее остается в мире одиноким и беззащитным, ее охватили сомнения и она принялась искать будущему сироте покровителя. Тут она вспомнила, как однажды ночью, десять лет назад, некий юноша постучал в ее дверь и принес ей новорожденного ребенка, оставив на воспитание его круглую сумму денег, добавив, что другая, еще более значительная сумма, предназначенная малышу, хранится у нотариуса в Виллер-Котре. Поначалу г-жа Питу не знала об этом таинственном юноше ничего, кроме того, что зовут его Жильбер; но года три назад он явился к ней вновь, к этому времени он превратился в мужчину лет двадцати семи, довольно сурового, не терпящего возражений, держащегося не без высокомерия. Впрочем, эта чопорность сразу пропала, стоило ему увидеть сына, и, поскольку он убедился, что мальчик красив, силен, весел и воспитан так, как и хотелось отцу, в тесном единении с природой, он пожал руку доброй женщине и сказал: «Если вам придется туго, обращайтесь ко мне».
Затем он спросил, как попасть в Эрменонвиль, совершил с сыном паломничество на могилу Руссо и возвратился в Виллер-Котре. Там, без сомнения соблазнившись свежим воздухом и добрыми отзывами нотариуса о пансионе аббата Фортье, он оставил маленького Жильбера у этого достойного человека, чей философический нрав оценил по заслугам с первого взгляда (мы говорим «философический», ибо в эту эпоху философия забрала над людьми такую власть, что влияния ее не избежали даже священники). Затем, оставив аббату Фортье свой адрес, Жильбер-старший уехал в Париж.
Все это было известно матушке Питу. На смертном одре она вспомнила слова: «Если вам придется туго, обращайтесь ко мне». Ее осенило: конечно же, Провидение позаботилось о том, чтобы малыш Питу обрел больше, чем утратил. Поскольку она не знала грамоты, письмо по ее просьбе написал кюре; в тот же день оно было доставлено к аббату Фортье, который поспешил надписать на конверте адрес и отнести его на почту. Сделано это было вовремя: через день матушка Питу умерла.
Анж был слишком мал, чтобы ощутить всю горечь утраты: он плакал, но не оттого, что сознавал ужас вечного прощания, а оттого, что мать лежала перед ним холодная, бледная, чужая; кроме того, бедный ребенок чутьем угадывал, что ангел-хранитель покинул его дом, что дом этот без хозяйки опустеет, обезлюдеет; он не только не понимал, как сложится его будущая жизнь, но и не знал, куда ему податься сегодня, поэтому, после того как мать его свезли на кладбище, после того как над могилой вырос свежий рыхлый холмик, он уселся рядом и на все приглашения вернуться домой отрицательно мотал головой и отвечал, что никогда не расставался с мамой Мадлен и хочет быть там, где лежит она.
Весь остаток дня и всю ночь он провел на кладбище.
Именно там нашел его благородный доктор — мы, кажется, забыли упомянуть, что будущий покровитель Питу был медиком, — который, поняв, какие обязанности накладывает на него данное им обещание, прибыл в Арамон спустя самое большее двое суток после отправки письма.
Анж был совсем мал, когда увидел доктора впервые. Но, как известно, детские впечатления оставляют в душе вечный след, вдобавок визит таинственного гостя переменил весь уклад жизни в семье Питу. Вместе с ребенком, о котором мы говорили, он принес в дом благополучие: Анж слышал, что мать всегда произносит имя Жильбера с чувством, похожим на преклонение; так что когда тот, уже возмужавший, в звании врача, появился в их доме вторично и прибавил к прошлым благодеяниям обещания на будущие, Питу, видя, как благодарна приезжему мать, рассудил, что и он должен последовать ее примеру; не слишком хорошо понимая, зачем он это делает, бедный мальчуган стал бормотать те же уверения в вечной признательности и глубоком почтении, в каких только что рассыпалась его мать.
Поэтому, когда Питу увидел доктора сквозь решетчатые ворота кладбища, когда тот направился к нему по дорожке, идущей между поросших травой могил и сломанных крестов, мальчик узнал его, поднялся и пошел к нему навстречу; он понял, что этому человеку, прибывшему сюда по зову покойной, он не может сказать «нет», как другим. Он лишь оглядывался назад — это было его единственное сопротивление, — когда Жильбер взял его, плачущего, за руку и увел с кладбища. У ворот стоял элегантный кабриолет; доктор усадил в него бедного мальчугана и повез в город, где остановился вместе со своим юным подопечным на самом лучшем постоялом дворе, каковым в описываемую пору считался «Дельфин». Дом Питу он на время оставил без присмотра, положившись на порядочность соседей и сострадание, внушаемое несчастьем. Добравшись до постоялого двора, он немедля послал за портным, и тот, предупрежденный заранее, явился с запасом готового платья. Жильбер нарочно выбрал наряды подлиннее — предосторожность, которая, судя по тому, как стремительно рос наш герой, не могла принести большой пользы, — и отправился с ним в тот квартал города, о котором мы уже упоминали и который именовался Плё.
Чем ближе они подходили к этому кварталу, тем медленнее передвигал ноги Питу, ибо у него не оставалось никаких сомнений в том, что его ведут к тетке Анжелике; а между тем, хотя бедный сирота видел свою крестную мать, наградившую его поэтическим именем Анж, очень редко, он сохранил об этой почтенной родственнице самые ужасные воспоминания.
В самом деле, ребенку, привыкшему, подобно Питу, к разнообразным проявлениям материнской заботы, общение с теткой Анжеликой не сулило ровно ничего привлекательного; тетка Анжелика была в ту пору старой девой пятидесяти пяти — пятидесяти восьми лет, богобоязненной до глупости и заменившей в угоду дурно понятому благочестию все добрые, человеколюбивые, милосердные чувства хитрой алчностью, постоянно возраставшей от ежедневного общения с городскими ханжами. Не то чтобы она жила исключительно милостыней; на хлеб она зарабатывала пряжей льна и тем, что, с разрешения капитула, за деньги предоставляла стулья прихожанам во время мессы; однако благочестивым особам, обманутым ее богомольными ужимками, случалось дарить ей небольшие суммы; медные деньги она обращала в серебряные, серебряные — в луидоры, один за другим исчезавшие за обивкой старого кресла, причем настолько незаметно для окружающих, что никто и не подозревал об их существовании; во мраке тайника луидоры присоединялись к немалому числу своих собратьев, также осужденных покоиться здесь взаперти до того самого дня, когда смерть старой девы принесет им свободу и отдаст их в руки ее наследника.
Вот к обиталищу этой достопочтенной родственницы и направлялся доктор Жильбер, держа за руку верзилу Питу.
Мы говорим «верзилу», ибо Питу с самого рождения неизменно был чересчур крупным для своего возраста.
В тот миг, когда доктор и его подопечный переступили порог дома мадемуазель Розы Анжелики Питу, эта особа пребывала в самом радужном настроении. Пока в арамонской церкви отпевали ее невестку, в церкви Виллер-Котре происходили крещения и свадьбы, так что за один день благочестивая прихожанка выручила целых шесть ливров. Мелкие монеты мадемуазель Анжелика, по своему обыкновению, превратила в один большой экю, а поскольку еще три таких экю уже давно были у нее припасены, она стала обладательницей целого луидора. Естественно, что день встречи этого луидора с его предшественниками, занявшими свое место за обивкой раньше, был для мадемуазель Анжелики праздником.
Доктор и Питу вошли в ту самую минуту, когда, снова открыв дверь, запертую на время столь важной операции, тетка Анжелика в последний раз осматривала кресло, дабы удостовериться, что снаружи ничто не выдает присутствия сокровища, спрятанного внутри.
Свидание тетки с племянником могло бы стать трогательным, но беспристрастному наблюдателю, каким был доктор Жильбер, оно показалось только смешным. Завидев юного Питу, старая ханжа пролепетала несколько слов о своей бедной сестрице, которую она так любила, и притворилась, будто утирает слезу. Со своей стороны, доктор, желавший как можно глубже заглянуть в сердце старой девы прежде чем составить о ней мнение, сделал вид, будто собирается прочесть мадемуазель Анжелике проповедь о долге теток перед племянниками. Чем дольше он говорил и чем более елейные речи слетали с уст доктора, тем суше становились глаза старой девы, в которых и раньше невозможно было разглядеть слезу, тем сильнее походило ее лицо на древний пергамент; левую руку она поднесла к своему острому подбородку, а на правой принялась загибать иссохшие пальцы, подсчитывая приблизительное число су, что приносит ей в год сдача внаем стульев; волей случая подсчет кончился одновременно с речью доктора, и она смогла немедленно ответить, что, как бы она ни любила бедную сестрицу и какое бы участие ни принимала в дорогом племяннике, скудость ее доходов не позволяет ей, несмотря на то что она приходится мальчику не только теткой, но и крестной матерью, взять на себя дополнительные расходы.
Впрочем, доктор ничего другого и не ожидал, поэтому отказ старой девы не удивил его; великий поклонник новых идей, он уже успел изучить недавно вышедший том Лафатера и применил физиогномическое учение цюрихского философа к костлявой желтой физиономии мадемуазель Анжелики.
Маленькие горящие глазки старой девы, ее длинный нос и тонкие губы открыли ему, что владелица их скупа, эгоистична и лицемерна разом.
Ответ ее, как мы сказали, ничуть не удивил доктора. Однако как исследователю человеческой природы ему было любопытно, до какой степени подвержена богомолка этим трем отвратительным порокам.
— Как же так, мадемуазель, — сказал доктор, — ведь Анж Питу — бедный сирота, сын вашего брата…
— Ох, господин Жильбер, — отвечала старая дева, — сами посудите, мне это будет стоить, по крайней мере, лишних шесть су в день — и хорошо если не больше: ведь этот бездельник наверняка съедает в день по целому фунту хлеба.
Питу скривился: он привык уминать по полтора фунта за одним только завтраком.
— Я уж не говорю о мыле для стирки, — продолжала мадемуазель Анжелика, — а он, я помню, ужасный грязнуля.
В самом деле, Питу очень пачкал свою одежду, что неудивительно, если вспомнить, какой образ жизни он вел; впрочем, надо отдать ему должное: еще чаще он ее рвал.
— Ах! — сказал доктор, — стыдитесь, мадемуазель Анжелика, вам ли, известной своим христианским милосердием, опускаться до подобных расчетов, когда речь идет о вашем племяннике и крестнике!
— Да еще одежду ему чини! — взорвалась старая богомолка, вспомнив все заплаты, какие ставила сестрица Мадлен на куртки и штаны сына.
— Итак, — подвел итог доктор, — вы отказываетесь взять к себе племянника; значит, сироте, изгнанному из дома родной тетки, придется просить милостыню у чужих людей?
При всей своей скупости мадемуазель Анжелика поняла, как скверно она будет выглядеть в глазах соседей, если своим отказом доведет племянника до необходимости побираться.
— Нет, — сказала она, — я его не брошу.
— Превосходно! — воскликнул доктор, радуясь пробуждению доброго чувства в сердце, которое он было уже счел безнадежно зачерствевшим.
— Да, — продолжала старая дева, — я замолвлю за него словечко августинцам из Бур-Фонтена, и они возьмут его к себе послушником.
Доктор, как мы уже сказали, был философом. Известно, что значило быть философом в ту эпоху.
Следовательно, он решился приложить все старания, дабы не позволить августинцам умножить число неофитов, точно так же как августинцы, со своей стороны, приложили бы все старания, чтобы философы не могли похвастать еще одним адептом.
— Ну что ж, — произнес доктор, опуская руку в свой глубокий карман, — раз вы, дорогая мадемуазель Анжелика, находитесь в столь затруднительном положении и, за неимением собственных средств, вынуждены уповать на милосердие, которое проявят к вашему племяннику посторонние, я постараюсь отыскать кого-нибудь, кто сумеет лучше распорядиться той суммой, какую я намерен потратить на воспитание бедного сироты. Мне необходимо вернуться в Америку. До отъезда я отдам вашего племянника Питу в учение к плотнику или каретнику. Впрочем, выбор я предоставлю ему самому. В мое отсутствие он подрастет и к моему возвращению уже овладеет избранным ремеслом, а там я посмотрю, что можно для него сделать. Итак, малыш, поцелуй тетушку, нам пора.
Не успел доктор договорить, как Питу уже бросился к почтенной девице Анжелике, вытянув вперед свои длинные руки; он торопился поцеловать тетку в надежде, что поцелуй этот возвестит их вечную разлуку.
Но когда мадемуазель Питу услышала слово «сумма», когда она увидела, как доктор опускает руку в карман, когда рука эта неосторожно тронула лежавшие там экю, которых, судя по тому, как они оттягивали карман сюртука, было немало, и монеты издали серебристый звон, в сердце старой девы зажглась алчность.
— И все-таки, дорогой мой господин Жильбер, — воскликнула она, — знаете, что я вам скажу?
— Что? — спросил доктор.
— Господи! Да вот что: никто не будет любить этого милого мальчугана так, как я!
И, сжав своими тощими руками руки Питу, она запечатлела на его щеках кислый поцелуй, заставивший мальчика содрогнуться всем телом.
— О! Это-то я знаю, — сказал доктор. — Я был так уверен в вашем добром расположении к нему, что сразу привел его к вам: ведь вы его первая опора. Но все, что вы мне только что сказали, дорогая мадемуазель, убедило меня не только в вашей доброте, но и в вашей бедности; вам самой, я вижу, слишком трудно сводить концы с концами: где уж вам помогать тому, кому жить еще труднее.
— Но, дорогой господин Жильбер, — отвечала старая ханжа, — Господь нас не оставит, Господь дает пропитание всем своим созданиям.
— Разумеется, — сказал Жильбер, — он дает корм птицам, но не определяет в учение сирот. А Анж Питу нуждается именно в том, чтобы его определили в учение, что вам, так сильно стесненной в средствах, обойдется наверняка чересчур дорого, не так ли?
— Ну, а если вы отдадите мне эту сумму, господин доктор?
— Какую сумму?
— Сумму, о которой вы упомянули, сумму, которая лежит у вас вон в том кармане, — прибавила старая ханжа, указав скрюченным пальцем на полу каштанового сюртука.
— Я ее непременно отдам вам, дорогая мадемуазель Анжелика, но, предупреждаю, при одном условии.
— При каком?
— Что ребенок выучится ремеслу.
— О господин доктор, не сомневайтесь, он ему выучится, это обещаю вам я, Анжелика Питу, — отвечала ханжа, не сводя глаз с кармана врача.
— Вы мне это обещаете?
— Обещаю.
— Обещаете всерьез?
— Господь свидетель, дорогой господин Жильбер, я вам в этом клянусь!
И мадемуазель Анжелика простерла свою иссохшую руку.
— Ну что ж, так тому и быть, — сказал доктор, доставая из кармана весьма пухлый мешочек, — как видите, я готов дать вам денег, а вы — готовы ли вы ручаться мне за ребенка?
— Вот вам истинный крест, господин Жильбер!
— Не будем злоупотреблять клятвами, дорогая мадемуазель Питу, давайте-ка лучше подпишем несколько бумаг.
— Я подпишу, господин Жильбер, я подпишу.
— В присутствии нотариуса?
— В присутствии нотариуса.
— Что ж, тогда пойдемте к папаше Нике.
Папаша Нике, которого доктор именовал так фамильярно по праву старого знакомого, был, как уже известно тем из наших читателей, кто знаком с романом «Джузеппе Бальзамо», самым почтенным нотариусом в округе.
Мадемуазель Анжелика также пользовалась его услугами, поэтому ей нечего было возразить против предложения доктора и она последовала за ним в контору нотариуса. Там метр Нике изложил на бумаге обещание девицы Розы Анжелики Питу взять на содержание и выучить какому-нибудь достойному ремеслу Луи Анжа Питу, ее племянника, за каковую услугу ей причитается ежегодно двести ливров. Договор был заключен на пять лет; доктор оставил восемьсот ливров нотариусу, а двести ливров задатка тут же на месте вручил старой деве.
Назавтра доктор покинул Виллер-Котре, предварительно уладив дела с одним из фермеров, о котором у нас еще будет случай рассказать. А мадемуазель Питу, коршуном бросившись на вышеупомянутые двести ливров, препроводила под обивку своего кресла восемь новеньких луидоров.
Что же до оставшихся восьми ливров, они попали в маленькое фаянсовое блюдечко, вот уже тридцать или сорок лет служившее пристанищем для кучи монет разного достоинства; спустя два или три воскресенья им предстояло воссоединиться с недостающими шестнадцатью ливрами и, обратившись в вожделенный золотой, в свой черед перекочевать под обивку кресла.
III
АНЖ ПИТУ У ТЕТКИ
Мы уже видели, что Анжу Питу не слишком улыбалось долгое пребывание в доме тетки Анжелики: обладая инстинктом, не уступавшим инстинкту тех зверей, с которыми он вел войну, а быть может, и превосходящим его, бедный ребенок сразу почувствовал, что жизнь у тетки сулит ему множество не то чтобы разочарований, ибо он не строил никаких иллюзий, но огорчений, тревог и тягот.
Прежде всего, — хотя, надо сказать, вовсе не это настраивало Питу против тетки, — после отъезда доктора Жильбера она и не подумала отдать племянника в учение. Добряк-нотариус завел было речь о соблюдении этого условия, но мадемуазель Анжелика ответствовала, что племянник ее еще мал и, главное, слишком слаб здоровьем, чтобы исполнять работы, которые, быть может, окажутся ему не по силам. Нотариус восхитился добрым сердцем мадемуазель Питу, и обучение ремеслу отложили до следующего года. Впрочем, еще не все было потеряно, мальчику только что исполнилось двенадцать лет.
Переселившись к тетке, без устали обдумывавшей, как извлечь из воспитания племянника как можно больше выгоды, Питу очутился снова в родном лесу или почти в нем и очень скоро убедился, что в Виллер-Котре можно вести такую же жизнь, как и в Арамоне.
Обойдя округу, он выяснил, что самые удобные лужицы находятся близ дороги в Данплё, дороги в Компьень и дороги в Вивье, а дичи больше всего в районе, именуемом Волчьей пустошью.
Покончив с разведкой, Питу приступил к делу.
Легче всего было обзавестись клеем и намазать им ветки — для этого не требовалось никакого капитала: из коры остролиста, растертой пестиком и растворенной в воде, получался клей, что же до веток, то они в изобилии произрастали на окрестных березах. Итак, не сказав никому ни слова, Питу срезал огромный пук веток, изготовил горшок первоклассного клея и однажды на заре, взяв накануне у булочника в долг от имени тетки четыре фунта хлеба, отправился на охоту; домой он вернулся лишь под вечер.
Перед тем как решиться на этот шаг, Питу взвесил возможные последствия. Он предвидел грозу. Не обладая мудростью Сократа, он, однако, так же хорошо изучил нрав тетки Анжелики, как прославленный учитель Алкивиада изучил нрав своей супруги Ксантиппы.
Предчувствия не обманули Питу, однако он надеялся выстоять, предъявив старой ханже свой дневной улов. Увы, он не мог предусмотреть, когда именно над его головой грянет гром.
Гром грянул, едва он переступил порог.
Мадемуазель Анжелика караулила племянника в засаде за дверью, поэтому, лишь только он вошел в комнату, как получил подзатыльник, данный иссохшей рукой, в которой он без дальнейших пояснений отлично узнал руку старой богомолки.
К счастью, голова у Питу была крепкая; он едва почувствовал удар, но, дабы разжалобить тетку, обозлившуюся еще сильнее оттого, что руке ее стало больно, сделал вид, что не удержался на ногах, и рухнул на пол в противоположном конце комнаты; когда же тетка стала приближаться к нему, размахивая веретеном, он поспешил предъявить талисман, который, как он надеялся, мог искупить его побег.
То были две дюжины птиц, в том числе дюжина малиновок и полдюжины певчих дроздов.
Мадемуазель Анжелика с изумлением взглянула на эту добычу; продолжая для порядка ворчать, она завладела птицами и поднесла их к свету.
— Что это такое? — спросила она.
— Вы же видите, добрая тетушка Анжелика, — отвечал Питу, — это птицы.
— Съедобные? — живо спросила старая дева, которая, как всякая богомолка, обожала вкусно поесть.
— Съедобные! — воскликнул Питу. — Еще бы: малиновки и дрозды; будьте покойны, уж они-то съедобны.
— И где же ты их украл, несчастный мальчишка?
— Я их не украл, а поймал.
— Каким образом?
— У лужицы.
— Как это у лужицы?
Питу взглянул на тетку с удивлением; он не мог постичь, что существуют на свете существа настолько темные, чтобы не знать, как ловят птиц у лужицы.
— Лужица, черт подери, это лужица, — отвечал он.
— Да, но я, господин шалопай, не знаю, что такое лужица.
Поскольку сердце Питу было исполнено сострадания к невеждам, он объяснил:
— Лужица — это маленькая лужа; их в лесу штук тридцать; кругом пристраивают ветки, намазанные клеем, а глупые птицы прилетают попить и ловятся на это.
— На что?
— На клей.
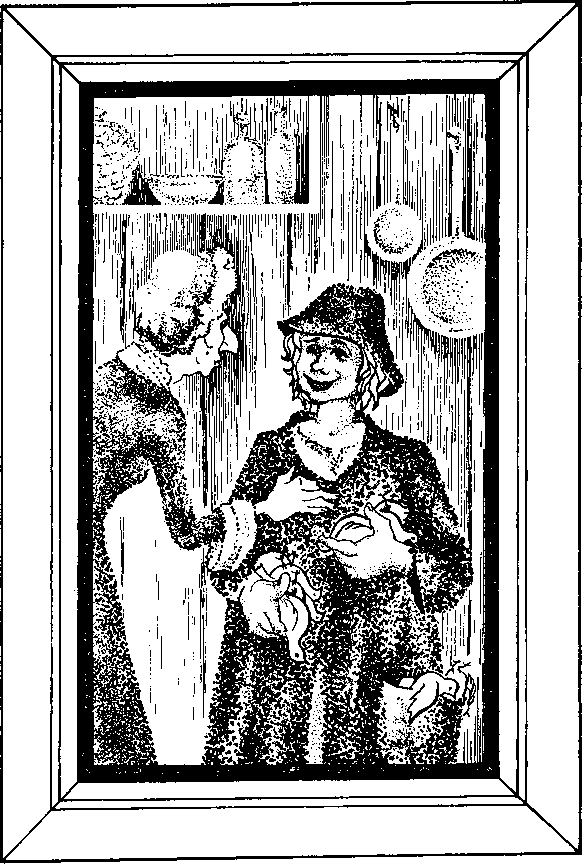
— Ну-ну! — сказала тетка Анжелика, — это-то я понимаю, но кто тебе дал деньги?
— Деньги? — переспросил Питу, удивленный тем, что кто-то мог предполагать в нем обладателя хотя бы одного денье, — деньги, тетушка Анжелика?
— Да.
— Никто.
— В таком случае как же ты купил клей?
— Клей я сделал сам.
— А ветки?
— Тем более.
— Значит, эти птицы…
— Что, тетя?
— Ничего тебе не стоили?
— Наклониться и подобрать — вот и все дела.
— А часто можно туда ходить, к этой лужице?
— Каждый день.
— Превосходно!
— Только этого не нужно делать.
— Не нужно делать… чего?
— Ходить туда каждый день.
— Почему?
— Ну как же! Потому что это портит.
— Портит что?
— Да лужицу же. Понимаете, тетушка Анжелика, если ты поймал птицу…
— Ну?
— То другие птицы туда не прилетят.
— Ты прав, — согласилась тетка.
Впервые с тех пор, как Питу жил у мадемуазель Анжелики, она признала его правоту; это неслыханное событие привело мальчика в восторг.
— Вообще-то, — сказал он, — в те дни, когда нельзя ходить к лужице, можно ходить в другое место. В те дни, когда нельзя ловить птиц, можно ловить кого-нибудь другого.
— Кого же, например?
— Да хоть кроликов.
— Кроликов?
— Да. Мясо съесть, а шкурку продать. За кроличью шкурку дают два су.
Тетка Анжелика с восхищением посмотрела на племянника: она не подозревала в нем такого крупного экономиста. Да, Питу проявил себя.
— Но продавать шкурки буду я?
— Конечно, — отвечал Питу, — как прежде матушка Мадлен.
Ему никогда не приходило в голову, что охота может дать ему самому что-нибудь, кроме пищи.
— А когда ты пойдешь ловить кроликов?
— Когда! Когда у меня будут силки.
— Ну так сделай их.
Питу покачал головой.
— Но ты же сделал себе клей и ветки.
— Да, клей и ветки я делать умею, это правда, но я не умею делать латунную проволоку, ее надо купить у бакалейщика.
— И сколько она стоит?
— Ну, на четыре су я смогу сделать две дюжины силков, — отвечал Питу, произведя подсчеты на пальцах.
— А сколько ты поймаешь кроликов с двумя дюжинами?
— Как повезет — четыре, пять, может быть, шесть; но эти штуки можно использовать и по несколько раз, если их не найдет сторож.
— На тебе четыре су, — сказала тетка Анжелика, — ступай купи у Дамбрена латунной проволоки, а завтра отправляйся ловить кроликов.
— Я расставлю силки завтра, — сказал Питу, — но поймались кролики или нет, узнаю только послезавтра утром.
— Ладно, все равно — ступай.
В городе проволока стоила дешевле, чем в деревне, ведь арамонские торговцы закупают товар в Виллер-Котре. Итак, потратив три су, Питу заполучил проволоку на двадцать четыре силка. Одно су он вернул тетке.
Нежданная честность племянника почти растрогала старую деву. У нее даже мелькнула мысль наградить его этим сэкономленным су. Но, к несчастью для Питу, монета эта, некогда расплющенная молотком, в темноте могла сойти за два су. Мадемуазель Анжелика сочла, что не стоит расставаться с такой выгодной добычей, на которой можно заработать ровно вдвое больше, и спрятала су в карман.
Питу заметил ее колебания, но не придал им значения. Ему и в голову не могло прийти, что тетка может подарить ему целое су.
Он принялся за изготовление силков.
Назавтра он попросил у мадемуазель Анжелики мешок.
— Зачем? — осведомилась старая дева.
— Затем, что он мне нужен, — отвечал Питу.
Держался он крайне таинственно.
Мадемуазель Анжелика вручила племяннику требуемый мешок, положила туда хлеба и сыра на завтрак и обед племяннику, и на заре он отправился на Волчью пустошь.
Тетушка же Анжелика тем временем взялась ощипывать малиновок, которых прочила на завтрак и обед себе самой.
Двух дроздов она отнесла аббату Фортье, а четырех других продала хозяину трактира «Золотой шар», заплатившему ей за каждого по три су и посулившему платить столько же впредь.
Тетушка Анжелика вернулась домой сияющая. С Питу на ее дом снизошло благословение Божие.
«Да, — думала она, поедая малиновок, жирных, как садовые овсянки, и нежных, как лесные жаворонки, — правду говорят, что добрые дела вознаграждаются».
Анж появился дома под вечер; сумка его чудесно округлилась. На этот раз тетушка Анжелика ждала его не за дверью, а на пороге, а вместо подзатыльника мальчика встретила гримаса, отдаленно напоминающая улыбку.
— Вот и я! — сказал, входя в комнату, Питу; в тоне его звучала самоуверенность человека, сознающего, что он прожил день недаром.
— Ты и твой мешок, — сказала тетка Анжелика.
— Я и мой мешок, — повторил Питу.
— И что же лежит в твоем мешке? — осведомилась тетка Анжелика, с любопытством протягивая к нему руки.
— Буковые орешки.
— Буковые орешки!
— Конечно; сами посудите, тетушка Анжелика: если бы папаша Лаженес, сторож Волчьей пустоши, увидал, что я рыскаю по его участку без мешка, он бы тут же спросил: «Что это ты здесь делаешь, маленький бродяга?». И вдобавок что-то бы заподозрил. Другое дело, если я хожу с мешком; он меня спросит, что я здесь делаю, а я в ответ: «Я-то? Я орешки собираю. А что, теперь уже запрещено собирать орешки?». — «Нет». — «Ну вот, раз это не запрещено, значит, вы ничего не можете сказать». И действительно, пусть он только попробует что-нибудь мне сказать, папаша Лаженес, — нет у него такого права.
— Выходит, вместо того, чтобы расставлять силки, ты целый день собирал орешки, бездельник! — завопила тетушка Анжелика, которая, не желая вникать в тонкости, думала только об ускользавших от нее кроликах.
— Наоборот, я расставлял силки, собирая орешки, прямо на глазах папаши Лаженеса.
— И он ничего тебе не сказал?
— Почему же? Он сказал: «Передай привет тетушке Питу». Вообще-то он молодчина, правда?
— А кролики? — продолжала гнуть свое тетушка Анжелика, которую ничто не могло отвлечь от главной цели.
— Кролики? Луна встает в полночь, в час пополуночи я схожу взглянуть, поймались они или нет.
— Сходишь куда?
— В лес.
— Как, в час пополуночи ты пойдешь в лес?
— Конечно.
— И ты не боишься?
— А чего мне бояться?
Тетушка Анжелика была столько же очарована храбростью Питу, сколько удивлена его ловкостью.
Дело в том, что Питу, простодушный, как все дети природы, не знал ни одного из тех ложных страхов, что мучают городских детей.
Поэтому в полночь он, долго не раздумывая, отправился в путь вдоль кладбищенской стены. Невинный ребенок, никогда не оскорблявший своим независимым существованием ни Бога, ни людей, так же мало боялся мертвых, как и живых.
Опасался Питу одного-единственного существа — папаши Лаженеса, отчего нарочно сделал крюк, чтобы пройти мимо его дома. Поскольку двери и ставни были закрыты, а свет в доме потушен, Питу, дабы удостовериться, что сторож у себя, а не в лесу, принялся лаять по-собачьи с таким совершенством, что Ронфло, такса папаши Лаженеса, приняла этот лай всерьез и, разразившись лаем еще более заливистым, подбежала к двери, чтобы принюхаться.
С этой минуты Питу успокоился. Раз Ронфло дома, значит, дома и папаша Лаженес. Ронфло и папаша Лаженес были неразлучны, и если на горизонте показывался один, можно было поручиться, что очень скоро рядом возникнет и другой.
Итак, совершенно успокоенный, Питу направил свои стопы к Волчьей пустоши. Силки сделали свое дело, два кролика попались в ловушки и там задохлись.
Питу сунул их в широкий карман того чересчур длинного кафтана, который уже через год стал ему слишком короток и возвратился к тетушке.
Старая дева уже легла, но жадность не давала ей уснуть; подобно Перетте, она уже сосчитала, какую сумму выручит, если будет продавать по четыре кроличьи шкурки в неделю, и подсчеты эти так увлекли ее, что она не сомкнула глаз; увидев мальчика, она с дрожью в голосе осведомилась, что он принес.
— Всего пару. Эх, тетушка Анжелика, не моя вина, что я не принес больше; сдается мне, что кролики папаши Лаженеса — большие хитрецы.
Результат превзошел все ожидания тетушки Анжелики; дрожа от радости, она взяла несчастных зверьков, обследовала их шкурки и, убедившись, что они не понесли никакого урона, заперла тушки в кладовую, где отроду не водилось такой пищи, какая появилась там стараниями Питу.
Затем она довольно ласково предложила Питу лечь спать, и уставший ребенок последовал ее совету, даже не поужинав, что еще больше расположило к нему тетушку.
Через день Питу повторил свой опыт: удача снова улыбнулась ему; более того, он поймал уже не двух, а целых трех кроликов.
Две тушки отправились в трактир «Золотой шар», третья — в дом священника. Тетушка Анжелика не упускала случая задобрить аббата Фортье, который со своей стороны всегда напоминал о ее добродетелях благотворителям из числа своих прихожан.
Дела шли таким чередом три или четыре месяца подряд. Тетушка Анжелика была в восторге; Питу находил положение сносным. Он вел в Виллер-Котре почти такую же жизнь, как в Арамоне, разве что здесь его существование не скрашивала материнская любовь. Однако неожиданное обстоятельство, которое, впрочем, вполне можно было предвидеть, развеяло иллюзии тетушки и прервало лесные экспедиции племянника.
Из Нью-Йорка пришло письмо от доктора Жильбера. Ступив на американский берег, путешественник-философ не забыл своего малолетнего подопечного. Он осведомлялся у метра Нике, соблюдаются ли поставленные им условия, и требовал либо немедленного исполнения договора — в том случае, если он до сих пор не выполнен, либо его расторжения — в том случае, если никто и не собирается его выполнять.
Положение возникло нешуточное. На карту была поставлена репутация нотариуса; он немедля явился к тетушке Питу с письмом доктора в руках и потребовал выполнить обещание.
Отступать старой деве было некуда: вид Питу опровергал все ссылки на его слабое здоровье. Он был высок и тощ, но деревья в лесу тоже высоки и тощи, что не мешает им пребывать в самом добром здравии.
Мадемуазель Анжелика попросила неделю на размышления, с тем чтобы выбрать для племянника ремесло.
Питу был так же печален, как и его тетка. Его образ жизни казался ему превосходным, и другого он не желал.
В эту неделю обоим было не до лужиц и не до браконьерства; к тому же стояла зима, а зимой птицы пьют где попало; кроме того, только что выпал снег, и мальчик не осмеливался ставить силки. Снег хранит следы подошв, а Питу обладал парой таких ступней, что папаша Лаженес меньше чем через сутки наверняка определил бы, какой ловкий плут опустошает охраняемые им владения.
В отсутствие добычи старая дева опять выпустила когти. Перед Питу вновь оказалась прежняя тетушка Анжелика, наводившая на него беспредельный ужас и подобревшая на мгновение лишь под действием корысти — главного движителя ее существования.
Чем ближе подходил назначенный срок, тем сильнее злобилась старая дева, так что на пятый день Питу уже только и мечтал о том, чтобы тетка немедля решилась отдать его в учение — не имеет значения, к кому, лишь бы не оставаться при ней козлом отпущения.
Внезапно измученный ум старой ханжи осенила великолепная идея. Идея эта мгновенно вернула ей покой, утраченный шесть дней назад.
Заключалась эта идея в том, чтобы попросить аббата Фортье безвозмездно принять несчастного Питу в школу, а затем, выхлопотав ему стипендию, учрежденную его высочеством герцогом Орлеанским, отдать его в семинарию. Тетке Анжелике эта учеба не стоила бы ни су, а г-н Фортье был просто обязан порадеть племяннику богомольной особы, сдающей внаймы стулья в его церкви и к тому же полгода ублажавшей его дроздами и кроликами. Таким образом Анж, помещенный под стеклянный колпак, приносил бы тетушке доход в настоящем и сулил его в будущем.
Аббат Фортье в самом деле принял Анжа в свою школу, не взяв никакой платы. Аббат этот был добряк, менее всего заслуживавший упреков в корысти; он дарил свои познания невеждам, отдавал свои деньги неимущим и был непримирим только в одном отношении: он терпеть не мог солецизмов и яростно ненавидел варваризмы. В этом случае друг и враг, богач и бедняк, ученик, за которого платят, и ученик, посещающий школу бесплатно, — все были для него равны; он обрушивался на грешников с римской беспристрастностью и спартанским стоицизмом, а рука у него была тяжелая. Родители знали об этом и, решившись определить детей в пансион аббата Фортье, отдавали их в полное его распоряжение; на попытки матерей вступиться за своих отпрысков аббат отвечал изречением, выгравированным на поверхности его ферулы и на рукоятке его плетки: «Кого люблю, того и бью».
Итак, по просьбе тетки Анж Питу был принят в число учеников аббата Фортье. Старая богомолка, гордая этим обстоятельством, которое, однако, гораздо меньше радовало ее племянника, вынужденного проститься с независимой бродячей жизнью, отправилась к метру Нике и объявила, что не только выполнила условия доктора Жильбера, но и сделала сверх того. В самом деле, доктор потребовал, чтобы Анжа Питу выучили достойному ремеслу: тетка же готова сделать для ребенка больше и дать ему превосходное образование, и где? В том самом пансионе, где учится Себастьен, за что доктор платит пятьдесят ливров.
Правда, обучался Анж бесплатно, но об этом доктору Жильберу знать было решительно незачем, а если бы тайна и раскрылась, она никого бы не удивила: бескорыстие и беспристрастие аббата Фортье были общеизвестны. Подобно своему Небесному Учителю, он возлагал на школяров руки, говоря: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне». Однако отеческие эти руки были неразлучны с учебником и пучком розог, так что чаще всего от Иисуса, к которому дети приходили в слезах, чтобы уйти утешенными, аббат Фортье отличался самым решительным образом: к нему ученики приходили, объятые страхом, а уходили, глотая слезы.
Новый ученик вошел в класс со старым сундучком под мышкой, роговой чернильницей в руках и двумя-тремя обломками перьев за ухом. Сундучок был призван с грехом пополам заменить пюпитр, чернильницу подарил новоявленному школяру бакалейщик, а обломки перьев мадемуазель Анжелика прибрала к рукам накануне, при посещении метра Нике.
Анжа Питу ждал тот братский и нежный прием, который, рождаясь у детей, водится у взрослых, а именно — град насмешек. Весь класс принялся издеваться над новеньким. Двоих учеников оставили после уроков из-за его соломенных волос, двух других — из-за его удивительных коленей, которым мы уже посвятили несколько слов. Еще двое сравнили ноги Питу с узловатыми корабельными канатами. Острута имела успех, обошла стол, вызвала всеобщее веселье и, следовательно, насторожила аббата Фортье.
В результате, отучившись четыре часа и выйдя на улицу в полдень, Питу, за все это время не сказавший ни единого слова никому из соучеников и мирно зевавший за своим сундучком, успел нажить в классе шестерых врагов, причем врагов тем более свирепых, что он ничем не был перед ними виноват. Шестеро обиженных поклялись на печке, заменяющей школярам алтарь отечества, что выдерут новенькому соломенные волосы, выцарапают голубые фаянсовые глаза и выпрямят кривые ноги.
Питу даже не подозревал о намерениях противников.
Покидая класс, он поинтересовался у соседа, отчего это все уходят, а шесть человек остаются.
Сосед посмотрел на Питу косо, назвал его подлым доносчиком и удалился, не пожелав вступать с ним в разговор.
Питу не мог уразуметь, каким образом он, не произнеся и слова, ухитрился стать подлым доносчиком. Однако во время уроков он услышал от школяров и аббата Фортье столько непостижимых для него вещей, что отнес ответ соседа к числу истин, чересчур возвышенных для его ума.
Завидев Питу, возвращающегося из школы, тетушка Анжелика, воспылавшая любовью к образованию, ради которого ей пришлось принести такие огромные жертвы, спросила, чему он научился в школе.
Питу отвечал, что он научился молчать. Ответ, достойный пифагорейца. Правда, пифагореец изъяснил бы эту мысль при помощи знаков.
Новоявленный школяр вернулся в класс после обеда без особенного отвращения. Утренние занятия помогли школярам изучить физический облик Питу; вечерние помогли преподавателю исследовать его нравственный облик. По зрелом размышлении аббат Фортье пришел к выводу, что из Питу вышел бы отличный Робинзон Крузо, но шансов стать Фонтенелем или Боссюэ у него очень мало.
В течение всего вечернего урока, гораздо более утомительного для будущего семинариста, чем урок утренний, школяры, наказанные из-за него, несколько раз грозили ему кулаком. Во всех странах, как цивилизованных, так и нет, этот жест не сулит ничего хорошего. Питу приготовился к обороне.
Наш герой не ошибся: по выходе из класса, а точнее, из владений аббата Фортье, шестеро наказанных известили его о том, что ему предстоит заплатить им за два часа беззаконного заточения наличными с процентами.
Питу понял, что речь идет о дуэли на кулаках. Хотя он вовсе не был знаком с шестой книгой «Энеиды», где юный Дарет и старый Энтелл предаются этому занятию к вящему восторгу троянских беглецов, он знал сей вид отдохновения, не чуждый крестьянам его родной деревни. Поэтому он объявил, что готов сразиться с тем из противников, кто желает быть первым, а затем со всеми остальными по очереди. Этим заявлением новичок заслужил немалое уважение сотоварищей.
Они приняли условия Питу. Зрители стали в круг, а бойцы, сбросив один куртку, а другой кафтан, ринулись друг на друга.
Нам уже случалось говорить о руках Питу. Руки эти были мало приятными на вид, но еще неприятнее было ощутить их силу. Кулаки у нашего героя были с детскую голову, и, хотя бокс в ту пору еще не привился во Франции, а следовательно, начала его были совершенно неизвестны Питу, он влепил своему первому противнику столь меткий удар, что глаз у того немедленно заплыл и украсился синяком абсолютно правильной формы: самый ловкий математик, вооруженный циркулем, не сумел бы начертить такую идеальную окружность.
Противника сменил следующий боец. Питу устал в первом бою, но и его соперник явно уступал в силе и ловкости предыдущему дуэлянту. Вследствие этого второй бой кончился гораздо скорее первого. Внушительный кулак Питу обрушился на нос врага, и потекшие из обеих ноздрей струйки крови немедленно засвидетельствовали мощь удара.
Третьему бойцу повезло больше других: он отделался сломанным зубом. Остальные трое предпочли не настаивать на продолжении сражения.
Питу прошел сквозь толпу, с почтением расступившуюся перед победителем, и, целый и невредимый, направился к своим пенатам, точнее, к пенатам своей тетушки.
Назавтра трое учеников явились в школу один с подбитым глазом, другой с расквашенным носом, третий с распухшими губами; аббат Фортье учинил дознание, ведь он отвечал не только за нравственное, но и за физическое здоровье своих подопечных. Однако у школяров есть свои добродетели: никто из раненых бойцов не Выдал товарища, и лишь от совершенно постороннего свидетеля аббату Фортье удалось узнать, что урон троим бедолагам нанес не кто иной, как Питу. Родители всех троих пожаловались аббату. Необходимо было покарать обидчика. Питу на три дня лишился перемены: один день причитался ему за глаз, другой — за нос, третий — за зуб.
Эти три дня вдохновили мадемуазель Анжелику на хитроумное новшество. Заключалось оно в том, чтобы оставлять Питу без обеда всякий раз, как аббат Фортье оставит его без перемены. Решение это бесспорно должно было пойти на пользу Питу, ибо кому хочется дважды претерпевать наказание за одну и ту же провинность.
Впрочем, Питу так и не смог понять, отчего его назвали доносчиком, раз он ничего не говорил, и отчего его наказали за то, что он поколотил тех, кто хотел поколотить его; но если бы мы понимали все в этом мире, мы лишились бы главных источников его очарования: тайны и неожиданности.
Три дня Питу провел без перемен и без обеда, довольствуясь завтраком и ужином.
Слово «довольствуясь» тут не слишком уместно, поскольку Питу не был доволен ни в малейшей степени, однако язык наш так беден, а Академия так сурова, что приходится довольствоваться тем, что мы имеем.
Однако мужество, с которым Питу нес наказание и не подумав выдать противников, по правде говоря, напавших на него первыми, снискало ему всеобщее уважение. Правда, свою роль сыграли, пожалуй, и три удара его могучего кулака.
С этого дня Питу зажил жизнью обычного школяра, с той только разницей, что товарищи его получали за переводы с латыни разные отметки, смотря по обстоятельствам, Питу же неизменно занимал пятое или шестое место от конца и оставался без перемены ровно в два раза чаще, чем все остальные.
Впрочем, надо сказать, что не меньше трети этих многочисленных наказаний имели причиной одну особенность натуры Питу вкупе с тем образованием, какое он получил, а точнее, не получил в раннем детстве, — иными словами, его природную тягу к животным.
Знаменитый сундучок, который тетушка Анжелика нарекла пюпитром, превратился благодаря своей вместительности и устроенным в нем Анжем Питу многочисленным отделениям в некое подобие Ноева ковчега, где содержались всевозможные ползающие, прыгающие и летающие твари. Там жили ящерицы, ужи, муравьиные львы, жуки-навозники и лягушки, и все эти твари становились Питу тем дороже, чем больше кар он из-за них претерпевал.
Свой зверинец Питу собирал во время прогулок, которые совершал на неделе. Ему захотелось иметь саламандр, очень популярных в Виллер-Котре, ибо они входят в герб Франциска I, украсившего их скульптурными изображениями все камины, и он раздобыл их; правда, одну сильно занимавшую его загадку он так и не смог разрешить и успокоился на том, что разгадка этой тайны выше его понимания; дело в том, что он постоянно находил саламандр в воде, поэты же всегда помещают этих пресмыкающихся в огонь. Это обстоятельство внушило Питу, превыше всего ставившему точность, глубокое презрение к поэтам.
Сделавшись владельцем двух саламандр, Питу пустился на поиски хамелеона, но на сей раз все его старания оказались напрасны. В конце концов Питу решил, что хамелеона в природе вообще не существует или же он обитает в других широтах.
Постановив это, Питу прекратил упорные поиски хамелеона.
Остальные же две трети наказаний обрушивались на Питу из-за проклятых солецизмов и окаянных варваризмов, произраставших в его переводах на латынь, словно плевелы на хлебном поле.
По четвергам и воскресеньям Питу был свободен от школы и посвящал эти дни ловле птиц и браконьерству; однако, поскольку рос он не по дням, а по часам и в шестнадцать лет был верзилой пяти футов четырех дюймов росту, некое обстоятельство слегка отвлекло его от любимых занятий.
Подле дороги, ведущей к Волчьей пустоши, расположена деревня Пислё — быть может, та самая, имя которой носила прекрасная Анна д’Эйи, любовница Франциска I.
В этой деревне жил фермер папаша Бийо, и по чистой случайности едва ли не всякий раз, как Питу проходил мимо его фермы, на пороге стояла хорошенькая девушка лет семнадцати-восемнадцати, свежая, резвая, веселая; при крещении ей дали имя Катрин, но в деревне ее чаще звали по имени отца Бийотой.
Вначале Питу просто кланялся Бийоте; мало-помалу он расхрабрился и начал кланяться ей с улыбкой; наконец в один прекрасный день, поклонившись и улыбнувшись, он остановился, покраснел и произнес фразу, казавшуюся ему верхом дерзости:
— Здравствуйте, мадемуазель Катрин!
Катрин была добрая девушка; она отвечала Питу как старому знакомцу: в самом деле, уже два или три года она по меньшей мере раз в неделю видела, как Питу проходит мимо ее родной фермы. Вся штука в том, что Катрин видела Питу, но Питу ее не видел. Ибо Катрин было тогда шестнадцать лет, а Питу всего четырнадцать. Когда Питу стало шестнадцать, все, как мы убедились, пошло по-другому.
Мало-помалу Катрин начала по достоинству ценить таланты Питу, ибо он дарил ей плоды своей деятельности в виде самых красивых птиц и самых жирных кроликов. Вследствие этого Катрин принялась хвалить Питу, а Питу, тем более чувствительный к похвалам, что ему редко доводилось их слышать, поддался очарованию новизны и, вместо того, чтобы, как прежде, направлять свои стопы в Волчью пустошь, останавливался на полдороге, а вместо того, чтобы собирать буковые орешки и расставлять силки, бродил с утра до вечера вокруг фермы папаши Бийо в надежде на мгновение увидеть Катрин.
В результате число кроличьих шкурок существенно уменьшилось, не говоря уже о малиновках и дроздах.
Тетушка Анжелика высказала свое неудовольствие. Питу отвечал, что кролики сделались более недоверчивыми, а птицы стали замечать ловушки и пить росу из листьев либо из складок древесной коры.
Единственное, что утешало тетушку Анжелику, удрученную смекалкой кроликов и хитростью птиц, которые она объясняла успехами философии, была мысль о стипендии, ожидающей ее племянника; она предвкушала, как он поступит в семинарию, проучится там три года и выйдет из ее стен аббатом. А ведь окончить свои дни экономкой аббата было заветной мечтой мадемуазель Анжелики.
Старая дева твердо верила в исполнение этой мечты: ведь, став аббатом, Анж Питу не мог не взять тетку к себе в экономки, особенно после всего, что тетка для него сделала.
Сладостные грезы старой девы омрачало лишь одно: аббат Фортье, с которым она иной раз делилась своими планами, отвечал, качая головой:
— Дражайшая мадемуазель Питу, чтобы сделаться аббатом, вашему племяннику следовало бы уделять поменьше внимания естественной истории и побольше читать «De viris illustribus» или «Selectae е profanis scriptoribus».
— Что вы имеете в виду? — спрашивала мадемуазель Анжелика.
— Что он допускает слишком много варваризмов и чудовищно много солецизмов, — отвечал аббат Фортье, приводя мадемуазель Анжелику в полное смятение.
IV
О ВЛИЯНИИ, КОТОРОЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА ТРИ ВАРВАРИЗМА И СЕМЬ СОЛЕЦИЗМОВ
Мы были обязаны изложить вам все эти подробности, ибо без них любой читатель, как бы умен он ни был, не смог бы постичь весь ужас положения, в котором очутился Питу после того, как его выгнали из школы.
Бессильно опустив одну руку, придерживая другой на голове сундучок, он направился в сторону Плё; в ушах у него все еще звучали гневные возгласы аббата Фортье, а задумчивость его более всего походила на полное оцепенение.
Наконец с уст его сорвалась короткая фраза, выразившая самую суть его размышлений:
— Иисусе! Что скажет тетушка!
В самом деле, что могла сказать мадемуазель Анжелика Питу об этом крушении всех ее надежд?
Между тем Анж знал о планах тетки ровно столько, сколько знают верные и умные собаки о планах своих хозяев, то есть основывал свои выводы лишь на выражении ее лица. Инстинкт — бесценный поводырь, он никогда не обманывает; другое дело рассуждения, способные сбиться с пути под действием фантазии.
Из горестного восклицания, сорвавшегося с уст Анжа Питу, следовало, что он понимал, какое неудовольствие изъявит старая дева, узнав роковую новость. А опыт подсказывал ему, что если неудовольствие достигает неслыханных размеров, то и следствия его должны быть ни с чем не сообразны.
Во власти этих ужасных дум Питу добрался до Плё. Всего триста шагов отделяли ворота школы от начала улицы, где жила мадемуазель Питу, но племяннику ее потребовалось целых четверть часа, чтобы одолеть это расстояние.
Часы на колокольне пробили час.
Тут он заметил, что потратил на решительное объяснение с аббатом и дорогу домой целый час, а значит, утратил все шансы получить обед.
Мы уже упоминали, каким спасительным способом старая дева карала племянника за безрассудные порывы и школьные неуспехи; пообедать в доме тетушки Анжелики позже половины первого было невозможно, и это позволяло ей экономить на несчастном Питу худо-бедно шестьдесят обедов в год.
Но на этот раз запоздавшего школяра волновала вовсе не утрата скудного теткиного обеда; хотя завтрак был еще более скудным, у Питу было слишком тяжело на сердце, чтобы он мог ощутить, как пусто у него в желудке.
Для всякого школяра, каким бы бездельником он ни был, самая нестерпимая пытка — это незаконное пребывание в каком-нибудь укромном уголке после того, как его выгнали из школы; это окончательные и насильственные каникулы, которые он вынужден сносить, меж тем как товарищи его с папками и книгами под мышкой каждый день отправляются в школу. В такую пору ненавистный коллеж становится предметом мечтаний. Школяр всерьез задумывается о тех переводах на латынь и с латыни, о которых так мало беспокоился прежде и которыми занимаются все остальные в его отсутствие. Ученик, изгнанный учителем, похож на верующего, отлученного от Церкви за безбожие, когда тот, лишившись права войти в церковь, тут же проникается страстным желанием услышать мессу.
Вот отчего, чем ближе подходил Питу к дому тетки, тем ужаснее представлялась ему жизнь, ожидающая его в этих стенах. Вот отчего впервые в жизни он воображал школу земным раем, откуда аббат Фортье, новоявленный ангел-истребитель, только что изгнал его, употребив вместо огненного меча свою плетку.
Однако, как медленно ни шел Питу, делая через каждые десять шагов все более продолжительные остановки, в конце концов он добрался до дверей дома, внушавшего ему такой сильный страх. Волоча ноги и машинально теребя шов на штанах, он переступил порог.
— Ах, тетушка Анжелика, знаете, мне что-то неможется, — сказал бедняга, дабы предупредить насмешки и упреки, а быть может, надеясь вызвать к себе хоть немного жалости.
— Ладно-ладно, — сказала мадемуазель Анжелика, — знаю я эту немощь; наверное, если бы перевести стрелку на полтора часа назад, ты бы мигом выздоровел.
— Ах, Боже мой, вовсе нет, — отвечал Питу, — я ничуть не голоден.
Тетушка Анжелика удивилась и едва ли не встревожилась; болезнь страшит не только любящих матерей, но и злых мачех: матерей пугает опасность для здоровья, мачех — опасность для кошелька.
— Ну-ка, признавайся, — сказала старая дева, — что с тобой стряслось?
При этих словах, произнесенных, впрочем, без особой нежности, Анж Питу заплакал, причем лицо его скривила гримаса, не станем скрывать, на редкость уродливая и неприятная.
— Ох, милая тетушка, у меня такое горе!
— Какое же? — спросила тетка.
— Господин аббат выгнал меня! — воскликнул Анж Питу, рыдая.
— Выгнал? — переспросила мадемуазель Анжелика, как бы не в силах уразуметь, что произошло.
— Да, тетушка.
— Откуда же он тебя выгнал?
— Из школы.
И Питу разрыдался еще пуще прежнего.
— Из школы?
— Да, тетушка.
— Навсегда?
— Да, тетушка.
— Значит, с экзаменом, с конкурсом, со стипендией, с семинарией — со всем этим покончено?
Рыдания Питу перешли в вой. Мадемуазель Анжелика взглянула на него так, словно хотела прочесть в глубине его души истинные причины его исключения.
— Бьюсь об заклад, что вы опять прогуливали, — сказала она, — бьюсь об заклад, что вы опять рыскали подле фермы папаши Бийо! Какой стыд! Будущий аббат!
Анж помотал головой.
— Вы лжете! — вскричала старая дева, чей гнев разгорался тем сильнее, чем очевиднее становилась для нее серьезность положения, — вы лжете! Не далее чем в прошлое воскресенье вас видели с Бийотой в аллее Вздохов.
Лгала сама мадемуазель Анжелика, но ханжи во все века считали себя вправе лгать, ибо руководствовались иезуитской аксиомой, гласящей: «Дозволено утверждать ложь, дабы узнать истину».
— Никто не мог видеть меня в аллее Вздохов, — сказал Анж, — я там не был: мы гуляли подле Оранжереи.
— Ах так, несчастный! Значит, вы в самом деле были с нею!
— Но, тетушка, — возразил Анж, краснея, — мадемуазель Бийо тут вовсе ни при чем.
— Да, да, зови ее мадемуазель, чтобы спрятать концы в воду, бесстыдник! Я все расскажу духовнику этой кривляки!
— Но, тетушка, я вам клянусь, что мадемуазель Бийо не кривляка.
— Вы еще ее защищаете! Подумали бы лучше о себе! Выходит, вы уже спелись. Час от часу не легче! Куда мы катимся, Господи Боже мой!.. Шестнадцатилетние дети!
— Нет, тетушка, мы вовсе не спелись с Катрин, наоборот, она вечно меня прогоняет.
— Ах вот как! Вот вы себя и выдали! Вы уже зовете ее попросту Катрин! Да, она вас прогоняет, лицемерка… при людях.
— Подумать только, — воскликнул Питу, потрясенный этим открытием, — подумать только, ведь это чистая правда; как же я этого не замечал!
— Вот видишь! — сказала старая дева, воспользовавшись простодушным восклицанием племянника, дабы убедить его, что он в сговоре с Бийотой, — но постой, я наведу тут порядок. Господин Фортье — ее духовник; я попрошу его запереть тебя недели на две и посадить на хлеб и воду, а что до твоей мадемуазель Катрин, так если ей не излечиться от любви к тебе, кроме как побывав в монастыре, что ж, мы ей поможем! Мы ее отправим в Сен-Реми.
Старая дева произнесла последние слова властно и убежденно, как человек, наделенный властью, и Питу содрогнулся.
— Милая тетушка! — сказал он умоляюще. — Клянусь вам, вы ошибаетесь, если думаете, что мадемуазель Бийо хоть сколько-нибудь виновата в моем несчастье.
— Непристойность — мать всех пороков, — наставительно изрекла мадемуазель Анжелика.
— Тетушка! Повторяю вам: аббат прогнал меня не за непристойности, он прогнал меня за то, что у меня слишком много варваризмов, да еще и солецизмы порой случаются; он сказал, что они не дают мне никакой надежды на стипендию.
— Никакой надежды? Значит, ты не получишь стипендии и не будешь аббатом, а я не буду твоей экономкой?
— Боже мой! Нет, тетушка.
— Кем же ты в таком случае будешь? — спросила вконец испуганная старая дева.
— Не знаю.
Питу жалобно воздел очи горе.
— Кем будет угодно Провидению! — добавил он.
— Провидению? — воскликнула мадемуазель Анжелика. — Так вот, значит, в чем дело: его сбили с толку, ему заморочили голову новыми идеями, ему внушили принципы философии.
— Этого не может быть, тетушка, потому что философию начинают проходить после риторики, а я с тривиумом никак покончить не могу.
— Нечего мне зубы заговаривать, я тебе не про ту философию толкую. Я тебе толкую про философию философов, несчастный! Про философию господина Аруэ, господина Жан Жака, господина Дидро, который написал «Монахиню».
Мадемуазель Анжелика перекрестилась.
— «Монахиню»? — спросил Питу. — А что это такое, тетушка?
— Ты читал ее, несчастный?
— Нет, тетушка, клянусь, что нет!
— Теперь я понимаю, отчего тебе не нравится Церковь.
— Вы ошибаетесь, тетушка, это я не нравлюсь Церкви.
— Положительно, это не мальчишка, а змееныш. Он еще смеет возражать!
— Нет, тетушка, я просто объясняю.
— Увы, он погиб! — вскричала мадемуазель Анжелика и в полнейшем изнеможении рухнула в свое любимое кресло.
На самом деле слова «Он погиб!» не означали ничего, кроме «Я погибла!».
Опасность была неминуемой. Тетушка Анжелика решилась на крайнюю меру: словно подброшенная пружиной, она поднялась и бросилась к аббату Фортье, дабы потребовать у него объяснений, а главное, в последний раз попытаться его переубедить.
Питу проводил ее глазами до порога; когда она вышла из дома, он в свою очередь подошел к дверям и увидел, как она с невиданной быстротой устремилась к улице Суасон. Сомнений быть не могло: она отправилась к его учителю.
Чем бы ни кончилось дело, передышка Анжу была обеспечена. Решив воспользоваться этой четвертью часа, подаренной ему Провидением, он собрал остатки теткиного обеда, чтобы покормить своих ящериц, поймал пару мух для своих муравьев и лягушек, потом, пошарив по шкафам и ларям, поел сам, ибо с одиночеством к нему вернулся аппетит.
Покончив со всеми этими приготовлениями, он возвратился к двери, дабы вторая мать не застала его врасплох.
Второй матерью Питу именовала себя мадемуазель Анжелика.
Пока Питу поджидал тетку, в конце переулка, соединяющего улицу Суасон с улицей Лорме, показалась красивая молодая девушка верхом на лошади; она везла с собой две корзины: одну с цыплятами, другую с голубями. То была Катрин. Заметив Питу на пороге теткиного дома, она остановилась.
Питу, по обыкновению, покраснел, потом разинул рот и с восхищением уставился на мадемуазель Бийо, по его понятиям высшее воплощение человеческой красоты.
Девушка быстро окинула взглядом улицу, легонько кивнула Питу и двинулась дальше. Питу, трепеща от восторга, кивнул ей в ответ.
Все это заняло всего несколько секунд, однако лицезрение мадемуазель Катрин настолько захватило великовозрастного школяра, что он не мог отвести глаз от места, где она только что находилась, и не заметил, как тетка, возвратившаяся от аббата Фортье, подошла к нему и, побледнев от гнева, схватила его за шиворот.
Пробужденный от прекрасных грез той электрической искрой, какая всегда пробегала по его телу, когда к нему прикасалась мадемуазель Анжелика, он обернулся, перевел глаза с разъяренного лица тетки на свою собственную руку и с ужасом увидел, что в руке этой зажата половина огромного ломтя хлеба, щедро намазанного свежим маслом и покрытого куском сыра.
Мадемуазель Анжелика испустила крик ярости, Питу — стон ужаса. Анжелика подняла крючковатую руку — Питу опустил голову; Анжелика вооружилась случившимся поблизости веником — Питу выронил бутерброд и, не тратя времени на объяснения, обратился в бегство.
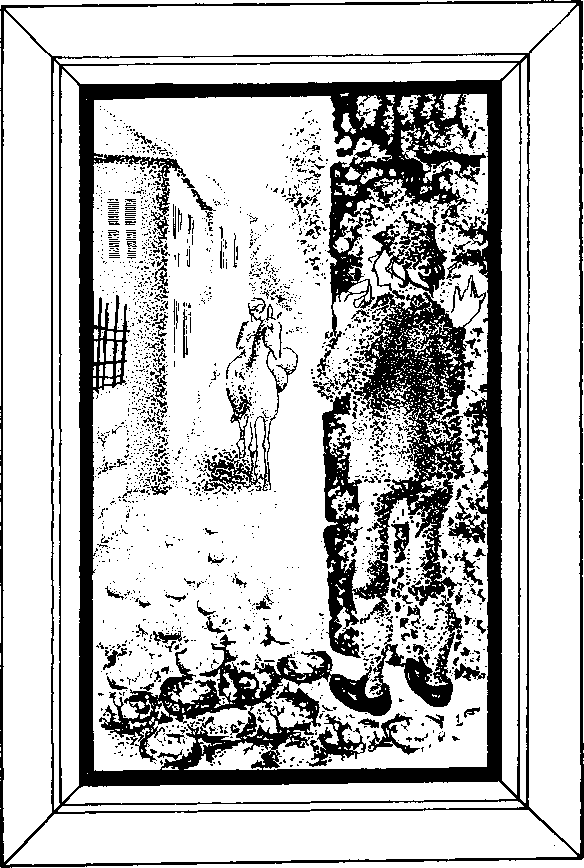
Два сердца поняли друг друга и согласились в том, что между ними не может быть ничего общего.
Мадемуазель Анжелика вошла в дом и заперла дверь изнутри на два оборота. Питу, которому скрип в замочной скважине показался запоздалым ударом грома, припустился еще быстрее.
Сцена эта привела к последствиям, которых не могла предвидеть мадемуазель Анжелика и тем более не ждал Питу.
V
ФЕРМЕР-ФИЛОСОФ
Питу мчался так, словно за ним гнались все черти ада, и вмиг выбежал из города.
Обогнув угол кладбища, он едва не уткнулся носом в круп коня.
— О Боже! — произнес нежный голосок, хорошо знакомый Питу. — Куда вы так спешите, господин Анж! Вы так нас напугали, что Малыш чуть не закусил удила.
— Ах, мадемуазель Катрин, — воскликнул Питу, отвечая не столько девушке, сколько собственным мыслям, — ах, мадемуазель Катрин, какое несчастье, Господи, какое несчастье!
— Иисусе! Вы меня пугаете, — сказала девушка, останавливая коня посреди дороги. — Что такое стряслось, господин Анж?
— Стряслось то, мадемуазель Катрин, — отвечал Питу, словно жалуясь на величайшую несправедливость, — что я не буду аббатом.
Однако мадемуазель Бийо встретила эту весть вовсе не так, как ожидал Питу; она покатилась со смеху.
— Вы не будете аббатом? — переспросила она.
— Нет, — отвечал Питу горестно, — выходит, что это невозможно.
— Что ж! Значит, вы будете солдатом.
— Солдатом?
— Конечно. Стоит ли огорчаться из-за такого пустяка? Я-то уж было подумала, что у вас скоропостижно умерла тетушка.
— Ах! — сказал Питу с чувством. — Для меня она все равно что умерла: она выгнала меня из дому.
— Простите, — сказала Бийота с хохотом, — значит, вы даже не можете ее оплакивать — а это бы вас так утешило.
И Катрин расхохоталась еще громче, снова изумив Питу.
— Но разве вы не слышали: она выгнала меня из дому! — воскликнул бывший школяр в отчаянии.
— И что с того! Тем лучше, — отвечала Катрин.
— Хорошо вам смеяться, мадемуазель Бийо; у вас, должно быть, очень веселый нрав, если чужие беды вас совсем не трогают.
— А кто вам сказал, что я вас не пожалею, господин Анж, если с вами приключится настоящая беда?
— Вы меня пожалеете, если со мной приключится настоящая беда? Но разве вы не знаете, что мне не на что жить?
— А я вам опять скажу: тем лучше.
Питу ничего не понимал.
— Но что же я буду есть? — спросил он. — Ведь должен человек что-то есть, а я и так всегда голоден.
— Выходит, вы не хотите работать, господин Анж?
— Работать? А кем? Господин Фортье и тетушка Анжелика тысячу раз твердили мне, что я ни на что не годен. О, если бы меня отдали в учение к плотнику или каретнику, вместо того чтобы готовить меня в аббаты! Решительно, мадемуазель Катрин, решительно надо мной тяготеет проклятие!
И Питу в отчаянии всплеснул руками.
— Увы! — посочувствовала девушка, знавшая, как и все в округе, горестную историю Питу, — вы во многом правы, дорогой господин Анж, но… Отчего бы вам не сделать одну вещь?
— Какую? — воскликнул Питу, готовый уцепиться за совет мадемуазель Бийо, как утопающий хватается за соломинку, — какую, скажите?
— У вас, кажется, был покровитель?
— Да, господин доктор Жильбер.
— Вы, должно быть, дружили с его сыном, ведь он тоже учился у аббата Фортье?
— Еще бы! Больше того, я несколько раз спасал его от взбучки.
— Так отчего бы вам не обратиться к его отцу? Он вас не оставит.
— Вот беда-то! Я бы непременно к нему обратился, если бы знал, где его искать; но, быть может, это известно вашему отцу, мадемуазель Бийо: он ведь арендует свою ферму у доктора Жильбера.
— Я знаю, что доктор наказал отцу пересылать одну часть арендной платы в Америку, а другую вносить на его счет парижскому нотариусу.
— Ох! — вздохнул Питу. — Америка — это так далеко.
— Неужели вы поедете в Америку? — спросила девушка, почти испуганная решимостью Питу.
— Я, мадемуазель Катрин? Что вы! Ни за что! Нет. Если бы мне было где жить и что есть, я прекрасно чувствовал бы себя во Франции.
— Прекрасно! — повторила мадемуазель Бийо.
Анж потупился. Девушка замолчала. Так продолжалось несколько минут.
Питу погрузился в мечтания, которые сильно удивили бы такого приверженца логики, как аббат Фортье.
Поначалу смутные, мечтания эти внезапно засияли ярким светом, а затем затянулись некоей дымкой, за которой продолжали сверкать искры, происхождение которых таинственно, а источник неизвестен.
Меж тем Малыш шагом тронулся с места, а Питу двинулся вперед рядом с ним, придерживая одной рукой корзины. Что до мадемуазель Катрин, погрузившейся в мечтания не менее глубокие, чем грезы Питу, она опустила поводья, не боясь, что ее лошадь понесет, тем более что чудовища в окрестностях не водились, а Малыш породой мало напоминал коней Ипполита.
Наконец конь остановился, а вместе с ним машинально остановился и Питу. Перед ними были ворота фермы.
— Смотри-ка! Это ты, Питу! — воскликнул мужчина могучего телосложения, с горделивым видом поивший коня из небольшого пруда.
— О Боже! Да, господин Бийо, это я самый и есть!
— У бедняги Питу новое горе! — сказала Катрин и спрыгнула с лошади, нимало не заботясь о том, что юбка ее, взмыв кверху, явила всему миру цвет ее подвязок, — тетка выгнала его из дома.
— Чем же еще он не угодил старой ханже?
— Пожалуй, тем, что я не силен в греческом, — отвечал Питу.
Этот фат еще хвастался! Ему следовало сказать «в латыни».
— Не силен в греческом, — сказал широкоплечий мужчина, — а на что тебе сдался этот греческий?
— Чтобы толковать Феокрита и читать «Илиаду».
— А какой тебе прок толковать Феокрита и читать «Илиаду»?
— Тогда я смогу стать аббатом.
— Ерунда! — сказал г-н Бийо. — Разве я знаю греческий? Разве я знаю латынь? Разве я знаю французский? Разве я умею писать? Разве я умею читать? И разве все это мешает мне сеять, жать и убирать хлеб в амбар?
— Да, но вы, господин Бийо, вы же не аббат, вы земледелец, agricola, как говорит Вергилий. О fortunatos nimium…
— И что же, по-твоему, земледелец, у которого имеются шестьдесят арпанов земли под солнцем и тысяча-другая луидоров в тени, хуже длиннорясого? Отвечай немедленно, скверный служка!
— Мне всегда говорили, что быть аббатом — это самое лучшее, что есть на свете; правда, — добавил Питу, улыбнувшись самым пленительным образом, — я не всегда слушал то, что мне говорили.
— Ну и молодец, что поступал так, экий ты чудак! Видишь, я тоже могу говорить стихами, коли захочу. Мне сдается, из тебя может выйти кое-что получше, чем аббат, и тебе очень повезло, что ты не станешь заниматься этим ремеслом, особенно по нынешним временам. Знаешь, я фермер и разбираюсь в погоде, а нынче погода для аббатов скверная.
— Неужели? — спросил Питу.
— Да, скоро быть грозе, — отвечал фермер. — Ты уж мне поверь. Малый ты честный, образованный…
Питу поклонился, очень гордый тем, что впервые в жизни заслужил титул образованного.
— Значит, ты можешь зарабатывать на жизнь и не став аббатом.
Мадемуазель Бийо, вынимая из корзин цыплят и голубей, с интересом прислушивалась к беседе Питу с ее отцом.
— Зарабатывать на жизнь — это, должно быть, очень трудно, — сказал Питу.
— Что ты умеешь делать?
— Я-то? Я умею ловить птиц на ветку, намазанную клеем, и расставлять силки. Еще я неплохо подражаю пению птиц, правда, мадемуазель Катрин?
— О, еще какая правда, он распевает, точно зяблик.
— Да, но все это не профессия, — сказал папаша Бийо.
— А я о чем говорю, черт подери?
— Ты ругаешься, это уже недурно.
— Как, неужели я выругался? — воскликнул Питу. — Простите меня великодушно, господин Бийо.
— О, не за что, со мной это тоже случается, — отвечал фермер. — Эй, дьявол тебя задери, будешь ты стоять спокойно! — крикнул он своему коню, — этих чертовых першеронов хлебом не корми, только дай погарцевать да поржать. Но вернемся к тебе, — продолжал он, вновь обращаясь к Питу, — скажи, ты ленив?
— Не знаю; я занимался только латынью и греческим, и…
— И что?
— Честно говоря, я знаю их довольно скверно.
— Тем лучше, — сказал Бийо, — это доказывает, что ты не так глуп, как я думал.
Питу раскрыл глаза так широко, что они едва не выскочили из орбит: первый раз в жизни он слышал такие речи, решительно противоположные всем теориям, какие ему доводилось слышать прежде.
— Я тебя спрашиваю про другую лень: скажи, боишься ли ты усталости?
— О, усталость, это другое дело, — отвечал Питу, — нет, я могу пройти хоть десять льё и вовсе не устать!
— Ладно, это уже кое-что, — продолжал Бийо, — если ты похудеешь еще на несколько фунтов, то сможешь стать рассыльным.
— Похудею? — сказал Питу, взглянув на свою тощую фигуру, длинные костлявые руки и длинные ноги, похожие на жерди. — Сдается мне, господин Бийо, что я и так уже достаточно худ.
— По правде говоря, друг мой, — сказал фермер, покатившись со смеху, — ты настоящий клад.
Питу впервые слышал столь высокую оценку своей скромной персоны. Чем дольше он разговаривал с папашей Бийо, тем сильнее удивлялся.
— Послушай, — сказал фермер. — Я спрашиваю, ленишься ли ты, когда тебе задают работу?
— Какую работу?
— Вообще работу.
— Не знаю; я ведь никогда не работал.
Катрин рассмеялась, но папаша Бийо на этот раз остался серьезен.
— Подлые священники! — воскликнул он, погрозив могучим кулаком в сторону города. — Вот кого растят из молодежи — никчемных бездельников. Какую пользу, спрашиваю я вас, может принести своим братьям вот этот малый?
— О, очень небольшую, я это прекрасно понимаю, — отвечал Питу. — К счастью, у меня нет братьев.
— Под братьями, — возразил Бийо, — я разумею всех людей на земле. Или, может быть, ты хочешь сказать, что люди друг другу не братья?
— Нет, конечно, не хочу, да об этом и в Евангелии говорится.
— Все люди братья и равны меж собой, — продолжал фермер.
— Э, нет, это дело другое, — сказал Питу, — если бы мы с аббатом Фортье были равны, он не стал бы так часто охаживать меня плеткой и ферулой, а если бы мы были равны с моей теткой, она не выгнала бы меня из дому.
— А я тебе говорю, что все люди равны, — настаивал фермер, — и скоро мы докажем это тиранам.
— Tyrannis! — откликнулся Питу.
— А пока, чтобы доказать это, — продолжал Бийо, — я беру тебя к себе.
— Вы берете меня к себе, дорогой господин Бийо; вы, должно быть, хотите посмеяться, если говорите такое?
— Вовсе нет. Послушай, сколько тебе нужно, чтобы не умереть с голоду?
— Ну, примерно три фунта хлеба в день.
— А кроме хлеба?
— Немного масла или сыра.
— Отлично, — сказал фермер, — я вижу, прокормить тебя не трудно. Вот мы тебя и прокормим.
— Господин Питу, — вмешалась Катрин, — разве вы больше ничего не хотели узнать у моего отца?
— Я, мадемуазель? Ах, Боже мой, нет.
— В таком случае зачем же вы сюда пришли?
— Затем, что сюда шли вы.
— Ах вот как? Очень мило с вашей стороны, — сказала Катрин, — но я не слишком доверяю комплиментам. Вы пришли, господин Питу, чтобы справиться у моего отца о вашем покровителе.
— Ах да, правда! — сказал Питу. — Подумать только, я про это совсем забыл.
— Ты хотел узнать что-то о достойнейшем господине Жильбере? — спросил фермер, причем в голосе его зазвучало беспредельное почтение.
— Именно так, — отвечал Питу, — но теперь мне это без надобности: раз господин Бийо берет меня к себе, я могу спокойно дождаться возвращения господина Жильбера из Америки.
— В таком случае, мой друг, долго ждать не придется, ибо он уже оттуда вернулся.
— Неужели? — воскликнул Питу. — Когда же это?
— Точно не знаю; но неделю назад он был в Гавре, потому что у меня в седельной кобуре лежит пакет, который он отправил мне по приезде; я получил его сегодня утром в Виллер-Котре, и вот вам доказательство.
— А почему вы знаете, отец, что пакет от него?
— Черт подери! Потому, что в пакете было письмо.
— Простите, отец, — улыбнулась Катрин, — но я думала, что вы не умеете читать. Вы ведь везде хвастаете, что не знаете грамоте.
— Что да, то да, хвастаю! Я желаю, чтобы обо мне могли сказать: «Папаша Бийо никому ничего не должен, даже школьному учителю; он сам составил свое состояние». Вот чего я желаю. Так что письмо прочел не я, а сержант жандармерии, которого я встретил на обратном пути.
— И что там говорится, отец? Господин Жильбер по-прежнему доволен нами?
— Суди сама.
И фермер, вынув из кожаного бумажника письмо, протянул его дочери.
Катрин прочла:
«Дорогой мой господин Бийо!
Я возвратился из Америки, где видел народ более богатый, великий и счастливый, чем наш. Все дело в том, что он свободен, а мы нет. Но и мы также движемся к новой эре, и каждый должен трудиться, дабы приблизить день, когда воссияет свет. Я знаю Ваши убеждения, дорогой господин Бийо, знаю, как велико Ваше влияние на собратьев-фермеров и всех достойных работников и земледельцев, которыми Вы управляете не по-королевски, а по-отечески. Внушайте им принципы самоотвержения и братской любви, которые Вы, как я мог убедиться, исповедуете сами. Философия всеобъемлюща, все люди должны узреть при свете ее факела свои права и обязанности. Посылаю Вам книжицу, где названы все эти обязанности и права. Ее автор — я, хотя мое имя не выставлено на обложке. Распространяйте содержащиеся в ней идеи — идеи всеобщего равенства; устройте так, чтобы долгими зимними вечерами кто-нибудь читал ее вслух Вашим работникам. Чтение — пища для ума, как хлеб — пища для тела.
Скоро я навещу Вас и расскажу о новом способе аренды, весьма распространенном в Америке. Он состоит в том, чтобы делить урожай между фермером и землевладельцем. По моему мнению, такой способ близок к обычаям первобытных времен, а главное, угоден Богу.
Привет и братство.
Оноре Жильбер, гражданин Филадельфии».
— Ну и ну! — проговорил Питу. — Вот уж письмо так письмо.
— Не правда ли? — переспросил Бийо.
— Да, дорогой отец, — сказала Катрин, — но я сомневаюсь, что жандармский офицер того же мнения.
— Отчего это?
— Оттого, что письмо доктора Жильбера может, по-моему, повредить не только ему самому, но и вам.
— Ладно, — сказал Бийо, — ты известная трусиха. Как бы там ни было, вот брошюра, вот и дело для тебя, Питу: по вечерам ты будешь читать ее нам.
— А днем?
— А днем будешь пасти овец и коров. Вот тебе брошюра.
И фермер достал из седельной кобуры одну из тех брошюрок в красной обложке, какие во множестве публиковались в то время с разрешения властей либо без оного.
В последнем случае, правда, автор рисковал отправиться на галеры.
— Прочти-ка мне название, Питу, чтобы я мог поговорить хотя бы о нем, пока не смогу поговорить о содержании. Остальное ты прочтешь мне позже.
Питу взглянул на первую страницу и прочел слова, с тех пор сделавшиеся от частого употребления весьма зыбкими и неопределенными, но в то время находившие искренний отклик во всех сердцах: «О независимости человека и свободе наций».
— Что ты на это скажешь, Питу? — спросил фермер.
— Скажу, господин Бийо, что мне сдается: независимость и свобода — это одно и то же; господин Фортье выгнал бы моего покровителя из класса за плеоназм.
— Плеоназм это или нет, но эту книгу написал настоящий человек, — сказал фермер.
— И все-таки, отец, — сказала Катрин, повинуясь безошибочному женскому чутью, — спрячьте ее, умоляю вас! Из-за нее с вами может стрястись беда. Я, например, дрожу при одном только ее виде.
— Отчего же это она повредит мне, если не повредила автору?
— А откуда вы знаете, что она ему не повредила? Письмо написано неделю назад и пришло только сегодня, хотя вообще почта из Гавра доходит к нам гораздо быстрее. А я тоже получила сегодня утром письмо.
— От кого это?
— От Себастьена Жильбера, который тоже вспомнил о нас; он многое поручил мне передать своему молочному брату Питу, а у меня это совсем вылетело из головы.
— И что же он пишет?
— А вот что: его отец уже три дня как должен был приехать в Париж, но так до сих пор там и не появился.
— Мадемуазель права; мне тоже не нравится это опоздание, — сказал Питу.
— Замолчи, заячья душа, и ступай читать трактат доктора, тогда ты станешь не только ученым, но еще и мужчиной! — воскликнул фермер.
Так разговаривали французы в ту пору, ибо стояли на пороге десятилетия, когда французская нация принялась подражать греческой и римской истории со всеми ее составляющими: самоотвержением, проскрипциями, победами и рабством.
Питу взял книжку с величайшим почтением, чем окончательно покорил сердце фермера.
— А теперь скажи-ка, — спросил тот у Питу, — ты обедал?
— Нет, сударь, — отвечал Питу, сохраняя тот полублагоговейный, полугероический вид, какой принял, получив книгу.
— Он как раз собирался пообедать, когда его выгнали из дому, — сказала девушка.
— Ну что ж! — сказал Бийо. — Ступай к мамаше Бийо и скажи, чтобы она покормила тебя тем, что едят у нас на ферме, а завтра приступишь к работе.
Питу бросил на г-на Бийо благодарный взгляд и в сопровождении Катрин отправился на кухню, где единовластно правила г-жа Бийо.
VI
БУКОЛИКИ
Госпожа Бийо была дородная матрона лет тридцати пяти тридцати шести, круглая, как шар, свежая, пышная, сердечная; она без устали сновала между двумя голубятнями, между стойлами для коров и овец; словно многоопытный генерал, объезжающий расположение войск, она производила смотр своим горшкам и сковородкам; ей довольно было одного взгляда, чтобы определить, все ли в порядке, довольно было повести носом, чтобы узнать, не следует ли подбросить в кастрюли тмина и лаврового листа; по привычке она вечно ворчала, но и в мыслях не имела досадить этим ворчанием мужу, которого уважала не меньше, чем самых важных персон, дочери, которую любила сильнее, чем г-жа де Севинье г-жу де Гриньян, или поденщикам, которых кормила так, как ни одна фермерша на десять льё кругом. Поэтому за право работать у г-на Бийо шли споры. К несчастью, и здесь, как на небесах, среди претендентов было много званых, а мало избранных.
Питу, как мы видели, не был зван, но был избран. Он в полной мере оценил свое счастье, когда слева от него на стол лег золотистый каравай, справа поместился кувшин с сидром, а перед ним возник кусок свежепросоленной свинины. С тех пор как Питу потерял мать, а тому уже минуло пять лет, он не едал так не то что по будням, но даже и по большим праздникам.
Поэтому, уминая хлеб, смакуя свинину и запивая все это большими глотками сидра, Питу, и без того полный признательности, ощущал, как растет его восхищение фермером, его почтение к фермерше и любовь к их дочери. Одно только омрачало его настроение — мысль об унизительной обязанности пасти коров и овец, которую ему придется выполнять днем: уж очень занятие это не соответствовало делу, каким ему предстояло заниматься вечерами и какое имело своей целью усвоение человечеством возвышеннейших истин бытия и философии.
Питу продолжал обдумывать свое положение и после обеда, причем превосходный этот обед оказал немалое влияние на ход его размышлений. Насытившись, он взглянул на вещи совсем иначе. Он рассудил, что даже олимпийским богам и полубогам случалось пасти коров и овец и, следовательно, он напрасно счел это занятие столь оскорбительным для своего достоинства.
Аполлон, оказавшись в сходном положении, то есть будучи изгнан Юпитером с Олимпа, подобно тому как он, Питу, был изгнан из квартала Плё тетушкой Анжеликой, стал пастухом у Адмета. Правда, Адмет был царь-пастух, но Аполлон-то был бог.
Геракл был скотником или кем-то вроде того, ибо, если верить мифам, таскал за хвосты коров Гериона, а уж с какой стороны подходить к коровам — с хвоста или с головы — это дело привычки; как ни крути, тот, кто имеет дело с коровами, то есть со скотом, — скотник, и никто иной.
Более того, Титир, о котором рассказывает Вергилий, — тот, что лежит под буком и в таких прекрасных стихах благодарит Августа за свой покой, тоже был пастухом. Наконец, и Мелибей, так поэтически жалующийся на необходимость расстаться с родными краями, носил то же звание.
Все эти особы наверняка достаточно хорошо знали латынь, чтобы стать аббатами, и тем не менее предпочитали смотреть, как их козы жуют горький ракитник, а не служить обедню и вечерню. Значит, если рассуждать здраво, в пастушеской жизни есть свои прелести. Да и кто помешает Питу возвратить этой жизни утраченную поэзию и потерянное достоинство? Кто помешает Питу устраивать состязания в песнях между Меналками и Палемонами из окрестных сел? Разумеется, никто. Питу не однажды случалось петь в церковном хоре, и, если бы аббат Фортье не застал его как-то пробующим церковное вино и со своей обычной суровостью не исключил немедленно из числа певчих, он мог бы далеко пойти на этом поприще. Правда, он не умел играть на флейте, но зато умел извлекать любые звуки из обычной короткой трубки, а это, должно быть, почти одно и то же. В отличие от возлюбленного Сиринги он не вырезал себе из дерева свирель, но зато изготовлял из липового или каштанового дерева превосходные свистки, не раз удостаивавшиеся рукоплесканий его товарищей. Итак, Питу мог без ущерба для собственной гордости сделаться пастухом: хотя нынче занятие это и перестали ценить по заслугам, он не опустился до него, но поднял бы его до себя.
Вдобавок в овчарнях распоряжалась мадемуазель Бийо, а приказания, полученные из ее уст, были уже не приказаниями.
Но Катрин, со своей стороны, также пеклась о достоинстве Питу.
В тот же вечер, когда юноша подошел к ней узнать, в котором часу нужно ему завтра встать, чтобы выйти в поле вместе с пастухами, она ответила, улыбаясь:
— Никуда идти не нужно.
— Отчего же? — изумился Питу.
— Я объяснила отцу, что вы получили слишком хорошее образование, чтобы исполнять такую черную работу; вы останетесь на ферме.
— Ах, как хорошо, — воскликнул Питу, — значит, я смогу все время быть рядом с вами!
Питу высказал свою заветную мысль исключительно по простоте души и тут же покраснел до ушей. Катрин с улыбкой потупилась.
— Ах, простите, мадемуазель, я сам не знаю, как это у меня вырвалось, не сердитесь на меня, — сказал Питу.
— Я вовсе не сержусь на вас, господин Питу, — отвечала Катрин, — вы ведь не виноваты, что вам приятно быть рядом со мной.
Они помолчали. Ничего удивительного: в немногих словах бедные дети сумели так много сказать друг другу.
— Но, — продолжал Питу, — не могу же я оставаться на ферме и ничем не быть занятым: что я буду делать?
— То же, что делала я: вести счета, рассчитываться с работниками, записывать приход и расход. Вы ведь умеете считать?
— Я знаю все четыре арифметических действия, — гордо ответствовал Питу.
— На одно больше, чем я, — сказала Катрин. — Я никогда не могла одолеть четвертого. Видите, мой отец только выиграет, заполучив такого счетовода, как вы; а раз мы с вами тоже выиграем, значит, в выигрыше будут все без исключения.
— А что же на этом выиграете вы, мадемуазель?
— Я выиграю время и потрачу его на то, чтобы сшить себе новые чепчики и стать красивее.
— Ах, — сказал Питу, — по-моему, вы и без чепчиков такая красивая!
— Возможно, но это уже ваш личный вкус, — засмеялась девушка. — Не могу же я ходить по воскресеньям на танцы в Виллер-Котре с непокрытой головой. Это могут себе позволить только знатные дамы, которые пудрят волосы.
— А по-моему, ваши волосы гораздо красивее без пудры, — сказал Питу.
— Полно, полно, вы, я вижу, пустились делать мне комплименты.
— Нет, мадемуазель, я не умею делать комплименты: у аббата Фортье этому не учили.
— А танцевать вас учили?
— Танцевать? — изумился Питу.
— Да, танцевать.
— Танцевать! У аббата Фортье! Помилуй Боже, мадемуазель… Что вы такое говорите!
— Значит, вы не умеете танцевать?
— Нет, — сказал Питу.
— В таком случае в воскресенье вы пойдете со мной на танцы и поглядите, как танцует господин де Шарни; он это делает лучше всех молодых людей в округе.
— Но кто такой господин де Шарни? — спросил Питу.
— Владелец замка Бурсонн.
— И он будет танцевать в воскресенье?
— Конечно.
— С кем?
— Со мной.
Сердце Питу невольно сжалось.
— Так, значит, это для того, чтобы танцевать с ним, вы хотите быть красивой?
— Чтобы танцевать с ним или с кем-нибудь другим со всеми.
— Кроме меня.
— А почему бы и не с вами?
— Потому что я-то не умею танцевать.
— Вы научитесь.
— Ах! Если бы вы, мадемуазель Катрин, согласились показать мне, как это делается, я научился бы гораздо скорее, чем глядя на господина де Шарни, уверяю вас.
— Там видно будет, — сказала Катрин, — а пока пора спать; спокойной ночи, Питу.
— Спокойной ночи, мадемуазель Катрин.
В том, что узнал Питу от мадемуазель Бийо, было и хорошее и плохое; хорошее заключалось в том, что из пастуха его повысили до письмоводителя; плохое — в том, что он не умеет танцевать, а г-н де Шарни умеет; по словам Катрин, он танцует даже лучше всех остальных.
Ночь напролет Питу видел во сне г-на де Шарни: тот танцевал и выходило это у него прескверно.
Назавтра Питу под руководством Катрин принялся за работу и очень скоро сделал потрясающее открытие: с иными учителями ученье — на редкость приятная штука. Не прошло и двух часов, как он постиг все, что требовалось.
— Ах, мадемуазель, — сказал он, — если бы латыни меня учил не аббат Фортье, а вы, я наверняка никогда не употреблял бы варваризмов.
— И стали бы аббатом?
— И стал бы аббатом, — ответил Питу.
— И вас бы заперли в семинарию, куда нет входа женщинам?
— Скажите на милость! Мне это и в голову не приходило, мадемуазель Катрин… В таком случае я не хочу быть аббатом!
В девять утра на ферму возвратился папаша Бийо; уехал он, когда Питу еще спал. Каждый день в три часа утра фермер провожал в путь своих лошадей и возчиков; потом до девяти объезжал поля, чтобы убедиться, что все работники на своих местах и заняты делом; в девять он возвращался к завтраку, а в десять снова уезжал; в час наступало время обеда, а после обеда он опять осматривал свои владения. Поэтому дела у папаши Бийо шли превосходно. По его собственным словам, ему принадлежали шестьдесят арпанов земли под солнцем и тысяча луидоров в тени. Более того, вполне возможно, что, если бы посчитать получше, если бы подсчетами этими занялся Питу и если бы присутствие мадемуазель Катрин или мысли о ней не слишком отвлекали его, выяснилось бы, что число арпанов и луидоров несколько превышает названное добряком Бийо.
За завтраком фермер предупредил Питу, что первое чтение книги доктора Жильбера состоится послезавтра, в десять утра, в риге.
Питу робко заметил, что десять утра — время мессы, но фермер возразил, что нарочно выбрал этот час, дабы испытать своих работников.
Как мы уже говорили, папаша Бийо был философ.
Он ненавидел священников, считая их апостолами тирании, и, если ему представлялась возможность столкнуть один алтарь с другим, он спешил ею воспользоваться.
Госпожа Бийо и Катрин попытались было возразить главе семейства, но фермер ответил, что женщины, если хотят, могут отправляться к мессе, потому что религия — дело женское, что же касается мужчин, то они, если желают по-прежнему работать у папаши Бийо, будут слушать сочинение доктора.
У себя дома философ Бийо был настоящий деспот: одной Катрин дозволялось поднимать голос против его распоряжений, да и то, если фермер в ответ хмурил брови, она умолкала вместе с остальными.
Впрочем, Катрин решила извлечь из сложившегося положения пользу для Питу. Вставая из-за стола, она заметила отцу, что юноша слишком бедно одет для того, чтобы произносить все те превосходные слова, которые ему предстоит огласить послезавтра; раз он будет читать вслух наставления, значит, он будет за учителя, а учителю не к лицу краснеть перед учениками.
Бийо согласился с доводами дочери и велел ей договориться насчет платья для Питу с г-ном Дюлоруа, портным из Виллер-Котре.
Катрин была права, новое платье было для Питу отнюдь не лишним: он до сих пор носил те штаны, что купил ему пять лет назад доктор Жильбер, — штаны, некогда чересчур длинные, а теперь чересчур короткие, хотя, не будем скрывать, стараниями тетушки Анжелики удлинялись каждый год на целых два дюйма. Что же до кафтана и куртки, о них уже два с лишним года не было речи; их заменяла саржевая блуза, в которой наш герой предстал перед читателем на первых страницах этого повествования.
Питу никогда не задумывался о своем наряде. В доме мадемуазель Анжелики не водилось зеркал, а взглянуть на свое отражение в лужицах, подле которых он ловил птиц, мальчику, не склонному, в отличие он Нарцисса, любоваться собою, в голову не приходило.
Но с той минуты, когда мадемуазель Катрин предложила ему сопровождать ее на танцы, с той минуты, когда она завела речь об элегантном кавалере г-не де Шарни, с той минуты, когда слух Питу поразило сообщение о чепчиках, с помощью которых девушка надеется приукрасить себя, племянник тетушки Анжелики взглянул в зеркало и, удрученный ветхостью своего наряда, спросил себя, нет ли и у него средства как-нибудь приумножить свои природные достоинства.
К несчастью, ответа на этот вопрос Питу не знал. Платье его истрепалось; на покупку нового платья требовались деньги, а Питу отроду не имел ни единого денье.
Питу знал, что пастухи, соревнуясь в пении или игре на свирели, увенчивали себя розами; но он справедливо рассудил, что этот венец, пусть даже он окажется ему к лицу, лишь подчеркнет убогость его наряда.
Поэтому Питу был приятно удивлен, когда в воскресенье, в восемь часов утра его размышления о способах украсить себя прервал Дюлоруа, вошедший к нему в комнату и повесивший на стул кафтан и штаны небесно-голубого цвета, вкупе с длинным белым в розовую полоску жилетом.
Вслед за ним вошла белошвейка и повесила на другой стул, стоявший напротив первого, рубашку и галстук; ей было приказано, если рубашка окажется впору, сшить еще полдюжины таких же.
То был час сюрпризов: за белошвейкой явился шляпник. Он принес маленькую треуголку самой модной и элегантной формы, одно из лучших произведений г-на Корню, первого шляпника Виллер-Котре.
Кроме того, шляпник доставил от сапожника пару башмаков с серебряными пряжками, сделанными по вкусу самого сапожника.
Питу не мог прийти в себя, не мог поверить, что все эти сокровища предназначаются ему. В самых дерзких мечтах он не смел вообразить себя владельцем такого гардероба. Слезы благодарности выступили у него на глазах, и он смог пробормотать только одно:
— О мадемуазель Катрин! Мадемуазель Катрин! Я никогда не забуду того, что вы для меня сделали!
Все вещи были точно по мерке, словно их сшили нарочно для Питу, но башмаки оказались вдвое меньше, чем нужно. Господин Лодро, сапожник, снял мерку с ноги своего сына, который был старше Питу на четыре года.
На мгновение превосходство над юным Лодро преисполнило Питу гордости, но гордость сразу уступила место тревоге, когда он сообразил, что ему придется идти на танцы без башмаков или же в старой обуви, никак не сочетавшейся с новым нарядом. Впрочем, тревога Питу очень скоро рассеялась: ему оказались впору башмаки, присланные для папаши Бийо. Выяснилось, что, по счастью, у г-на Бийо такая же огромная нога, как у Питу, о чем решили не сообщать фермеру, дабы он не обиделся.
Пока Питу облачался в свои роскошные одежды, прибыл парикмахер. Он разделил соломенные волосы Питу на три части: одной, самой густой, надлежало опуститься на спину в виде косички, двум другим — укрыть виски; боковые эти пряди носили малопоэтическое название «собачьи уши»; но что поделаешь — так их называли.
Не станем скрывать: когда Питу, причесанный, завитой, с косичкой и «собачьими ушами», в кафтане и штанах небесно-голубого цвета, в розовом жилете и рубашке с жабо, взглянул в зеркало, он с трудом узнал самого себя и обернулся, дабы удостовериться, не сошел ли на землю Адонис собственной персоной.
Но в комнате больше никого не было. Тогда Питу приятно улыбнулся и, высоко подняв голову, сунув руки в жилетные кармашки, встав на цыпочки, произнес:
— Что ж, поглядим на этого господина де Шарни!..
В самом деле, в новом облачении Анж Питу как две капли воды походил если не на пастуха из эклоги Вергилия, то на пастуха с картины Ватто.
Поэтому на кухне его ждал подлинный триумф.
— Ах, посмотрите, маменька, как хорош стал Питу! — закричала Катрин.
— И вправду, его не узнать, — сказала г-жа Бийо.
К несчастью, Катрин не ограничилась общим осмотром, восхитившим ее, и перешла к деталям. А в деталях Питу был далеко не так хорош.
— Ох, какие у вас огромные руки, — сказала Катрин, — никогда таких не видела!
— Да, — сказал Питу, — руки у меня хоть куда, правда?
— И колени большие.
— Это оттого, что я еще расту.
— А по мне, вы и так выросли уже предостаточно, господин Питу.
— Это не важно, все равно я еще вырасту; мне ведь только семнадцать с половиной.
— А икры у вас совсем тощие.
— Точно, икры так себе, но они тоже еще подрастут.
— Дай-то Бог, — сказала Катрин. — Но все равно вы очень хороши.
Питу поклонился.
— Ну и ну! — сказал фермер, входя и в свой черед окидывая Питу взглядом. — Экий ты красавец, мой мальчик! Хотел бы я, чтобы тебя увидела в таком наряде тетушка Анжелика.
— Я тоже, — сказал Питу.
— Хотел бы я послушать, что бы она на это сказала, — продолжал фермер.
— Она бы ничего не сказала, она бы взбесилась.
— Но, отец, — сказала Катрин с некоторой тревогой, — она ведь не сможет забрать его назад?
— Так она ж его выгнала.
— К тому же, — добавил Питу, — пять лет уже прошли.
— Какие пять лет? — спросила Катрин.
— Те, на которые доктор Жильбер оставил ей тысячу ливров.
— Так он оставил вашей тетушке тысячу ливров?
— Да, да, да, чтоб она заплатила за мое обучение.
— Вот какой это человек! — сказал фермер. — И всякий день я слышу о нем нечто подобное. Вот почему, — Бийо решительно махнул рукой, — я буду верен ему до гробовой доски.
— Он хотел, чтобы я выучился ремеслу.
— И был прав. Но случается так, что хорошие намерения извращаются дурными людьми. Человек оставляет тысячу ливров на то, чтобы парнишку обучили ремеслу, — глядь, а парнишку вместо этого отдают ддиннорясому, который хочет запереть его в семинарию. И сколько же она платила твоему аббату Фортье?
— Кто?
— Твоя тетка.
— Она ему ничего не платила.
— Выходит, двести ливров доброго господина Жильбера она прикарманивала?
— Наверное.
— Послушай, я хочу дать тебе совет, Питу: когда эта старая ханжа, твоя тетка, окочурится, пошарь хорошенько повсюду: в шкафах, в матрасах, в горшках с цветами.
— Зачем? — спросил Питу.
— Затем, что ты найдешь там клад, вот зачем. Старые луидоры в шерстяном чулке. Да, именно в чулке, потому что в кошелек ее сбережения не влезут.
— Выдумаете?
— Я уверен. Но мы еще потолкуем об этом в свое время и в своем месте. А пока нам предстоит небольшая прогулка. Книга доктора Жильбера у тебя с собой?
— Она у меня в кармане.
— Отец, — спросила Катрин, — вы все обдумали?
— Тому, кто делает доброе дело, думать нечего, дитя мое, — ответил фермер, — доктор велел мне читать людям эту книгу, распространять содержащие в ней принципы — значит, книга будет прочитана, а принципы распространены.
— Но мы-то с матушкой сможем пойти к мессе? — робко поинтересовалась Катрин.
— Ступайте, — сказал Бийо, — вы женщины, а мы мужчины, это дело другое; пошли, Питу.
Питу раскланялся с г-жой Бийо и Катрин, а потом, гордый тем, что его назвали мужчиной, отправился вслед за фермером.

