XXV
ЗАПАДНЯ
Как мы знаем, Шико быстро принимал решения.
Сейчас он решил ждать, расположившись как можно удобнее.
В гуще молодых буковых побегов он проделал окошко, чтобы все прохожие, которые могли его интересовать, находились в поле его зрения.
Дорога была безлюдна.
В какую даль ни устремлялся взор Шико, нигде не было заметно ни всадника, ни праздношатающегося, ни крестьянина.
Вчерашняя толпа исчезла вместе со зрелищем, которым вызвано было ее скопление.
Вот почему Шико не увидел никого, кроме довольно бедно одетого человека, который прохаживался взад и вперед через дорогу и с помощью заостренной длинной палки что-то измерял на этом тракте, вымощенном благодаря попечению его величества короля Франции.
Шико было совершенно нечего делать. Он крайне обрадовался, что может сосредоточить свое внимание хотя бы на этом человеке. Что он измерял? Для чего он это делал? Вот какие вопросы всецело занимали некоторое время ум мэтра Робера Брике.
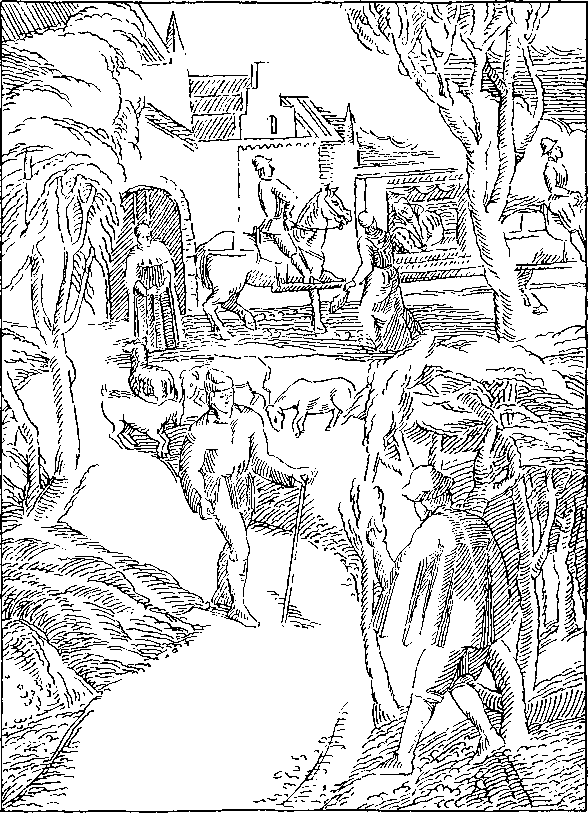
Поэтому он решил не терять из виду человека, делавшего измерения.
К несчастью, в момент, когда, закончив промеры, человек этот явно намеревался поднять голову, некое более важное открытие поглотило все внимание Шико, заставив его устремить взгляд совсем в другую сторону.
Окно, выходившее на балкон Горанфло, широко распахнулось, и глазам наблюдателя предстали достопочтенные округлости дона Модеста, который, выпучив глаза, весь сияя праздничной улыбкой и проявляя вообще исключительную любезность, вел за собой даму, почти с головой закутанную в бархатный, обшитый мехом плащ.
“Ого, — подумал Шико, — вот и дама, приехавшая на исповедь. По фигуре и движениям она молода; посмотрим, как выглядит головка; так, хорошо, повернитесь немного в ту сторону; отлично! Поистине странно, что, на кого я ни погляжу, обязательно найду с кем-нибудь сходство. Неприятная это у меня мания! Так, а вот и ее берейтор. Ну, что касается его, то не может быть никаких сомнений — это Мейнвиль. Да, да, закрученные кверху усы, шпага с чашечной рукояткой — это он. Но будем же трезво рассуждать: если я не ошибся насчет Мейнвиля, черти полосатые, то зачем мне ошибаться насчет госпожи де Монпансье? Ибо эта женщина, ну да, черт побери, эта женщина — герцогиня!”
Легко понять, что с этого момента Шико перестал обращать внимание на человека, делавшего промеры, и уже не спускал глаз с обеих известных личностей.
Через мгновение за ними показалось бледное лицо Борроме, к которому Мейнвиль несколько раз обратился с каким-то вопросом.
“Дело ясное, — подумал он, — тут замешаны решительно все. Браво! Что же, будем заговорщиками, такова теперь мода. Однако, черт побери, уж не хочет ли герцогиня, чего доброго, переселиться к дону Модесту, когда у нее шагах в ста отсюда, в Бель-Эба, имеется свой дом?”
Но тут внимательно наблюдавший за всем Шико насторожился еще больше.
Пока герцогиня беседовала с Горанфло или, вернее, заставляла его болтать, г-н де Мейнвиль подал знак кому-то находившемуся снаружи. Между тем Шико никого там не видел, кроме человека, делавшего измерения на дороге.
И действительно, знак был подан именно ему, вследствие чего этот человек перестал заниматься своими промерами. Он остановился перед балконом, так что лицо его было повернуто в сторону Парижа.
Горанфло продолжал расточать любезности даме, приехавшей на исповедь.
Господин де Мейнвиль что-то шепнул на ухо Борроме, и тот сейчас же принялся жестикулировать за спиной у настоятеля таким образом, что Шико ничего уразуметь не мог, но человек, делавший на дороге измерения, по-видимому, все отлично понял, ибо он отошел и остановился в другом месте, где, повинуясь новому жесту Борроме и Мейнвиля, застыл в неподвижности, словно статуя.
Постояв так в течение нескольких секунд, он, по новому знаку брата Борроме, занялся упражнениями, привлекшими тем большее внимание Шико, что о цели их тому невозможно было догадаться.
С того места, на котором он стоял, человек, делавший измерения, побежал к воротам аббатства, в то время как г-н де Мейнвиль следил за ним с часами в руках.
— Черт возьми, черт возьми! — прошептал Шико, — все это довольно подозрительно. Задача поставлена нелегкая. Но как бы она ни была трудна, может быть, я все же разрешу ее, если увижу лицо человека, делавшего измерения!
И в это же мгновение, словно дух-покровитель Шико решил исполнить его желание, человек, делавший измерения, повернулся, и Шико признал в нем Никола Пулена, чиновника парижского городского суда, того самого, кому он накануне продал свои старые доспехи.
“Ну вот, — подумал он, — за здравствует Лига! Теперь я достаточно видел; немного пошевелив мозгами, догадаюсь и об остальном. Что ж, ладно, пошевелим”.
Герцогиня в сопровождении берейтора вышла из аббатства и села в крытые носилки, поджидавшие у ворот.
Дон Модест, провожавший их к выходу, только и делал, что отвешивал поклоны.
Герцогиня, не спуская занавески на носилках, еще отвечала на излияния настоятеля, когда один монах ордена св. Иакова, выйдя из Парижа через Сент-Антуанские ворота, сперва поравнялся с лошадьми и с любопытством их осмотрел, а потом — с носилками и заглянул в них с нескрываемым интересом.
В этом монахе Шико узнал юного брата Жака, который торопливо шел из Лувра и теперь остановился, пораженный красотой герцогини де Монпансье.
“Ну-ну, — подумал Шико, — мне везет. Если бы Жак вернулся раньше, я не смог бы увидеть герцогиню, так как мне пришлось бы как можно скорее бежать к Фобенскому кресту, где была назначена встреча. А теперь госпожа де Монпансье на моих глазах уезжает после своего маленького заговора. Наступает очередь мэтра Никола Пулена. С этим-то я покончу за десять минут”.
И, действительно, герцогиня, проехав мимо не замеченного ею Шико, помчалась в Париж, и Никола Пулен уже намеревался последовать за нею.
Ему, как и герцогине, надо было пройти мимо рощицы, где притаился Шико.
Шико следил за ним, как охотник за дичью, намеревающийся выстрелить в самый подходящий момент.
Когда Пулен поравнялся с Шико, тот выстрелил.
— Эй, добрый человек, — подал он голос из своей норы, — загляните-ка, пожалуйста, сюда.
Пулен вздрогнул и повернул голову к канаве.
— Вы меня заметили, отлично! — продолжал Шико. — А теперь сделайте вид, будто ничего не видели, мэтр Никола… Пулен.
Судейский подскочил, словно лань, услышавшая ружейный выстрел.
— Кто вы такой? — спросил он. — И чего вы хотите?
— Кто я?
— Да.
— Я один из ваших друзей, недавний друг, но уже близкий. Чего я хочу? Ну, чтобы вам это растолковать, понадобится некоторое время.
— Да что вам угодно? Говорите.
— Я хочу, чтобы вы ко мне подошли.
— К вам?
— Да, чтобы вы спустились в канаву.
— Для чего?
— Узнаете. Сперва спускайтесь.
— Но…
— И чтобы вы сели спиной к кустарнику.
— Однако…
— Не глядя в мою сторону, с таким видом, будто вы и не подозреваете, что я тут нахожусь.
— Сударь…
— Я требую многого, согласен. Но что поделаешь, — мэтр Робер Брике имеет право быть требовательным.
— Робер Брике? — вскричал Пулен, тотчас же выполняя то, что ему было велено.
— Отлично, присаживайтесь, вот так… Что ж, вы, оказывается, проделывали измереньица на Венсенской дороге?
— Я?
— Без всякого сомнения. А что удивительного, если чиновнику парижского суда приходится иногда выступать в качестве дорожного смотрителя?
— Верно, — сказал, несколько успокаиваясь, Пулен, — как видите, я проводил измерения.
— Тем более, — продолжал Шико, — что вы работали на глазах у именитейших особ.
— Именитейших особ? Не понимаю вас.
— Как? Вы не знаете…
— Не понимаю, что вы такое говорите.
— …вы не знаете, кто эта дама и господин, которые стояли там, на балконе, и только что возобновили прерванный путь в Париж?
— Клянусь вам…
— Какое же счастье для меня сообщить вам такую замечательную новость! Представьте себе, господин Пулен, что вами, как дорожным смотрителем, любовались госпожа герцогиня де Монпансье и господин граф де Мейнвиль. Пожалуйста, не шевелитесь.
— Сударь, — сказал Никола Пулен, пытаясь сопротивляться, — ваши слова, ваше обращение…
— Если вы будете шевелиться, дорогой господин Пулен, — продолжал Шико, — вы заставите меня прибегнуть к крайним мерам. Сидите же спокойно.
Пулен только вздохнул.
— Ну вот, хорошо, — продолжал Шико. — Так я вам говорил, что, поскольку вы работали на глазах у этих особ, а они вас — как вы сами уверяете — не заметили, я полагаю, что для вас было бы очень выгодно, чтобы вас заметила другая весьма именитая особа — например король.
— Король?
— Да, господин Пулен, его величество. Уверяю вас, он весьма склонен ценить всякую работу и вознаградить всякий труд.
— Ах, господин Брике, сжальтесь.
— Повторяю, дорогой господин Пулен, что, если вы двинетесь, вас ожидает смерть. Сидите же спокойно, чтобы не случилось беды.
— Но чего вы от меня хотите, во имя Неба?
— Хочу вашего блага, и ничего больше. Ведь я же сказал, что я вам друг.
— Сударь! — вскричал Никола Пулен в полном отчаянии. — Не знаю, право, что я сделал дурного его величеству, вам, кому бы то ни было вообще!
— Дорогой господин Пулен, объяснения вы дадите кому положено, это не мое дело. У меня, видите ли, есть свои соображения: по-моему, король не одобрил бы, что его судейский чиновник, действуя в качестве дорожного смотрителя, повинуется знакам и приказаниям господина де Мейнвиля. Кто знает, может быть, королю не понравится также, что его судейский чиновник в своем ежедневном донесении не отметил, что госпожа де Монпансье и господин де Мейнвиль прибыли вчера в его славный город Париж? Знаете, господин Пулен, одного этого достаточно, чтобы поссорить вас с его величеством.
— Господин Брике, я же только забыл отметить их прибытие, это не преступление, и, конечно, его величество не может не понять…
— Дорогой господин Пулен, мне кажется, что вы сами себя обманываете. Я гораздо яснее вижу исход этого дела.
— Что же вы видите?
— Самую настоящую виселицу.
— Господин Брике!
— Дайте же досказать, черт побери! На виселице — новая прочная веревка, по четырем углам эшафота — четыре солдата, кругом — немало парижан, а на конце веревки — один хорошо знакомый мне судейский чиновник.
Никола Пулен дрожал теперь так сильно, что дрожь его передавалась молодым буковым деревцам.
— Сударь! — взмолился он, сложив руки.
— Но я вам друг, дорогой господин Пулен, — продолжал Шико, — ив качестве друга готов дать вам совет.
— Совет?
— Да, и слава Богу, такой, которому легко последовать! Вы незамедлительно, — понимаете? — незамедлительно отправитесь…
— Отправлюсь… — прервал перепуганный Никола, — отправлюсь куда?
— Минуточку, дайте подумать, — сказал Шико, — отправитесь к господину д’Эпернону.
— К господину д’Эпернону, другу короля?
— Совершенно верно. Вы побеседуете с ним с глазу на глаз.
— С господином д’Эперноном?
— Да, и вы расскажете ему все про обмеры дороги.
— Да это безумие, сударь!
— Напротив — мудрость, высшая мудрость.
— Не понимаю.
— Однако же все предельно ясно. Если я просто-напросто донесу на вас как на человека, занимавшегося промерами дороги и скупавшего доспехи, вас вздернут; если, наоборот, вы сами все добровольно раскроете, вас осыплют наградами и почестями… Похоже, что я вас не убедил!.. Отлично, мне придется возвратиться в Лувр, но, ей-Богу, я готов это сделать. Для вас я сделаю все, что угодно.
И Никола Пулен услышал, как зашуршали ветки, которые, поднимаясь с места, стал раздвигать Шико.
— Нет, нет, — сказал он. — Оставайтесь, пойду я.
— Вот и отлично. Вы сами понимаете, дорогой господин Пулен, никаких уверток, ибо завтра я отправлю записочку самому королю, с которым я имею честь находиться в самых приятельских отношениях. Так что хотя вас повесят лишь послезавтра, но, во всяком случае, повыше и на веревке покороче.
— Я иду, сударь, — произнес совершенно уничтоженный Пулен, — но вы странным образом злоупотребляете…
— Я?
— Конечно!
— Ах, дорогой господин Пулен, служите за меня молебны. Пять минут назад вы были государственным преступником, а я превращаю вас в спасителя отечества. Но бегите же скорей, дорогой господин Пулен, ибо я очень спешу уйти отсюда, а смогу это сделать лишь после вашего ухода. Особняк д’Эпернона, не забудьте.
Никола Пулен поднялся и с выражением полнейшего отчаяния стремительно понесся по направлению к Сент-Антуанским воротам.
“Давно пора, — подумал Шико, — из монастыря ко мне уже кто-то идет. Но это не Жак. Эге! Кто этот верзила, сложенный как зодчий Александра Великого, который хотел обтесать Афонскую гору? Черти полосатые! Для такой шавки, как я, этот пес совсем не подходящая компания”.
Увидев этого вестника из аббатства, Шико поспешил к Фобенскому кресту, где они должны были встретиться. При этом ему пришлось отправиться кружным путем, а верзила монах шел быстрыми шагами напрямик, что укорачивало ему дорогу и дало возможность первым добраться до креста.
Впрочем, Шико терял время отчасти потому, что, шагая, рассматривал монаха, чье лицо не внушало ему никакого доверия.
И правда, этот инок был настоящий филистимлянин.
Он так торопился встретиться с Шико, что его ряса не была даже как следует застегнута, и через прореху ее виднелись мускулистые ноги в коротких, вполне мирского вида штанах. К тому же глубоко запавшие углы рта придавали его лицу выражение отнюдь не богомольное, когда же ухмылка переходила в смех, во рту обнажались три зуба, похожие на колья палисада за валами толстых губ. Руки, длинные, как у Шико, но толще, плечи такие, что на них действительно можно было взвалить ворота Газы, большой кухонный нож за веревочным поясом да мешковина, закрывавшая грудь, словно щит, — таков был набор оборонительного и наступательного оружия у этого монастырского Голиафа.
“Решительно, он здорово безобразен, — подумал Шико, — и если при такой наружности он не несет мне приятных известий, то, на мой взгляд, подобная личность не имеет никакого права на существование”.
Когда Шико приблизился, монах, не спускавший с него глаз, приветствовал его почти по-военному.
— Чего вы хотите, друг мой? — спросил Шико.
— Вы господин Робер Брике?
— Собственной персоной.
— В таком случае у меня для вас письмо от преподобного настоятеля.
— Давайте.
Шико взял письмо. Оно гласило:
“Дорогой друг мой, после того как мы расстались, я хорошенько поразмыслил. Поистине, я не решаюсь предать пожирающей пасти волков, которыми кишит грешный мир, овечку, доверенную мне Господом. Как Вы понимаете, я говорю о нашем маленьком Жаке, который только что был принят королем и отлично выполнил Ваше поручение.
Вместо Жака, который еще в слишком нежном возрасте и вдобавок нужен здесь, я посылаю Вам доброго и достойного брата из нашей обители. Нравом он кроток и духом невинен: я уверен, что Вы охотно примете его в качестве спутника…”
“Да, как бы не так, — подумал Шико, искоса бросив взгляд на монаха, — рассчитывай на это”.
“К письму этому я прилагаю свое благословение, сожалея, что не смог дать Вам его при личной встрече.
Прощайте, дорогой друг”.
— Какой прекрасный почерк! — сказал Шико, дочитав письмо. — Пари держу, что письмо написано казначеем: какая прекрасная рука!
— Письмо действительно написал брат Борроме, — ответил Голиаф.
— В таком случае, друг мой, — продолжал Шико, любезно улыбнувшись высокому монаху, — вы можете возвратиться в аббатство!
— Я?
— Да, вы передадите его преподобию, что мои планы изменились и я предпочитаю путешествовать один.
— Как, вы не возьмете меня с собою, сударь?! — спросил монах тоном, в котором к изумлению примешивалась угроза.
— Нет, друг мой, нет.
— А почему, скажите, пожалуйста?
— Потому что я должен быть бережлив. Время теперь трудное, а вы, видимо, непомерно много едите.
Великан обнажил клыки:
— Жак ест не меньше меня.
— Да, но Жак — настоящий монах.
— А я-то что же такое?
— Вы, друг мой, ландскнехт или жандарм, что, говоря между нами, может вызвать негодование у Богоматери, к которой я послан.
— Что вы мелете насчет ландскнехтов и жандармов? — сказал монах. — Я инок из обители святого Иакова — что вы, не видите этого по моему облачению?
— Человек в рясе не всегда монах, друг мой, — ответил Шико. — Но человек с ножом за поясом — всегда воин. Передайте это, пожалуйста, брату Борроме.
Шико отвесил гиганту прощальный поклон, и тот направился обратно в монастырь, ворча, как прогнанный пес.
Что касается нашего путешественника, он подождал, пока тот, кто должен был стать его спутником, скрылся из виду. Когда же он исчез за воротами монастыря, Шико спрятался за живой изгородью, снял куртку и под холщовую рубаху поддел уже знакомую нам тонкую кольчугу.
Переодевшись, он напрямик через поле направился к Шарантонской дороге.
XXVI
ГИЗЫ
Вечером того дня, когда Шико отправился в Наварру, в большом зале дворца Гизов, куда в прежних наших повествованиях мы не раз вводили читателей, мы снова повстречаемся с быстроглазым юношей, что попал в Париж на лошади Карменжа, и, как мы уже знаем, оказался не кем иным, как прекрасной дамой, явившейся на исповедь к дону Модесту Горанфло.
На этот раз она отнюдь не пыталась скрыть, кто она такая, или переодеться в мужское платье.
Госпожа де Монпансье, в изящном наряде с высоким кружевным воротником, с целым созвездием драгоценных камней в прическе по моде того времени, нетерпеливо ожидала, стоя в нише окна, какого-то запаздывающего посетителя.
Сгущались сумерки, и герцогиня уже с большим трудом различала ворота парадного подъезда, с которых не спускала глаз.
Наконец послышался топот копыт, и через несколько минут привратник, таинственно понизив голос, доложил герцогине о прибытии герцога Майенского.
Госпожа де Монпансье вскочила с места и устремилась навстречу брату так поспешно, что забыла даже ступать на носок правой ноги, как обычно делала, когда не хотела хромать.
— Как, брат, — удивилась она, — вы один?
— Да, сестра, — ответил герцог, целуя герцогине руку и усаживаясь.
— Но Генрих, где же Генрих? Разве вы не знаете, что здесь его все ждут?
— Генриху, сестра, в Париже пока нечего делать, но зато у него немало дел в городах Фландрии и Пикардии. Работать нам приходится медленно и скрытно: работы там много, зачем же бросать ее и ехать в Париж, где все уже устроено?
— Да, но где все расстроится, если вы не поторопитесь.
— Ну, вот еще!
— Можете говорить “вот еще!” сколько вам угодно. Но все эти ваши доводы не убеждают парижских буржуа: они хотят видеть своего Генриха Гиза, жаждут его, бредят им.
— Когда придет время, они его увидят. Разве Мейнвиль им этого не растолковал?
— Растолковал. Но вы ведь знаете, что его голос совсем не то, что ваш.
— Давайте, сестра, перейдем к самому неотложному. Как Сальсед?
— Казнен.
— Не проговорился?
— Не вымолвил ни слова.
— Хорошо. Как с вооружением?
— Все готово.
— Париж?
— Разделен на шестнадцать кварталов.
— Ив каждом квартале — назначенный вами начальник?
— Да.
— Ну, так будем спокойно ждать, хвала Господу. Это я и скажу нашим славным буржуа.
— Они не станут слушать.
— Вот еще!
— Говорю вам — в них точно бес вселился.
— Милая сестра, вы так нетерпеливы сами, что и другим склонны приписывать излишнюю торопливость.
— Вы меня за это упрекаете?
— Боже сохрани! Но надо выполнять то, что считает нужным брат Генрих. Ну, а он не хочет никаких поспешных действий.
— Что ж тогда делать? — нетерпеливо спросила герцогиня.
— А что вынуждает нас торопиться?
— Да все, если хотите.
— С чего же, по-вашему, начать?
— Надо захватить короля.
— Это у вас навязчивая идея. Не скажу, чтобы она была плоха, если бы ее можно было осуществить. Но задумать и выполнить — далеко не одно и то же. Припомните-ка, сколько раз наши попытки уже проваливались.
— Времена изменились. Теперь короля некому защищать.
— Да, кроме швейцарцев, шотландцев и французских гвардейцев.
— Послушайте, брат, я сама покажу вам, как он едет по большой дороге в сопровождении всего двух слуг.
— Мне сто раз это говорили, но я ни разу этого не видел.
— Так увидите, если побудете в Париже хотя бы три дня.
— Какой-нибудь новый замысел?
— Скорее новый план.
— Ну так сообщите мне, в чем он состоит.
— О, это чисто женская мысль, и вы над ней только посмеетесь.
— Боже меня упаси уязвить ваше самолюбие. Рассказывайте.
— Вы уже смеетесь надо мною, Майен!
— Нет, я вас слушаю.
— Ну так вот, коротко говоря…
В это время привратник поднял портьеру:
— Угодно ли их высочествам принять господина де Мейнвиля?
— Моего сообщника? — сказала герцогиня. — Впустите.
Господин де Мейнвиль вошел и поцеловал руку герцогу Майенскому.
— Только одно слово, ваше высочество. Я сейчас из Лувра.
— Ну? — вскричали в один голос Майен и герцогиня.
— Догадываются, что вы приехали.
— Каким образом?
— Я разговаривал с начальником поста в Сен-Жермен-Л’Осеруа. В это время мимо прошли два гасконца…
— Вы их знаете?
— Нет. На них было новое, с иголочки, обмундирование. “Черт побери, — сказал один, — куртка у вас великолепная. Но при случае вчерашняя ваша кираса послужила бы вам лучше”. “Ну-ну, как ни тверда шпага господина де Майена, — ответил другой, — бьюсь об заклад, что этот атлас он так же не проколет, как и ту кирасу”. Тут гасконец принялся бахвалиться, и из его слов я понял, что вашего прибытия ждут.
— У кого служат эти гасконцы?
— Не имею ни малейшего понятия.
— И они ушли?
— Не тут-то было. Говорили они очень громко. Имя вашего высочества услышали прохожие. Кое-кто остановился и начал расспрашивать — правда ли, что вы приехали. Те собирались было ответить, но тут к гасконцу подошел какой-то человек и тронул его за плечо. Или я ошибаюсь, ваше высочество, или этот человек был Луаньяк.
— А что дальше?
— Он шепотом сказал несколько слов, гасконец поклонился и последовал за тем, кто его прервал.
— Так что…
— …так что я ничего больше узнать не смог. Но полагаю, надо остерегаться.
— Вы за ними не проследили?
— Проследил, но издали: опасался, что меня узнают как дворянина из свиты вашего высочества. Они направились к Лувру и скрылись за мебельным складом. Но прохожие потом на разные лады повторяли: Майен, Майен.
— Есть простой способ ответить на это, — сказал герцог.
— Какой? — спросила его сестра.
— Пойти сегодня вечером приветствовать короля.
— Приветствовать короля?
— Конечно. Я приехал в Париж и сообщаю ему, как обстоят дела в его верных пикардийских городах. Что против этого можно сказать?
— Способ хороший, — сказал Мейнвиль.
— Это неосторожно, — возразила герцогиня.
— Это необходимо, сестра, если действительно известно, что я в Париже. К тому же брат наш Генрих считает, что я еще в дорожном платье должен явиться в Лувр и передать королю привет от всей нашей семьи. Выполнив этот долг, я буду свободен и смогу принимать кого мне вздумается.
— Например членов комитета. Они вас ждут.
— Я приму их во дворце Сен-Дени после визита в Лувр, — сказал Майен. — Итак, Мейнвиль, пусть мне подадут коня, как он есть, в поту и пыли. Вы отправитесь со мною в Лувр. А вы, сестра, дожидайтесь нашего возвращения.
— Здесь, братец?
— Нет, во дворце Сен-Дени, где находятся мои слуги и вещи и где, предполагается, я остановился на ночлег. Через два часа мы там будем.
XXVII В ЛУВРЕ
В тот же день, отважившись на большие приключения, король вышел из кабинета и велел позвать г-на д’Эпернона.
Было около полудня.
Герцог поспешил явиться к королю.
Стоя в приемной, его величество внимательно разглядывал какого-то монаха из обители св. Иакова. Тот под проницательным взором короля краснел и опускал глаза.
Король отвел д’Эпернона в сторону.
— Посмотри-ка, герцог, — сказал он, указывая на молодого человека, — какой у этого монаха странный вид.
— А чему вы изволите удивляться, ваше величество? — сказал д’Эпернон. — По-моему, вид у него самый обычный.
— Вот как?
Король задумался.
— Как тебя зовут? — спросил он монаха.
— Брат Жак, ваше величество.
— Другого имени у тебя нет?
— По фамилии — Клеман.
— Брат Жак Клеман? — повторил король.
— Может, и имя, по мнению вашего величества, звучит странно? — смеясь, спросил герцог.
Король не ответил.
— Ты отлично выполнил поручение, — сказал он монаху, не спуская с него глаз.
— Какое поручение, сир? — спросил герцог с бесцеремонностью, которую ему ставили в вину и к которой его приучило каждодневное общение с королем.
— Ничего, — ответил Генрих, — это у меня маленький секрет с одним человеком, которого ты не знаешь.
— Право же, сир, — сказал д’Эпернон, — вы так странно смотрите на мальчика, что он смущается.
— Да, правда. Не знаю почему, я не в состоянии оторвать от него взгляда. Мне сдается, что я уже видел его или еще когда-нибудь увижу. Кажется, он являлся мне во сне. Ну вот, я начинаю заговариваться. Ступай, монашек, ты хорошо выполнил поручение. Письмо будет послано тому, кто его ждет. Не беспокойся. Д’Эпернон!
— Слушаю, сир?
— Выдайте ему десять экю.
— Благодарю, — бесстрастно произнес монах.
— Можно подумать, что свое “благодарю” ты цедишь сквозь зубы! — сказал д’Эпернон: он не мог взять в толк, как это монах может пренебречь десятью экю.
— Я так говорю, — ответил маленький Жак, — потому что предпочел бы один из тех замечательных испанских кинжалов, что висят тут на стене.
— Как? Тебе не нужны деньги, чтобы смотреть балаганы на Сен-Лораяской ярмарке или веселиться в вертепах на улице Сент-Маргерит? — спросил д’Эпернон.
— Я дал обеты бедности и целомудрия, — ответил Жак.
— Дай ему один из этих испанских клинков, и пусть он идет, — сказал король.
Герцог, человек бережливый, выбрал нож с наиболее скромно отделанной рукояткой и подал его монашку.
Это был каталонский нож с широким, остро наточенным лезвием в прочной рукоятке резной кости.
Жак взял его в полном восторге оттого, что получил прекрасное оружие, и удалился.
Когда Жак ушел, герцог снова попытался расспросить короля.
— Герцог, — прервал его король, — найдется ли среди твоих сорока пяти двое или трое хороших наездников?
— По меньшей мере человек двенадцать, ваше величество, а через месяц и все будут отличными кавалеристами.
— Выбери из них двух, и пусть они сейчас же зайдут ко мне.
Герцог поклонился, вышел и вызвал в приемную Луаньяка.
Тот явился спустя несколько секунд.
— Луаньяк, — сказал герцог, — пришлите мне сейчас же двух хороших кавалеристов. Его величество сам даст им поручение.
Быстро пройдя через галерею, Луаньяк подошел к помещению, которое мы отныне будем называть казармой Сорока пяти. Он открыл дверь и начальственным тоном вызвал:
— Господин де Карменж! Господин де Биран!
— Господин де Биран вышел, — доложил дежурный.
— Как, без разрешения?
— Он изучает один из городских кварталов по поручению, которое дал ему нынче утром герцог д’Эпернон.
— Отлично! Тогда позовите господина де Сент-Малина.
Оба имени громко прозвучали под сводами зала, и двое названных тотчас же явились.
— Господа, — сказал Луаньяк, — пойдемте к господину д’Эпернону.
И он проводил их к герцогу, который отпустил Луаньяка и повел их к королю.
Король жестом велел герцогу удалиться и остался наедине с молодыми людьми.
В первый раз им пришлось предстать перед королем. Вид у Генриха был весьма внушительный.
Волнение сказывалось у них по-разному.
У Сент-Малина глаза блестели, усы топорщились, мышцы ног напряглись.
Карменж был бледен; так же готовый на все, но меньше хорохорясь, он не решался смотреть прямо на короля.
— Вы из числа моих Сорока пяти, господа? — спросил король.
— Я удостоен этой чести, ваше величество, — ответил Сент-Малин.
— А вы, сударь?
— Я полагал, что мой товарищ говорил за нас обоих, сир, вот почему не сразу ответил. Но что касается службы у вашего величества, то я всецело в вашем распоряжении, как любой другой.
— Хорошо. Вы сядете на коней и поедете по дороге в Тур. Вы се знаете?
— Спросим, — сказал Сент-Малин.
— Найдем, — сказал Карменж.
— Чтобы поскорее выбраться на нее, поезжайте сперва через Шарантон.
— Слушаемся, ваше величество.
— Будете скакать до тех пор, пока не нагоните одинокого путника.
— Ваше величество, вы соблаговолите указать нам его приметы? — спросил Сент-Малин.
— У него очень длинные руки и ноги, а на боку или сзади — длинная шпага.
— Можем мы узнать его имя? — спросил Эрнотон де Карменж. По примеру товарища он, несмотря на правила этикета, решился задать вопрос королю.
— Его зовут Тень, — сказал Генрих.
— Мы будем спрашивать имена у всех путешественников, что попадутся нам по дороге.
— И обыщем все гостиницы.
— Когда вы встретите и узнаете нужного мне человека, вы передадите ему это письмо.
Оба молодых человека одновременно протянули руки.
Король несколько мгновений колебался.
— Как вас зовут? — спросил он одного.
— Эрнотон де Карменж, — ответил тот.
— А вас?
— Рене де Сент-Малин.
— Господин де Карменж, вы будете хранить письмо, а господин де Сент-Малин передаст его кому следует.
Эрнотон принял от короля драгоценный пакет и уже намеревался спрятать его себя под курткой. В тот момент, когда письмо уже исчезало, Сент-Малин задержал руку Карменжа и почтительно поцеловал королевскую печать. Затем он отдал письмо Карменжу.
Эта лесть вызвала у Генриха III улыбку:
— Ну, ну, господа, я вижу, что вы верные слуги.
— Это все, ваше величество?
— Все, господа. Только еще одно, последнее, указание.
Молодые люди поклонились, приготовились слушать.
— Письмо это, господа, — сказал Генрих, — важнее человеческой жизни. За сохранность его вы отвечаете головой. Передайте его Тени так, чтобы никто об этом не знал. А главное — путешествуйте так, словно едете по своим личным делам. Можете идти.
Молодые люди вышли из королевского кабинета. Эрнотон был вне себя от радости, Сент-Малина раздирала зависть. У первого сверкали глаза, жадный взгляд второго буквально прожигал куртку товарища.
Господин д’Эпернон ждал их, намереваясь расспросить.
— Господин герцог, — ответил Эрнотон, — король запретил нам говорить.
Они незамедлительно отправились в конюшню, где королевский курьер выдал им двух дорожных лошадей, сильных и хорошо снаряженных.
Господин д’Эпернон, без сомнения, проследил бы за ними, чтобы побольше разузнать, если бы в тот самый миг, когда Карменж и Сент-Малин уходили, он не был предупрежден, что с ним желает во что бы то ни стало и сию же минуту говорить какой-то человек.
— Что за человек? — раздраженно спросил герцог.
— Чиновник судебной палаты Иль-де-Франс.
— Да что я, тысяча чертей, — вскричал он, — эшевен, прево или стражник?
— Нет, ваша светлость, но вы друг короля, — послышался слева от него чей-то робкий голос. — Умоляю вас, выслушайте меня как его друг.
Герцог обернулся.
Перед ним, сняв шляпу и низко опустив голову, стоял какой-то жалкий проситель, на лице которого сменялись все цвета радуги.
— Кто вы такой? — грубо спросил герцог.
— Никола Пулен, к вашим услугам, ваша светлость.
— Вы хотите со мной говорить?
— Прошу об этой милости.
— У меня нет времени.
— Даже чтобы выслушать секретное сообщение?
— Я их выслушиваю ежедневно не менее ста. Ваше будет сто первое. Это всего на одно больше.
— Даже если речь идет о жизни его величества? — прошептал на ухо д’Эпернону Никола Пулен.
— Ого! Я вас слушаю, зайдите ко мне в кабинет.
Никола Пулен вытер лоб, с которого струился пот, и последовал за герцогом.
XXVIII
РАЗОБЛАЧЕНИЕ
Проходя через свою приемную, д’Эпернон обратился к одному из дежуривших там дворян.
— Как ваше имя, сударь? — спросил он, увидев незнакомое ему лицо.
— Пертинакс де Монкрабо, ваша светлость, — ответил дворянин.
— Так вот, господин де Монкрабо, станьте у моей двери и никого не впускайте.
— Слушаюсь, господин герцог.
— Никого, понимаете?
— Так точно.
И г-н Пертинакс, красовавшийся в роскошном одеянии — оранжевых чулках при синем атласном камзоле — повиновался приказу д’Эпернона. Он прислонился к стене и, скрестив руки, занял позицию у портьеры.
Никола Пулен прошел за герцогом в кабинет. Он видел, как открылась и закрылась дверь, как опустилась портьера, и задрожал самым настоящим образом.
— Послушаем, что у вас там за заговор, — сухо произнес герцог. — Но клянусь Богом, пусть это не окажется шуткой. Сегодня мне предстояло заняться различными приятными вещами, и если, слушая вас, я даром потеряю время — берегитесь!
— Нет, господин герцог, — сказал Никола Пулен, — речь идет об ужасающем злодеянии.
— Ну, посмотрим, какое там злодеяние.
— Господин герцог…
— Меня намереваются убить, не так ли? — прервал его д’Эпернон, выпрямившись, словно спартанец. — Что ж, пускай! Моя жизнь принадлежит королю и Богу. Пусть ее у меня отнимут.
— Речь не о вас, ваша светлость.
— Ах, вот как! Странно!
— Речь идет о короле. Его собираются похитить, господин герцог.
— Опять эти разговоры о похищении! — пренебрежительно сказал д’Эпернон.
— На этот раз, господин герцог, дело серьезное, если я о нем правильно сужу.
— Когда же намереваются похитить его величество?
— В первый же раз, как его величество в носилках отправится в Венсен.
— И как же его похитят?
— Умертвив обоих доезжачих.
— Кто это сделает?
— Госпожа де Монпансье.
Д’Эпернон рассмеялся:
— Бедная герцогиня — чего только ей не приписывают!
— Меньше, чем она намеревается сделать.
— И этим она занимается в Суассоне?
— Герцогиня в Париже.
— В Париже?
— Могу ручаться в этом, ваша светлость.
— Вы ее видели?
— Да.
— То есть вам так показалось.
— Я имел честь с нею беседовать.
— Честь?
— Я ошибся, господин герцог. Несчастье.
— Но, дорогой мой, не герцогиня же похитит короля!
— Именно так, ваша светлость.
— Она сама?
— Собственной персоной, с помощью своих клевретов, конечно.
— А откуда она будет руководить похищением?
— Из окна монастыря святого Иакова, который, как вы знаете, находится у дороги в Венсен.
— Что за чертовщину вы несете!
— Правду, ваша светлость. Все меры приняты к тому, чтобы носилки остановились в то время, когда они поравняются с монастырем.
— А кто принял эти меры?
— Увы!
— Да говорите же, черт побери!
— Я, ваша светлость.
Д’Эпернон так и отскочил:
— Вы?!
Пулен вздохнул.
— Вы участвуете в заговоре и вы же доносите? — продолжал д’Эпернон.
— Ваша светлость, — сказал Пулен, — честный слуга короля должен на все идти ради него.
— Что верно, то верно, вы рискуете попасть на виселицу.
— Я предпочитаю смерть унижению или гибели короля, вот почему я к вам пришел.
— Чувства эти весьма благородные, возымели вы их, видимо, весьма и весьма неспроста.
— Я подумал, господин герцог, что вы друг короля, что вы меня не выдадите и разоблачение, с которым я к вам пришел, обратите ко всеобщему благу.
Герцог долго всматривался в Пулена, внимательно изучая игру его бледного лица.
— За этим кроется и что-то другое, — сказал он. — Как ни решительно действует герцогиня, она не осмелилась бы одна пойти на такое предприятие.
— Она дожидается своего брата, — ответил Никола Пулен.
— Герцога Генриха! — вскричал д’Эпернон с ужасом, который был бы уместен при появлении льва.
— Нет, не Генриха, ваша светлость, всего лишь герцога Майенского.
— А, — с облегчением вздохнул д’Эпернон. — Но не важно: надо расстроить эти прекрасные замыслы.
— Разумеется, господин герцог, — сказал Пулен, — поэтому я и поторопился.
— Если вы сказали правду, сударь, то не останетесь без вознаграждения.
— А зачем мне лгать, ваша светлость? Какой мне в этом смысл, — я ведь ем хлеб короля. Разве я не обязан ему верной службой? Предупреждаю, если вы мне не поверите, я дойду до самого короля и, если понадобится, умру, чтобы доказать свою правоту.
— Нет, тысяча чертей, к королю вы не пойдете, слышите, мэтр Никола? Вы будете иметь дело только со мной.
— Хорошо, ваша светлость. Я так сказал только потому, что вы как будто колеблетесь.
— Нет, я не колеблюсь. Для начала я должен вам тысячу экю.
— Так вам угодно, чтобы об этом знали только вы?
— Да, я тоже хочу отличиться, послужить королю, и потому один намерен владеть тайной. Вы ведь мне уступаете ее?
— Да, ваша светлость.
— С гарантией, что все — правда.
— О, с полнейшей гарантией.
— Значит, тысяча экю вас устраивает, не считая будущих благ?
— У меня семья, ваша светлость.
— Ну так что ж, черт побери, я вам предлагаю тысячу экю.
— Если бы в Лотарингии узнали, что я сделал подобное разоблачение, каждое слово, которое я сейчас произнес, стоило бы мне пинты крови.
— Ну и что же?
— Вот потому-то я принимаю тысячу экю.
— К чертям ваши объяснения! Мне-то какое дело, почему вы их принимаете, раз вы от них не отказались? Значит, тысяча экю ваши.
— Благодарю вас, ваша светлость.
Видя, что герцог подошел к сундуку и запустил в него руку, Пулен двинулся вслед за ним. Но герцог довольствовался тем, что вынул из сундука книжечку, в которую и записал крупными и ужасающе кривыми буквами:
“Три тысячи ливров господину Никола Пулену”.
Так что нельзя было понять, отдал он эти три тысячи ливров или остался должен.
— Это то же самое, как если бы они уже были у вас в кармане, — сказал он.
Пулен, протянувший было руку и выставивший вперед ногу, убрал и то и другое, и это было похоже на поклон.
— Значит, договорились? — сказал герцог.
— О чем, ваша светлость?
— Вы и дальше будете ставить меня в известность?
Пулен заколебался: ему навязывали роль шпиона.
— Ну что ж, — сказал герцог, — ваша благородная преданность уже иссякла?
— Нет, ваша светлость.
— Значит, я могу на вас рассчитывать?
Пулен сделал над собой усилие.
— Можете рассчитывать, — сказал он.
— И все будет известно только мне?
— Так точно, только вам.
— Ступайте, друг мой, ступайте, тысяча чертей! Держитесь теперь, господин де Майен!
Он произнес эти слова, поднимая портьеру, чтобы выпустить Пулена. Затем, подождав, пока тот прошел через приемную и исчез, он поспешил к королю.
Король, устав от игры с собачками, играл теперь в бильбоке.
Д’Эпернон напустил на себя озабоченный вид, но король, поглощенный своим важным занятием, не обратил на это ни малейшего внимания. Однако видя, что герцог хранит упорное молчание, он поднял голову и окинул его быстрым взглядом.
— В чем дело, — сказал он, — что еще приключилось, Ла Валет? Умер ты, что ли?
— Дал бы Бог умереть, сир! — ответил д’Эпернон. — Я бы не видел того, что приходится видеть.
— Что? Мое бильбоке?
— Ваше величество, если королю грозят величайшие опасности, верноподданный не может не быть в тревоге.
— Снова какие-то опасности! Побрал бы тебя, герцог, самый черный дьявол!
При этих словах король удивительно ловко подхватил кончиком бильбоке шар слоновой кости.
— Значит, вы не ведаете о том, что происходит? — спросил герцог.
— Может быть, и не ведаю, — сказал король.
— Вас окружают сейчас злейшие враги, сир.
— Кто же, например?
— Во-первых, герцогиня де Монпансье.
— Ах да, правда. Вчера она присутствовала на казни Сальседа.
— Как легко вы говорите об этом, ваше величество!
— Ну а мне-то что за дело?
— Значит, вы об этом знали?
— Сам видишь, что знал, раз говорю.
— А что должен приехать господин де Майен, вы тоже знали?
— Со вчерашнего вечера.
— Значит, этот секрет… — протянул неприятно пораженный герцог.
— Разве от короля можно что-нибудь утаить, дорогой мой? — небрежно сказал Генрих.
— Но кто мог вам сообщить?
— Неужели тебе не известно, что у нас, помазанников Божьих, бывают откровения свыше?
— Или полиция.
— Это одно и то же.
— Ах, ваше величество, вы имеете свою полицию и ничего мне об этом не говорите! — продолжал уязвленный д’Эпернон.
— Кто же, черт побери, обо мне позаботится, кроме меня самого?
— Вы меня обижаете, сир.
— У тебя есть рвение, дорогой мой Ла Валет, и это большое достоинство, но ты медлителен, а это крупный недостаток. Вчера в четыре часа твоя новость была бы замечательной, но сегодня…
— Что же сегодня, ваше величество?
— Она малость запоздала, признайся.
— Напротив, видимо, для нее еще слишком рано и вам не угодно меня выслушать, — сказал д’Эпернон.
— Мне? Да я уж битый час тебя слушаю.
— Как? Вам угрожают, на вас собираются напасть, вам ставят западни, а вы не беспокоитесь?
— А зачем? Ведь ты организовал мне охрану и еще вчера утверждал, что обеспечил мое бессмертие. Ты хмуришься? Почему? Разве твои Сорок пять возвратились в Гасконь или же они больше ничего не стоят? Может быть, эти господа — как мулы: испытываешь их — они так и пышут жаром, купишь — еле-еле плетутся.
— Хорошо, ваше величество, вы сами увидите, что они такое.
— Буду очень рад. И скоро я это увижу?
— Может быть, раньше, чем вы думаете.
— Ладно, не пугай!
— Увидите, увидите, ваше величество. Кстати, когда вы едете за город?
— В лес?
— Да.
— В субботу.
— Значит, через три дня?
— Через три дня.
— Мне только это и надо было знать, сир.
Д’Эпернон поклонился королю и вышел.
В приемной он спохватился, что позабыл отпустить г-на Пертинакса с его поста. Но г-н Пертинакс отпустил себя сам.
XXIX
ДВА ДРУГА
Теперь, если угодно читателю, мы последуем за двумя молодыми людьми, которых король, радуясь, что и у него есть маленькие секреты, отправил к своему посланцу Шико.
Едва вскочив в седло, Эрнотон и Сент-Малин чуть не придушили друг друга в воротах, ибо каждый из них старался не дать другому опередить себя.
Действительно, кони их, тесно прижавшись друг к другу, выступали рядом, и от этого колено одного всадника давило на колено другого.
Лицо Сент-Малина побагровело, щеки Эрнотона побледнели.
— Сударь, вы причиняете мне боль! — закричал первый, как только они оказались за воротами. — Раздавить вы меня хотите, что ли?
— Вы тоже делаете мне больно, — ответил Эрнотон. — Только я не жалуюсь.
— Вы, кажется, вознамерились преподать мне урок?
— Ничего я не намерен вам преподать.
— Ах, вот как! — сказал Сент-Малин, понукая свою лошадь, чтобы разговаривать со своим спутником на еще более близком расстоянии. — Повторите то, что вы сейчас сказали.
— Зачем?
— Я вас не совсем понял.
— Вы хотите затеять ссору? — флегматично произнес Эрнотон. — Напрасное старание!
— Зачем бы я стал искать с вами ссоры? Разве я вас знаю? — презрительно возразил Сент-Малин.
— Отлично знаете, сударь, — сказал Эрнотон. — Во-первых, там, откуда мы оба сюда явились, мой дом находится всего в двух лье от вашего, а меня, как человека древнего рода, все вокруг хорошо знают. Во-вторых, вы взбешены, видя меня в Париже, — вы ведь воображали, что вызвали вас одного. И наконец, это письмо король поручил хранить мне.
— Ладно, пусть так! — вскричал Сент-Малин, побледнев от ярости. — Согласен — все это правда. Но из этого следует…
— Что именно?
— …что рядом с вами я чувствую себя не в своей тарелке.
— Уходите, если вам угодно. Черт побери, я не стану вас удерживать.
— Вы делаете вид, что не понимаете.
— Напротив, милостивый государь, я вас отлично понимаю. Вам хотелось бы отнять у меня письмо и везти его самому. К сожалению, для этого пришлось бы меня убить.
— А может быть, этого-то мне и хочется!
— Хотеть и сделать — две разные вещи.
— Спустимся вместе к реке, и вы увидите, не одно ли и то же для меня — захотеть и сделать.
— Милостивый государь, если король поручил мне везти письмо…
— То что же?
— …то я доставлю его куда следует.
— Я силой отниму его у вас, хвастун!
— Надеюсь, вы не вынудите меня размозжить вам череп, словно бешеной собаке?
— Вас?
— Конечно: у меня при себе пистолет, а у вас его нет.
— Ну, ты мне за это заплатишь! — сказал Сент-Малин, осаживая лошадь.
— Надеюсь, после того, как поручение будет выполнено.
— Каналья!
— Пока же, умоляю вас, сдерживайтесь, господин де Сент-Малин. Ибо мы имеем честь служить королю, а у народа, если он сбежится, услышав, как мы ссоримся, создастся очень худое мнение о королевских слугах. И кроме того, подумайте, как станут ликовать враги его величества, видя, что среди защитников престола царит вражда.
Сент-Малин рвал зубами свои перчатки. Из-под его оскаленных зубов текла кровь.
— Легче, сударь, легче, — сказал Эрнотон, — поберегите свои руки, им же придется держать шпагу, когда у нас с вами до этого дойдет.
— О, я сейчас подохну! — вскричал Сент-Малин.
— Тогда мне и делать ничего не придется, — заметил Эрнотон.
Трудно сказать, до чего довела бы Сент-Малина его все возрастающая ярость, но внезапно, переходя Сент-Антуан-скую улицу у Сен-Поля, Эрнотон увидел чьи-то носилки, вскрикнул от изумления и остановился, разглядывая женщину, чье лицо было полускрыто вуалью.
— Мой вчерашний паж, — прошептал он.
Дама, по-видимому, не узнала его и проследовала мимо, глазом не моргнув, но все же откинувшись в глубь носилок.
— Вы, кажется, заставляете меня ждать, — сказал Сент-Малин, — и притом лишь для того, чтобы заглядываться на дам!
— Прошу извинить меня, сударь, — сказал Эрнотон, снова тронув коня.
Теперь молодые люди рысью помчались по улице предместья Сен-Марсо; они не заговаривали даже для перебранки.
Внешне Сент-Малин казался довольно спокойным. Но на самом деле он дрожал от гнева. Ко всему он еще заметил — и, как всякий отлично поймет, это открытие его отнюдь не смягчило, — что, как бы хорошо он ни ездил верхом, при случае он не смог бы угнаться за Эрнотоном, ибо конь его оказался гораздо менее вынослив и был уже весь в мыле, хотя проехали они еще очень небольшое расстояние. Это весьма озаботило Сент-Малина. Словно желая отдать себе полный отчет в том, на что способен его конь, он принялся понукать его и хлыстом и шпорами, что вызвало между ним и лошадью ссору.
Дело происходило на берегу Бьевры.
Лошадь не стала тратить сил на красноречие, как это сделал Эрнотон. Но, вспомнив о своем происхождении— она была нормандской породы, — она затеяла со своим всадником тяжбу, которую он проиграл.
Сперва она осадила назад, потом встала на дыбы, потом прыгнула, как баран, и устремилась к Бьевре. Там она бросилась в воду, где и освободилась от своего всадника.
Проклятия, которыми принялся сыпать Сент-Малин, можно было слышать за целое лье, хотя их наполовину заглушала вода.
Когда ему удалось встать на ноги, глаза у него вылезали на лоб, а из расцарапанного лба струилась по лицу кровь.
Сент-Малин огляделся по сторонам: лошадь его уже поднялась вверх по откосу, и был виден только ее круп, из чего следовало, что ее голова была повернута в сторону Лувра.
Сент-Малин понимал, что усталый, грязный, промокший до костей, весь в крови и ссадинах, он не сможет догнать свою лошадь: даже попытка сделать это была бы смешна.
Тогда он припомнил слова, которые сказал Эрнотону. Если он не пожелал одно мгновение подождать своего спутника на улице Сент-Антуан, можно ли было рассчитывать, что спутник этот будет столь любезен, что станет ожидать его два часа на дороге?
Это рассуждение заставило Сент-Малина от гнева перейти к самому беспросветному отчаянию, особенно когда он увидел из ложбинки, где находился, как Эрнотон молча пришпорил своего коня и помчался наискось по какой-то дороге, видимо, по его мнению, кратчайшей.
У людей, по-настоящему вспыльчивых, кульминация гнева — вспышка безумия.
Одни принимаются бредить.
Другие доходят до полного физического и умственного изнеможения.
Сент-Малин тут же вытащил кинжал: на один миг у него мелькнула мысль вонзить его себе в грудь по самую рукоятку. Никто, даже он сам, не мог бы отдать себе отчет в том, как невыносимо страдал он в эту минуту. Подобный приступ может привести к смерти, а если выживешь — то постареешь лет на десять.
Он поднялся по береговому откосу, руками и коленями упираясь в землю, пока не выбрался наверх.
Там он в полной растерянности устремил взгляд на дорогу: на ней никого не было видно.
Справа исчез Эрнотон, поспешивший, как видно, вперед. Своего коня Сент-Малин тоже не видел.
В лихорадочно возбужденном мозгу Сент-Малина сменяли одна другую мрачные мысли, в которых он гневно ополчался и на других, и на себя самого, как вдруг до слуха его донесся конский топот, и справа, на дороге, по которой уехал Эрнотон, он увидел всадника.
Всадник вел под уздцы вторую лошадь.
Таков был результат предпринятого Карменжем маневра: он взял вправо, зная, что, если убегающую лошадь преследовать, она от страха помчится еще быстрей. Поэтому он поскакал в обход и наперерез нормандцу и стал поджидать коня, загородив ему путь на узкой дороге.
Когда Сент-Малин увидел Карменжа, радость захлестнула его: он ощутил внезапный прилив добрых чувств, благодарности, взор его смягчился, но лицо тотчас же омрачилось: он понял все превосходство Эрнотона, ибо в глубине души должен был признать, что, будь он на месте своего спутника, ему и в голову не пришло бы поступить таким же образом.
Благородство этого поступка сокрушило Сент-Малина: он ощущал его, оценивал и невыразимо страдал. Он пробормотал слова благодарности, на которые Эрнотон не обратил внимания, яростно схватил поводья лошади и, несмотря на боль во всем теле, вскочил в седло.
Эрнотон не произнес ни слова и шагом проехал вперед, поглаживая своего коня.
Как мы уже говорили, Сент-Малин был искусным наездником. Приключившаяся с ним беда была чистой случайностью. После короткой борьбы, в которой он на этот раз взял верх, он заставил коня подчиниться и перейти на рысь.
Уязвленная гордость долго спорила в нем с чувством благодарности. Наконец он еще раз сказал Эрнотону:
— Благодарю вас, сударь.
Эрнотон лишь слегка поклонился, дотронувшись рукой до шляпы.
Дорога показалась Сент-Малину бесконечной. Около половины третьего они заметили человека, который шагал в сопровождении пса. Человек был высокого роста, на боку у него висела шпага. Это был не Шико, хотя руки и ноги были у него не короче.
Сент-Малин, все еще покрытый с ног до головы грязью, не смог удержаться: он увидел, что Эрнотон проехал мимо этого человека, не обратив на него ни малейшего внимания.
В уме гасконца злобной молнией сверкнула мысль, что он может поймать своего спутника на допущенной им ошибке. Он подъехал к идущему по дороге человеку.
— Путник, — обратился он к нему, — вы никого не ждете?
Путешественник окинул взглядом Сент-Малина: надо признаться, вид у того был не очень приятный. Лицо, еще искаженное пережитым приступом ярости, непросохшая грязь на одежде, свежие следы крови на щеках, нахмуренные густые брови, лихорадочная дрожь руки, протянутой к нему скорее угрожающе, чем вопросительно, — все это показалось путнику довольно зловещим.
— Если я жду, то чего-нибудь, а не кого-нибудь. А если бы и ждал кого-нибудь, то уж наверное не вас.
— Очень уж вы невежливы, милейший, — сказал Сент-Малин, радуясь возможности дать наконец своему гневу излиться и вдобавок бесясь при мысли, что ошибся и тем самым усугубил торжество соперника.
Он поднял хлыст, чтобы ударить путника. Но тот, опередив его, поднял палку и нанес Сент-Малину удар по плечу, потом он свистнул своему псу; тот вцепился сначала в ногу коню, а затем в бедро всаднику, вырвав там кусок мяса, а тут лоскут ткани.
Лошадь, разъярясь от боли, снова понесла, и сдержать ее Сент-Малин не смог. Однако, несмотря на все усилия коня, всадник удержался в седле.
Так он проскочил мимо Эрнотона, который взглянул на потерпевшего, но даже не улыбнулся.
Когда Сент-Малину удалось успокоить лошадь, и с ним поравнялся де Карменж, уязвленная гордость его хотя и не укротилась, но, во всяком случае, вошла в известные границы.
— Ну-ну, — сказал он, силясь улыбнуться, — похоже, что у меня сегодня несчастливый день. А ведь этот человек по описанию его величества очень похож на того, с кем мы должны встретиться.
Эрнотон промолчал.
— Я с вами говорю, сударь, — сказал Сент-Малин, выведенный из себя этим молчанием, которое он с полным основанием счел выражением презрения и хотел нарушить каким-нибудь решительным взрывом, даже если бы это стоило ему жизни. — Я с вами говорю: вы что, не слышите?
— У того, кого нам описал его величество, нет ни палки, ни собаки.
— Это верно, — ответил Сент-Малин. — Поразмысли я хорошенько, у меня было бы меньше одной ссадиной на плече и двумя укусами на бедре. Я вижу, что хорошо быть благоразумным и спокойным.
Эрнотон не ответил. Он приподнялся на стременах, приставил ладонь к глазам, чтобы лучше видеть, и сказал:
— Вон там стоит и поджидает нас тот, кого мы ищем.
— Черт возьми, сударь, — глухо вымолвил Сент-Малин, завидуя новому успеху своего спутника, — у вас зоркие глаза. Я едва-едва различаю какую-то черную точку.
Эрнотон молча ехал вперед. Вскоре уже и Сент-Малин смог увидеть и узнать человека, описанного королем. Им опять овладело дурное чувство, он пришпорил коня, чтобы подъехать первым.
Эрнотон этого ждал. Он взглянул на него без всякой угрозы и даже как бы случайно. Этот взгляд заставил Сент-Малина сдержаться, и он перевел коня на шаг.
XXX
СЕНТ-МАЛИН
Эрнотон не ошибся: указанный им человек был действительно Шико.
Он тоже обладал отличным зрением и слухом и потому издалека увидел и услышал приближение всадников. Он предполагал, что они ищут именно его, и потому стал их поджидать.
Когда у него уже не осталось на этот счет никаких сомнений и он увидел, что оба всадника направляются прямо к нему, он без всякой аффектации положил руку на рукоять длинной шпаги, словно стремясь придать себе благородную осанку.
Эрнотон и Сент-Малин переглянулись, не произнеся ни слова.
— Говорите, сударь, если вам угодно, — сказал с поклоном Эрнотон своему противнику. Ибо при данных обстоятельствах слово “противник” гораздо уместнее, чем “спутник”.
У Сент-Малина перехватило дух: любезность эта показалась ему столь неожиданной, что горло у него сжалось. Вместо ответа он только опустил голову.
Видя, что он молчит, Эрнотон заговорил.
— Сударь, — обратился он к Шико, — этот господин и я — ваши покорные слуги.
Шико поклонился с самой любезной улыбкой.
— Не будет ли нескромным с нашей стороны, — продолжал молодой человек, — спросить, как ваше имя?
— Меня зовут Тень, — ответил Шико.
— Вы чего-нибудь ожидаете?
— Да, сударь.
— Вы, конечно, будете так добры, что скажете нам, чего вы ждете?
— Я жду письма.
— Вы понимаете, чем вызвано наше любопытство, сударь, для вас отнюдь не оскорбительное?
Шико снова поклонился, причем улыбка его стала еще любезнее.
— Откуда вы ждете письма? — продолжал Эрнотон.
— Из Лувра.
— Какая на нем печать?
— Королевская.
Эрнотон сунул руку за пазуху.
— Вы, наверное, узнали бы это письмо? — спросил он.
— Да, если бы вы мне его показали.
Эрнотон вынул из-за пазухи письмо.
— Да, это оно, — сказал Шико. — Вы знаете, конечно, что для пущей верности я должен кое-что дать взамен?
— Расписку?
— Вот именно.
— Сударь, — продолжал Эрнотон, — король поручил мне везти это письмо. Но вручить его вам поручено моему спутнику.
И с этими словами он передал письмо Сен-Малину, который взял его и вручил Шико.
— Благодарю вас, господа, — сказал тот.
— Как видите, мы точно выполнили порученное нам дело. На дороге никого нет, так что никто не видел, как мы с вами заговорили и передали вам письмо.
— Совершенно верно, сударь, охотно признаю это и, если понадобится, подтвержу. Теперь моя очередь.
— Расписку! — в один голос произнесли молодые люди.
— Кому из вас я должен ее передать?
— Король на этот счет не сказал ничего! — воскликнул Сент-Малин, угрожающе глядя на своего спутника.
— Напишите две расписки, сударь, — сказал Эрнотон, — и дайте каждому из нас. Отсюда до Лувра далеко, и по дороге со мной или с этим господином может приключиться какое-нибудь несчастье.
Когда Эрнотон произносил эти слова, в глазах его тоже загорелся недобрый огонек.
— Вы, сударь, человек рассудительный, — сказал Шико Эрнотону.
Он вынул из кармана записную книжку, вырвал две странички и на каждой написал:
“Получено от г-на Рене де Сент-Малина письмо, привезенное г-ном Эрнотоном де Карменжем.
Тень”.
— Прощайте, сударь, — сказал Сент-Малин, беря свою расписку.
— Прощайте, сударь, доброго пути! — прибавил Эрнотон. — Может быть, вам нужно передать в Лувр еще что-нибудь?
— Решительно ничего, господа. Большое вам спасибо, — сказал Шико.
Эрнотон и Сент-Малин повернули коней к Парижу, а Шико пошел своей дорогой таким скорым шагом, что ему позавидовал бы самый быстроходный мул.
Когда он скрылся из виду, Эрнотон, не проехав и ста шагов, резким движением остановил коня и, обращаясь к Сент-Малину, сказал:
— Теперь, сударь, спешивайтесь, если вам угодно.
— Зачем? — удивленно спросил Сент-Малин.
— Поручение нами выполнено, а у нас есть о чем поговорить. Место для такого разговора здесь, по-моему, вполне подходящее.
— Пожалуйста, сударь, — сказал Сент-Малин, по примеру своего спутника спешиваясь с лошади.
Эрнотон подошел к нему и сказал:
— Вы сами знаете, сударь, что, пока мы были в пути, вы без всякого вызова с моей стороны и нисколько себя не стесняя — словом, без всяких оснований, — тяжко оскорбляли меня. Более того: вы хотели заставить меня обнажить шпагу в самый неподходящий момент, и я вынужден был отказаться. Но сейчас момент самый подходящий, и я к вашим услугам.
Сент-Малин выслушал эту речь с мрачным видом и насупившись. Но странное дело! Бурный порыв ярости, захлестнувший было Сент-Малина и унесший его за все дозволенные пределы, схлынул. Сент-Малину больше не хотелось драться.
Он поразмыслил, и здравое суждение возобладало: он понимал, в каком невыгодном положении находится.
— Сударь, — сказал он после короткой паузы, — когда я оскорблял вас, вы в ответ оказывали мне услуги. Поэтому теперь я не смог бы разговаривать с вами, как тогда.
Эрнотон нахмурился:
— Да, но вы еще верите в то, что недавно говорили.
— Почем вы знаете?
— Потому что все ваши слова были подсказаны завистью и злобой. С тех пор прошло часа два, а за это время зависть и злоба не могли иссякнуть в вашем сердце.
Сент-Малин покраснел, но не возразил ни слова в ответ. Эрнотон выждал немного и продолжал:
— Если король предпочел вам меня, значит, мое лицо ему больше понравилось; если я не упал в Бьевру, то потому, что лучше вас езжу верхом; если я не принял вашего вызова в ту минуту, когда вам вздумалось бросить его мне, значит, я рассудительнее вас; если пес того человека меня не укусил, то потому, что я предусмотрительнее. Наконец, если я настаиваю сейчас, чтобы вы вняли мне и обнажили шпагу, значит, у меня больше подлинного чувства чести, а если вы станете колебаться — берегитесь: я скажу, что я и храбрее вас.
Сент-Малин дрожал всем телом, глаза его метали молнии. Все дурные качества, о которых говорил Эрнотон, одно за другим накладывали отпечаток на его мертвенно-бледное лицо. При последних словах, произнесенных его спутником, он как бешеный выхватил из ножен шпагу.
Эрнотон уже стоял перед ним со шпагой в руке.
— Послушайте, сударь, — сказал Сент-Малин, — возьмите обратно свои последние слова. Они лишние, вы должны признать это, ибо достаточно хорошо меня знаете, — вы же сами говорили, что на родине мы живем на расстоянии двух лье друг от друга. Возьмите их обратно. Вам должно быть вполне достаточно моего унижения. Зачем вам меня бесчестить?
— Сударь, — сказал Эрнотон, — я никогда не поддаюсь порывам гнева и говорю лишь то, что хочу сказать. Поэтому я не стану брать свои слова назад. Я тоже достаточно щепетилен. При дворе я человек новый и не хочу краснеть каждый раз, как мы с вами будем встречаться. Пожалуйста, скрестим шпаги не только ради моего, но и ради вашего спокойствия.
— О милостивый государь, я дрался одиннадцать раз, — произнес Сент-Малин с мрачной улыбкой, — и из одиннадцати моих противников двое погибли. Полагаю, вы и это знаете?
— А я, сударь, никогда еще не дрался, — ответил Эрнотон, — так как не было подходящего случая. Теперь он представился, хотя я и не искал его, и, по мне, он вполне подходящий, так что я хватаюсь за него. Что ж, я жду вас, милостивый государь.
— Послушайте, — сказал Сент-Малин, покачав головой, — мы с вами земляки, оба состоим на королевской службе, не будем же ссориться. Я считаю вас достойным человеком, я бы даже протянул вам руку, если бы это не было для меня почти невозможно. Что делать, я показал себя перед вами таким, каков я есть — уязвленным до глубины души. Это не моя вина. Я завистлив — и ничего не могу с собой поделать. Природа создала меня в недобрый час. Господин де Шалабр, или господин де Монкрабо, или господин де Пенкорнэ не вывели бы меня из равновесия. Но ваши качества вызвали во мне горькое чувство. Пусть это утешит вас — ведь моя зависть бессильна, и, к моему величайшему сожалению, ваши достоинства при вас и останутся. Итак, на этом мы покончим, не так ли, сударь? По правде говоря, я буду невыносимо страдать, когда вы станете рассказывать о причине нашей ссоры.
— Никто о нашей ссоре не узнает, сударь.
— Никто?
— Нет, ибо, если мы будем драться, я вас убью или умру сам. Я не из тех, кому не дорога жизнь. Наоборот, я ее очень ценю. Мне двадцать три года, и я из хорошего рода, я не совсем бедняк, я надеюсь на себя и на будущее, и, будьте покойны, я стану защищаться, как лев.
— Ну, а мне, тридцать лет, и, в противоположность вам, жизнь мне опостылела, ибо я не верю ни в будущее, ни в себя самого. Но как ни велико мое отвращение к жизни, как ни мало я верю в счастье, я предпочел бы с вами не драться.
— Значит, вы готовы извиниться передо мной? — спросил Эрнотон.
— Нет, я уже довольно говорил, довольно извинялся. Если вам этого недостаточно — тем лучше; вы перестанете быть выше меня.
— Однако должен заметить вам, сударь, что мы оба гасконцы и, если мы таким образом прекратим свою ссору, над нами все станут смеяться.
— Этого-то я и жду, — сказал Сент-Малин.
— Ждете?..
— Человека, который стал бы смеяться. О, какое это было бы приятное ощущение!
— Значит, вы отказываетесь от поединка?
— Я не желаю драться — разумеется, с вами.
— После того как сами же меня вызывали?
— Не могу отрицать.
— Ну а если, милостивый государь, терпение мое иссякнет и я наброшусь на вас со шпагой?
Сент-Малин судорожно сжал кулаки.
— Ну что ж, тем лучше, — сказал он, — я далеко отброшу свою шпагу.
— Берегитесь, сударь, тогда я все же ударю вас, но не острием.
— Хорошо, ибо в этом случае у меня появится причина для ненависти, и я вас смертельно возненавижу. Затем, в один прекрасный день, когда вами овладеет душевная слабость, я поймаю вас, как вы меня сейчас поймали, и в отчаянии убью.
Эрнотон вложил шпагу в ножны.
— Странный вы человек, и я жалею вас от души.
— Жалеете меня?
— Да, вы, должно быть, ужасно страдаете.
— Ужасно.
— Вы, наверно, никогда никого не любили?
— Никогда.
— Но ведь есть же у вас какие-нибудь страсти?
— Только одна.
— Вы уже говорили мне — зависть.
— Да, а это значит, что я наделен всеми страстями сразу, но это сопряжено для меня с невыразимым стыдом и злосчастьем: я начинаю обожать женщину, как только она полюбит другого; я люблю золото, когда его трогает чужая рука; я жажду славы, когда она дается другому. Я пью, чтобы разжечь в себе злобу, то есть чтобы она внезапно обострилась, если уснула во мне, чтобы она вспыхнула и загорелась, как молния. О да, да, вы верно сказали, господин де Карменж, я глубоко несчастен.
— И вы никогда не пытались стать лучше? — спросил Эрнотон.
— Мне это не удалось.
— На что же вы надеетесь? Что вы намерены делать?
— Что делает ядовитое растение? На нем цветы, как и на других, и кое-кто извлекает из них пользу. Что делают медведь, хищная птица? Они нападают. Но некоторые дрессировщики обучают их, и они помогают им на охоте. Вот что я такое и чем я, вероятно, буду в руках господина д’Эпернона и господина де Луаньяка до того дня, когда они скажут: это растение — вредоносное, вырвем его с корнем; это животное взбесилось, надо его прикончить.
Эрнотон немного успокоился.
Теперь Сент-Малин уже не вызывал в нем гнева, но стал для «его предметом изучения. Он ощутил нечто вроде жалости к этому человеку, у которого стечение обстоятельств вызвало столь необычные признания.
— Большая жизненная удача — а вы благодаря своим качествам можете ее достичь — исцелит вас, — сказал он. — Развивайте заложенные в вас побуждения, господин де Сент-Малин, и вы преуспеете на войне и в политической интриге. Тогда, достигнув власти, вы станете меньше завидовать.
— Как бы высоко я ни вознесся, как бы глубоко ни пустил корни, надо мной всегда будет кто-то высший, и от этого я буду страдать, а снизу до моего слуха будет долетать чей-нибудь насмешливый хохот.
— Мне жаль вас, — повторил Эрнотон.
Они замолчали.
Эрнотон подошел к своему коню, привязанному к дереву, отвязал его и вскочил в седло.
Сент-Малин во время разговора не выпускал из рук поводьев.
Оба поскакали обратно в Париж. Один был молчалив и мрачен от того, что он услышал, другой — от того, что поведал.
Внезапно Эрнотон протянул Сент-Малину руку.
— Хотите, я постараюсь излечить вас? — предложил он. — Попробуем?
— Ни слова больше об этом, сударь, — ответил Сент-Малин. — Нет, не пытайтесь, это вам не удастся. Наоборот, возненавидьте меня — это лучший способ вызвать мое восхищение.
— Я еще раз повторю вам — мне жаль вас, сударь, — сказал Эрнотон.
Через час оба всадника прибыли в Лувр и направились к казарме Сорока пяти.
Король отсутствовал и должен был возвратиться только вечером.
XXXI
ГОСПОДИН ДЕ ЛУАНЬЯК ОБРАЩАЕТСЯ К СОРОКА ПЯТИ С КРАТКОЙ РЕЧЬЮ
Оба молодых человека расположились каждый у окошка своей личной комнаты, чтобы не пропустить момента, когда возвратится король.
При этом каждым из них владели различные мысли.
Сент-Малин был весь охвачен ненавистью, стыдом, честолюбивыми устремлениями, сердце его пылало, брови хмурились.
Эрнотон уже забыл обо всем, что произошло, и думал лишь об одном — кто же эта дама, которой он дал возможность проникнуть в Париж под видом пажа и которую внезапно увидел в роскошных носилках. Здесь было о чем поразмыслить сердцу, более склонному к любовным переживаниям, чем к честолюбивым расчетам. Поэтому Эрнотон оказался настолько поглощен своими мыслями, что, только подняв голову, заметил, что Сент-Малин исчез.
Мгновенно он сообразил, что случилось.
Не будучи в такой задумчивости, как он, Сент-Малин не упустил момента, когда вернулся король: теперь король был во дворце, и Сент-Малин отправился к нему.
Эрнотон быстро вскочил, прошел через галерею и явился к королю в тот самый момент, когда от него выходил Сент-Малин.
— Смотрите, — радостно сказал он Эрнотону, — вот что подарил мне король. — И он показал ему золотую цепь.
— Поздравляю вас, сударь, — сказал Эрнотон без малейшей дрожи в голосе.
И он, в свою очередь, прошел к королю.
Сент-Малин ожидал со стороны г-на де Карменжа какого-нибудь проявления зависти. Поэтому он был ошеломлен невозмутимостью Эрнотона и стал поджидать его выхода.
У Генриха Эрнотон пробыл минут десять, которые Сент-Малину показались десятью веками.
Наконец он появился. Сент-Малин ждал его на том же месте. Он окинул Эрнотона быстрым взглядом, и сердце его стало биться ровнее. Эрнотон вышел с пустыми руками, во всяком случае, при нем не было ничего, что бросалось бы в глаза.
— А вам, сударь, — спросил Сент-Малин, все еще занятый своей мыслью, — вам король что-нибудь дал?
— Он протянул мне руку для поцелуя, — ответил Эрнотон.
Сент-Малин так стиснул в кулаке свою золотую цепь, что одно из звеньев ее сломалось.
Оба направились к казарме.
Когда они входили в общий зал, раздался звук трубы, по этому сигналу все Сорок пять вышли из своих комнат, словно пчелы из ячеек.
Каждый задавал себе вопрос, произошло ли что-нибудь новое, и, воспользовавшись в то же время тем, что все оказались вместе, осматривал товарищей, выглядевших иначе, чем прежде.
Все они были одеты с большой роскошью, быть может, дурного вкуса, но изящество заменял блеск.
Впрочем, у них было то, чего искал д’Эпернон, довольно тонкий политик, хотя плохой военный: у одних — молодость, у других — сила, у третьих — опыт, и у каждого этим возмещался хотя бы один из его недостатков. В целом они походили на компанию офицеров, одетых в партикулярное платье, ибо за редким исключением почти все старались усвоить военную осанку.
Таким образом, у всех оказались длинные шпаги, звенящие шпоры, воинственно закрученные усы, замшевые или кожаные перчатки и сапоги; все это блистало позолотой, благоухало помадой, было украшено бантами, “дабы являть вид”, как говорилось в те времена.
Людей с хорошим вкусом можно было узнать по темным тонам их одежды; расчетливых — по прочности сукна; щеголей — по кружевам, розовому или белому атласу.
Пердикка де Пенкорнэ отыскал у какого-то еврея цепь из позолоченной меди, тяжелую, как цепь арестанта.
Пертинакс де Монкрабо был весь в шелковых лентах и расшитом атласе: свой костюм он приобрел у купца на улице Одриет, приютившего одного дворянина, раненного грабителями. Дворянин этот велел привезти себе из дому новую одежду и в благодарность за гостеприимство оставил прежнее платье, слегка запачканное грязью и кровью. Но купец отдал костюм в чистку, и он оказался вполне пристойным; правда, зияли две прорехи от ударов кинжалом, но Пертинакс велел скрепить эти места золотой вышивкой, и таким образом изъян стал незаметен.
Эсташ де Мираду ничем не блистал: ему пришлось одеть Лардиль, Милитора и обоих ребят. Лардиль выбрала себе самый богатый наряд, который только допускался для женщин тогдашними законами против роскоши. Милитор облачился в бархат и парчу, украсился серебряной цепью, шапочкой с перьями и вышитыми чулками. Поэтому бедному Эсташу пришлось удовольствоваться суммой, едва достаточной, чтобы не выглядеть оборванцем.
Господин де Шалабр сохранил свою куртку серо-стального цвета, поручив портному несколько освежить ее и подбить новой подкладкой. Искусно нашитые там и сям полосы бархата придали этой неизносимой одежде новый вид. Господин де Шалабр уверял, что он весьма охотно надел бы новую куртку, но, несмотря на свои самые тщательные поиски, он не смог найти лучшего и более прочного сукна.
Впрочем, он потратился на короткие пунцовые штаны, сапоги, плащ и шляпу: все это на глаз вполне соответствовало друг другу, как всегда бывает в одежде скупцов.
Что касается оружия, то оно было у него безукоризненно: старый вояка, он сумел разыскать отличную испанскую шпагу, кинжал, вышедший из рук искусного мастера, и прекрасный металлический нагрудник. Это избавило его от необходимости тратиться на кружевные воротники и брыжи.
Все любовались друг другом, когда, сурово хмуря брови, вошел г-н де Луаньяк.
Он велел всем стать в круг и сам стал в середине с видом, не сулившим ничего приятного. Нечего и говорить, что все взгляды устремились на начальника.
— Господа, — спросил он, — все в сборе?
— Все! — ответили сорок пять голосов, обнаруживая единство, являвшееся хорошим предзнаменованием для будущих действий.
— Господа, — продолжал Луаньяк, — вы были вызваны сюда, чтобы служить в качестве личных телохранителей короля; звание это весьма почетное, но и ко многому обязывающее.
Луаньяк сделал паузу. Послышался одобрительный шепот.
— Однако кое-кто из вас, сдается мне, понял свои обязанности не слишком хорошо: я им о них напомню.
Каждый навострил уши: ясно было, что все страстно желают узнать, в чем заключаются их обязанности, если даже и не очень стараются выполнять таковые.
— Не следует воображать, господа, что король принял вас на службу и дает вам жалованье за то, чтобы вы поступали, словно легкомысленные скворцы, и по своей прихоти работали когтями и клювом. Необходима дисциплина, хотя и скрытая; вы же являетесь собранием дворян, которые должны быть самыми послушными и преданными людьми королевства.
Собравшиеся затаили дыхание: по торжественному началу речи легко было понять, что в дальнейшем дело пойдет о вещах очень важных.
— С нынешнего дня вы живете в Лувре, то есть в самой лаборатории государственной власти. Если вы и не присутствуете при обсуждении всех дел, вас нередко будут назначать для выполнения важных заданий. Таким образом, вы оказываетесь в положении должностных лиц, которым не только доверена государственная тайна, но которые облечены исполнительной властью.
По рядам гасконцев вторично пробежал радостный шепот. Многие высоко поднимали голову, словно от гордости они выросли на несколько дюймов.
— Предположим теперь, — продолжал Луаньяк, — что одно из таких должностных лиц, порою отвечающих за безопасность государства или прочность королевской власти, — предположим, повторяю, что какой-нибудь офицер выдал тайное решение Совета или что солдат, которому поручено важное дело, не выполнил его. Вы согласны, что такой человек заслуживает смерти?
— Разумеется, — ответили несколько голосов.
— Так вот, господа, — продолжал Луаньяк, и в голосе его зазвучала угроза, — сегодня здесь было выболтано решение, принятое на Королевском совете, что, может быть, сделало неосуществимой меру, которую угодно было принять его величеству.
Радость и гордость сменились страхом. Все Сорок пять беспокойно и подозрительно переглядывались.
— Двое из вас, господа, были застигнуты на том, что они судачили на улице, как две старые бабы, бросая на ветер слова столь важные, что каждое из них может теперь нанести кое-кому удар и погубить его.
Сент-Малин тотчас же подошел к Луаньяку и сказал ему:
— Сударь, я полагаю, что в данный момент имею честь говорить с вами от имени всех своих товарищей. Необходимо отвести подозрение от тех слуг короля, которые ни в чем не повинны. Мы просим вас поскорее высказаться до конца, чтобы мы знали, в чем дело и нам было ясно, кто достоин, а кто не достоин доверия.
— Нет ничего легче, — ответил Луаньяк.
Все еще более насторожились.
— Сегодня его величество получил известие, что один из его недругов, именно из тех, с которыми вы призваны вести борьбу, явился в Париж, бросая ему тем самым вызов или же намереваясь устроить против него заговор. Имя этого недруга произнесено было тайно, но его услышал человек, стоявший на страже, то есть такой человек, на которого следовало бы положиться, как на каменную стену: подобно ей, он должен был быть глух, нем и непоколебим. Однако же этот человек на улице принялся повторять имя королевского врага, да еще так громко, что привлек внимание прохожих и вызвал нечто вроде смятения в умах. Я лично был свидетелем всего этого, ибо шел той же самой дорогой и слышал все собственными ушами. Я положил руку ему на плечо, чтобы он замолчал, ибо он закусил удила и, если бы он произнес еще несколько слов, то помешал бы осуществлению мер столь важных, что я вынужден был бы заколоть его кинжалом; к счастью, он замолчал после первого моего предупреждения.
При этих словах Луаньяка все увидели, как Пертинакс де Монкрабо и Пердикка де Пенкорнэ побледнели и в полуобморочном состоянии прислонились друг к другу.
Монкрабо, пошатываясь, пытался пробормотать что-то в свое оправдание.
Смущение выдало виновных, и все взгляды устремились на них.
— Ничто не может служить вам извинением, сударь, — сказал Луаньяк Пертинаксу. — Если вы были пьяны, то должны понести кару за то, что напились, если вы поступали просто как тщеславный хвастун, то опять же заслуживаете наказания.
Воцарило зловещее молчание.
Как помнит читатель, г-н де Луаньяк начал свою речь с угрозы применить строгие меры, которые могли оказаться роковыми для виновных.
— Ввиду происшедшего, — продолжал Луаньяк, — вы, господин де Монкрабо, и вы, господин де Пенкорнэ, будете наказаны.
— Простите, сударь, — ответил Пертинакс, — но мы прибыли из провинции, при дворе мы новички и не знали, как надо вести себя в делах, касающихся политики.
— Нельзя было принимать на себя честь служения его величеству, не взвесив предварительно тягот королевской службы.
— Клянемся, что в дальнейшем будем немы, как могила!
— Все это хорошо, господа, но сумеете ли вы завтра загладить зло, причиненное вами сегодня?
— Попытаемся изо всех сил!
— Вряд ли вам это удастся.
— Тогда для первого раза, сударь, простите нас.
— Вы все живете, — продолжал Луаньяк, избегая прямого ответа, — внешне совершенно свободно, но эту свободу я ограничу строжайшей дисциплиной; слышите, господа? Те, кто сочтет это условие службы слишком тягостным, могут уйти: на их место найдется очень много желающих.
Никто не ответил, но многие нахмурились.
— Итак, господа, — продолжал Луаньяк, — предупреждаю вас о следующем: правосудие у нас будет вершиться тайно, быстро, без всякого судебного разбирательства и писанины. Предателям грозит немедленная смерть. Для этого всегда найдется предлог, так что все останется шито-крыто. Предположим, например, что господин де Монкрабо и господин де Пенкорнэ, вместо того чтобы по-приятельски беседовать на улице о вещах, которые им лучше было бы позабыть, повздорили по поводу вещей, о которых они имели право помнить. Так вот, разве эта ссора не могла привести к поединку между господином де Пенкорнэ и господином де Монкрабо? Во время дуэли нередко случается, что противники одновременно нападают друг на друга и одновременно пронзают друг друга шпагой. На другой день после ссоры обоих этих господ находят мертвыми в Пре-о-Клер, как нашли господ де Келюса, де Шомберга и де Можирона мертвыми в Турнеле; об этом поговорят, как вообще говорят о дуэлях, — вот и все. Итак, все, кто выдаст государственную тайну, — вы хорошо поняли меня, господа? — будут по моему приказу умерщвляться на дуэли или каким-нибудь иным способом.
Монкрабо совсем обессилел и всей своей тяжестью навалился на товарища, у которого бледность принимала все более свинцовый оттенок, а зубы были так стиснуты, что, казалось, вот-вот сломаются.
— За менее тяжкие проступки, — продолжал Луаньяк, — я буду налагать менее тяжкую кару — например заключение — и буду применять ее в тех случаях, когда от этого больше пострадает виновный, чем потеряет королевская служба. Сегодня я пощажу господина де Монкрабо, который болтал, и господина де Пенкорнэ, который слушал. Я прощаю их, потому что они могли провиниться просто по незнанию. Заключением я их наказывать не стану, так как, возможно, они мне понадобятся сегодня вечером или завтра. Поэтому я подвергну их каре, которая тоже будет применяться к провинившимся, — штрафу.
При слове “штраф” лицо г-на де Шалабра вытянулось, точно мордочка куницы.
— Вы получили тысячи ливров, господа, из них вы вернете сто. Эти деньги я употреблю на вознаграждение по заслугам тех, кого мне не в чем будет упрекнуть.
— Сто ливров! — пробормотал Пенкорнэ. — Но, черт побери! У меня их нет: все пошло на экипировку.
— Вы продадите свою цепь, — сказал Луаньяк.
— Я готов отдать ее в королевскую казну, — ответил Пенкорнэ.
— Нет, сударь, король не принимает вещей своих подданных в уплату наложенных на них штрафов. Продайте сами и уплатите. Да, вот еще что, — продолжал Луаньяк. — Я заметил, что между некоторыми членами вашего отряда бывают раздоры: каждый раз, когда вспыхнет какая-то ссора, о ней должно быть доложено мне, и один я буду решать, насколько она серьезна, и разрешать поединок, если найду, что он необходим. В наши дни что-то слишком часто убивают людей на дуэли, это сейчас модно, а я не желаю, чтобы, следуя моде, мой отряд постоянно терял бойцов. За первый же поединок, за первый же вызов, который последует без моего разрешения, я подвергну виновных строгому аресту, весьма крупному штрафу, а может быть, даже еще более суровой каре, если данный случай причинит существенный ущерб службе. Пусть те, к кому это может относиться, сделают для себя необходимый вывод. Можете расходиться, господа. Кстати: пятнадцать человек должны находиться сегодня вечером в часы приема внизу у лестницы, ведущей в покои его величества, пятнадцать других — снаружи, без определенного задания, они просто должны смешаться со свитой тех, кто явится в Лувр; наконец, еще пятнадцать останутся в казарме.
— Господин де Луаньяк, — сказал, подходя ближе, Сент-Малин, — разрешите мне не то чтобы дать вам совет, — упаси меня Бог! — но попросить разъяснения. Всякий приличный отряд должен иметь хорошего начальника. Как сможем мы действовать совместно, не имея предводителя?
— Ну, а я кто, по-вашему? — спросил Луаньяк.
— Вы, сударь, для нас генерал.
— Нет, вы ошибаетесь — это герцог д’Эпернон.
— Значит, вы наш полковник? И все равно этого недостаточно: необходимо, чтобы у каждых пятнадцати человек был свой командир.
— Это правильно, — ответил Луаньяк, — но не могу же я являться в трех лицах. Однако я не желаю также, чтобы среди вас одни были ниже, другие выше иначе, чем по своим заслугам.
— О, что касается этого различия, то, если бы вы и не принимали его во внимание, оно само собою возникнет: в деле вы ощутите разницу между нами, даже если в общей массе она не будет заметна.
— Поэтому я намерен назначать сменных командиров, — сказал Луаньяк, обдумав слова Сент-Малина. — Вместе с паролем на данный день я буду называть также имя дежурного командира. Таким образом, каждый по очереди будет подчиняться и командовать. Я ведь еще не знаю способностей каждого из вас: надо, чтобы они проявились, тогда я смогу сделать выбор. Я посмотрю и рассужу.
Сент-Малин отвесил поклон и присоединился к своим товарищам.
— Так, значит, вы поняли, — продолжал Луаньяк, — я разделил вас на три отделения по пятнадцать человек. Свои номера вы знаете; первое отделение дежурит на лестнице, второе находится во дворе, третье — в казарме. Бойцы этого последнего должны быть готовы к выступлению по первому сигналу. Теперь, господа, ступайте. Господин де Монкрабо, господин де Пенкорнэ, завтра вы должны уплатить штраф. Казначеем являюсь я.
Все вышли. Остался один Эрнотон де Карменж.
— Вам что-нибудь угодно, сударь? — спросил Луаньяк.
— Да, господин де Луаньяк, — с поклоном ответил Эрнотон. — Мне кажется, вы позабыли сообщить, что же в точности мы должны будем делать? Состоять на королевской службе — это, разумеется, очень почетно, но я хотел бы знать, как далеко может завести нас повиновение приказу.
— Это вопрос весьма щекотливый, — ответил Луаньяк, — и дать на него какой-нибудь категоричный ответ я не смог бы.
— Осмелюсь спросить вас, сударь: почему?
Эти вопросы задавались де Луаньяку с такой утонченной вежливостью, что, вопреки своему обыкновению, г-н де Луаньяк тщетно искал повода для суровой отповеди.
— Потому что сам я зачастую утром не знаю, что мне придется делать вечером.
— Сударь, — сказал Карменж, — по сравнению с нами вы занимаете настолько высокое положение, что должны знать много такого, что нам неизвестно.
— Поступайте так, как поступал я, господин де Карменж: узнавайте обо всем, никого не расспрашивая, я вам препятствовать не стану.
— Я обратился к вам за разъяснением, сударь, — сказал Эрнотон, — так как прибыл ко двору не связанный ни с кем ни дружбой, ни враждой, никакие страсти меня не ослепляют, и потому я, хоть и не стою больше других, могу быть вам полезнее любого другого.
— У вас нет ни друзей, ни врагов?
— Нет, сударь.
— Однако я полагаю, что короля-то вы любите?
— Я обязан и готов его любить, господин де Луаньяк, как слуга, как верноподданный и как дворянин.
— Ну, так вот вам один из существеннейших пунктов, на это вы и должны равняться, и, если вы человек сообразительный, вы сами распознаете, кто стоит на противоположной точке зрения.
— Отлично, сударь, — с поклоном ответил Эрнотон, — все ясно. Но остается одно обстоятельство, сильно меня смущающее.
— Какое же?
— Слепое повиновение.
— Это первейшее условие.
— Я отлично понимаю, сударь. Слепое повиновение зачастую бывает делом нелегким для людей, щепетильных в вопросах чести.
— Это уж меня не касается, господин де Карменж, — сказал Луаньяк.
— Однако если вам какое-нибудь распоряжение не по вкусу?..
— Я вижу подпись господина д’Эпернона, и это возвращает мне душевное спокойствие.
— А господин д’Эпернон?
— Господин д’Эпернон видит подпись его величества и тоже, подобно мне, успокаивается.
— Вы правы, сударь, — сказал Эрнотон, — я ваш покорный слуга.
Эрнотон направился было к выходу, но Луаньяк остановил его.
— Вы, однако же, натолкнули меня на некоторые соображения, — сказал он, — и я вам скажу кое-что, чего не сказал бы другим, ибо эти другие не говорили со мною так мужественно и достойно, как вы.
Эрнотон поклонился.
— Господин де Карменж, — Луаньяк вплотную приблизился к молодому человеку, — может быть, сегодня вечером сюда явится одно весьма важное лицо: не упускайте его из виду и следуйте за ним повсюду, куда бы оно ни направилось по выходе из Лувра.
— Позвольте сударь, это, кажется, называется шпионить?
— Шпионить? Вы так полагаете? — холодно произнес Луаньяк. — Возможно, однако же…
Он вынул из-за пазухи бумагу и протянул ее Карменжу. Тот, развернув ее, прочел:
“Если бы господин де Майен осмелился появиться сегодня в Лувре, прикажите кому-нибудь проследить за ним”.
— Чья подпись? — спросил Луаньяк.
— Подпись: д’Эпернон, — прочел Карменж.
— Итак, сударь?
— Вы правы, — ответил Эрнотон, низко кланяясь, — я прослежу за господином де Майеном.
И он удалился.
XXXII
ГОСПОДА ПАРИЖСКИЕ БУРЖУА
Господин де Майен, о котором так много говорили в Лувре и который об этом даже не подозревал, вышел из дворца Гизов черным ходом и верхом, в сапогах, словно только что с дороги, отправился с тремя свитскими в Лувр.
Предупрежденный о его прибытии, г-н д’Эпернон велел доложить о нем королю.
Предупрежденный, в свою очередь, г-н де Луаньяк вторично дал Сорока пяти те же указания; итак, пятнадцать человек, как и было условлено, находились в передней, пятнадцать — во дворе и четырнадцать — в казарме. Мы говорим “четырнадцать”, так как Эрнотона, получившего особое поручение, не было среди его товарищей.
Но ввиду того, что свита де Майена не вызывала никаких опасений, второй группе было разрешено возвратиться в казарму.
Господина де Майена ввели к королю: он явился с самым почтительным видом и был принят королем с подчеркнутой любезностью.
— Итак, кузен, — обратился к нему король, — вы решили посетить Париж?
— Так точно, сир, — ответил Майен, — я счел своим долгом от имени братьев и своего собственного напомнить вашему величеству, что у вас нет слуг более преданных, чем мы.
— Ну, ей же Богу, — сказал Генрих, — все это так хорошо знают, что, если бы не удовольствие, которое доставил мне ваш приезд, вы могли и не затруднять себя этим путешествием. Уж наверно имеется и какая-нибудь иная причина!
— Ваше величество, я опасался, что ваша благосклонность к дому Гизов могла уменьшиться вследствие странных слухов, которые с некоторых пор распространяются нашими врагами.
— Каких таких слухов? — спросил король с тем добродушием, которое делало его столь опасным даже для самых близких людей.
— Как? — спросил несколько озадаченный Майен. — Вы не слышали о нас ничего неблагоприятного?
— Милый кузен, — ответил король, — знайте раз и навсегда: я не потерпел бы, чтобы здесь плохо отзывались о господах де Гизах. А так как окружающие меня знают это лучше, чем, видимо, знаете вы, никто не говорит о них ничего дурного.
— В таком случае, сир, — сказал Майен, — я не жалею, что приехал, — ведь я имею счастье видеть своего короля и убедиться, что он к нам расположен. Однако, охотно признаю, что излишне поторопился.
— О, герцог, Париж — славный город, где всегда можно обделать хорошее дельце, — заметил король.
— Конечно, ваше величество, но у нас в Суассоне тоже есть дела.
— Какие же?
— Дела вашего величества.
— Что правда, то правда, Майен. Продолжайте заниматься ими так же, как начали. Я умею должным образом ценить деятельность тех, кто мне служит.
Герцог, улыбаясь, откланялся.
Король возвратился к себе, потирая руки.
Луаньяк сделал знак Эрнотону, тот сказал два слова своему слуге и последовал за четырьмя всадниками.
Слуга побежал в конюшню, а Эрнотон, не теряя времени, пошел пешком. Он мог не опасаться, что упустит из виду г-на де Майена; благодаря болтливости Пертинакса де Монкрабо и Пердикка де Пенкорнэ все уже знали о прибытии в Париж принца из дома Гизов. Услышав эту новость, добрые лигисты стали выходить из своих домов и выяснять, где он находится.
Майена нетрудно было узнать по широким плечам, дородной фигуре и бороде “ковшом”, по выражению д’Этуаля.
Поэтому сторонники Гизов шли за ним до ворот Лувра, там они подождали, пока он выйдет, чтобы проводить герцога до ворот его дворца.
Тщетно старался Мейнвиль избавиться от самых ревностных сторонников и говорил им:
— Умерьте свой пыл, друзья, умерьте свой пыл. Клянусь Богом, вы навлечете на нас подозрения.
Несмотря ни на что, когда герцог прибыл во дворец Сен-Дени, где он остановился, у него оказалось не менее двухсот или даже трехсот человек провожающих.
Таким образом, Эрнотону легко было следовать за герцогом будучи никем не замеченным.
В тот момент, когда герцог, входя во дворец, обернулся, чтобы ответить на приветствия толпы, Эрнотону показалось, что один из дворян, раскланивавшихся вместе с Майеном, — тот самый всадник, который сопровождал пажа или при котором состоял паж, пробравшийся с его, Эрнотона, помощью в Париж и проявивший столь поразительное любопытство ко всему, связанному с казнью Сальседа.
Почти в тот же миг, сейчас же после того, как Майен скрылся за воротами, сквозь толпу проехали конные носилки. К ним подошел Мейнвиль: раздвинулись занавески, и Эрнотону при лунном свете почудилось, что он узнает и своего пажа, и даму, которую он видел у Сент-Антуанских ворот.
Мейнвиль и дама обменялись несколькими словами, носилки исчезли в воротах дворца, Мейнвиль последовал за носилками, и ворота тотчас же закрылись.
Спустя минуту Мейнвиль показался на балконе, от имени герцога поблагодарил парижан и ввиду позднего времени предложил им разойтись по домам, дабы злонамеренные люди не истолковали их скопление по-своему.
После этого все удалились, за исключением десяти человек, вошедших во дворец вслед за герцогом.
Эрнотон, как и все прочие, удалился или, вернее, пока другие расходились, делал вид, что следует их примеру.
Десять оставшихся избранников были представителями Лиги, посланными к г-ну де Майену, чтобы поблагодарить его за приезд и одновременно убедить его, что он должен уговорить брата тоже приехать в Париж.
Дело в том, что эти достойные буржуа, с которыми мы свели беглое знакомство в тот самый вечер, когда Пулен скупал кирасы, — эти достойные буржуа, отнюдь не лишенные воображения, наметили во время прежних своих собраний немало планов; этим планам не хватало только одобрения и поддержки вождя, на которую можно было бы рассчитывать.
Бюсси-Леклер только что сообщил, что он обучил военному делу три монастыря и составил воинские отряды по пятьсот буржуа — то есть у него наготове около тысячи человек.
Лашапель-Марто провел работу среди чиновников, писцов и вообще всех служащих судебной палаты. Он мог предложить делу и людей совета, и людей действия: для совета у него были двести чиновников в мантиях, для прямых действий — двести пехотинцев в стеганых камзолах.
В распоряжении Бригара были торговцы с улицы Ломбард, завсегдатаи рынков и улицы Сен-Дени.
Крюсе, подобно Лашапелю-Марто, располагал судейскими и, кроме того, Парижским университетом.
Дельбар предлагал моряков и портовых рабочих, пятьсот человек — все народ весьма решительный.
У Лушара было пятьсот барышников и торговцев лошадьми — все заядлые католики.
Владелец мастерской оловянной посуды Полар и колбасник Жильбер представляли полторы тысячи мясников и колбасников города и предместий.
Мэтр Никола Пулен, приятель Шико, предлагал всех и вся.
Выслушав в четырех стенах своей звуконепроницаемой комнаты эти новости и предложения, герцог Майенский сказал:
— Меня радует, что силы Лиги столь внушительны, но я не вижу той цели, которую она, видимо, намерена передо мной поставить.
Мэтр Лашапель-Марто тотчас же приготовился произнести речь, состоящую из трех пунктов. Все знали, что он весьма велеречив. Маейн содрогнулся.
— Будем кратки, — сказал он.
Бюсси-Леклер не дал Марто заговорить.
— Так вот, — начал он. — Мы жаждем перемен. Сейчас мы сильнее противника и хотим осуществить эти перемены; кажется, я говорю кратко, ясно и определенно.
— Но что вы намерены делать, чтобы добиться перемен? — спросил Майен.
— Я полагаю, — сказал Бюсси-Леклер с откровенностью, которая в человеке столь низкого происхождения могла показаться дерзостной, — я полагаю, что раз мысль о нашем Союзе исходила от наших вождей, то они, а не мы должны указать цель.
— Господа, — ответил Майен, — вы абсолютно правы: цель должна быть указана теми, кто имеет честь быть вашими вождями. Но потому-то я и повторяю вам, что лишь полководец может решать, когда именно он даст бой. Даже если он видит, что его войска построены в боевой порядок, хорошо вооружены и проникнуты воинским духом, — сигнал к нападению он даст только тогда, когда сочтет нужным.
— Но все же, ваше высочество, — вмешался Крюсе, — Лига не хочет больше ждать, мы уже имели честь заявить вам об этом.
— Не хочет ждать чего, господин Крюсе? — спросил Майен.
— Достижения цели.
— Какой цели?
— Нашей; у нас тоже есть свой план.
— Тогда дело другое, — сказал Майен. — Если у вас есть свой план, я не стану возражать.
— Так точно, ваше высочество, но можем ли мы рассчитывать на вашу поддержку?
— Без сомнения, если план этот подойдет моему брату и мне.
— Весьма вероятно, господин герцог, что вы его одобрите.
— Посмотрим, в чем же он состоит.
Лигисты переглянулись, двое или трое из них дали Лашапелю-Марто знак говорить.
Лашапель-Марто выступил вперед, словно испрашивая у герцога разрешения взять слово.
— Говорите, — сказал герцог.
— Так вот, ваше высочество, — сказал Марго. — Придумали его мы — Леклер, Крюсе и я. Он тщательно обдуман и, вероятно, обеспечит нам полный успех.
— Ближе к делу, господин Марго, ближе к делу.
— В городе имеется ряд пунктов, связывающих воедино все вооруженные силы города: это Большой и Малый Шатле, дворец Тампля, ратуша, Арсенал и Лувр.
— Правильно, — согласился герцог.
— Все эти пункты обороняют постоянные гарнизоны, но с ними нетрудно будет справиться, так как они не ожидают внезапного нападения.
— Согласен и с этим, — сказал герцог.
— Кроме того, город защищает начальник ночной стражи со своими стрелками. Обходя город, они-то и осуществляют в находящихся под угрозой нападения местах подлинную защиту Парижа. Вот что мы придумали: захватить начальника ночной стражи у него на дому — он проживает в Кутюр Сент-Катрин. Это можно сделать без шума, так как место это удаленное от центра и малолюдное.
Майен покачал головой:
— Каким бы удаленным от центра и малолюдным оно ни было, нельзя взломать прочную дверь и сделать выстрелов двадцать из аркебуз совсем без шума.
— Мы предвидели это возражение, ваше высочество, — сказал Марго. — Один из стрелков ночной стражи — наш человек. Среди ночи мы постучим в дверь — нас будет только два-три человека: стрелок откроет и пойдет к начальнику доложить, что тот должен явиться к его величеству. В этом нет ничего необычного: приблизительно раз в месяц король вызывает к себе этого офицера, чтобы выслушать его донесения и дать ему те или иные поручения. Когда дверь будет открыта, мы впустим десять человек моряков, живущих в квартале Сен-Поль, и они покончат с начальником ночной стражи.
— То есть прирежут его?
— Так точно, ваше высочество. Таким образом оборона противника в самом начале окажется расстроенной. Правда, трусливая часть горожан и политиканы могут выдвинуть других должностных лиц и чиновников — господина председателя, господина д’О, господина де Шиверни, господина прокурора Лагеля. Что ж, мы и их схватим у них на дому в тот же час. Варфоломеевская ночь научила нас, как это делается, и с ними будет то же, что с начальником ночной стражи.
— Ого! — произнес герцог, находивший, что дело это не шуточное.
— Тем самым мы получим замечательную возможность напасть на политиканов — мы их знаем наперечет в каждом квартале — и покончить сразу со всеми ересиархами — и религиозными, и политическими.
— Все это чудесно, господа, — сказал Майен, — но вы мне не объяснили, как вы собираетесь одним ударом захватить Лувр — это ж настоящая крепость, которую непрестанно охраняют гвардейцы и вооруженные дворяне. Король хоть и робок, но его вам не прирезать, как начальника ночной стражи. Он станет защищаться, а ведь он — подумайте хорошенько — король, его присутствие произведет на горожан сильнейшее впечатление, и вас разобьют.
— Для нападения на Лувр мы отобрали четыре тысячи человек, ваша светлость, и все эти люди не так уж любят Генриха Валуа, чтобы вид его произвел на них то впечатление, о котором вы говорите.
— Вы полагаете, что этого будет достаточно?
— Разумеется, нас будет десять против одного, — сказал Бюсси-Леклер.
— А швейцарцы? Их четыре тысячи, господа.
— Да, но они в Ланьи, а Ланьи — в восьми лье от Парижа. Даже если допустить, что король сможет их предупредить, гонцам потребуется два часа, чтобы туда добраться, да швейцарцам — восемь часов, чтобы пешим строем прийти в Париж, итого — десять часов. Они явятся как раз к тому времени, когда их можно будет задержать у застав: за десять часов мы станем хозяевами города.
— Что ж, пусть так, допускаю, что вы правы: начальник ночной стражи убит, политиканы уничтожены, городские власти исчезли, — словом, все преграды пали; вы, наверное, уже решили, что вы тогда предпримете?
— Мы установим правительство честных людей, каковыми сами являемся, — сказал Бригар, — а дальше нам нужно только одно: преуспеть в своих мелких торговых делах да обеспечить хлебом насущным своих детей и жен. Кое у кого из нас, может быть, и возникнет честолюбивое поползновение стать квартальным надзирателем или командиром роты в городском ополчении. Что ж, господин герцог, мы займем эти должности, но тем дело и ограничится. Как видите, мы нетребовательны.
— Господин Бригар, ваши слова — чистое золото. Да, вы честные люди, я хорошо это знаю, и в своих рядах вы не потерпите недостойных.
— О нет, нет! — раздались кругом голоса. — Только доброе вино, без всякого осадка.
— Чудесно! — сказал герцог. — Вот это стоящие слова. А скажите-ка вы, заместитель парижского прево, много ли в Иль-де-Франс бездельников и проходимцев?
Никола Пулен, предпочитавший держаться в стороне, словно нехотя приблизился к герцогу.
— Да, ваше высочество, их, к сожалению, даже слишком много.
— Вы можете хотя бы приблизительно сказать нам, сколько вы насчитываете подобного народа?
— Да, приблизительно могу.
— Так назовите цифры.
Пулен принялся считать по пальцам:
— Воров — тысячи три-четыре; тунеядцев и нищих — две — две с половиной, случайных преступников — полторы — две, убийц — четыреста — пятьсот человек.
— Хорошо, вот, значит, по меньшей мере шесть — шесть с половиной тысяч всевозможных мерзавцев и висельников. Какую религию они исповедуют?
— Как вы сказали, ваше высочество?
— Я спрашиваю — они католики или гугеноты?
Пулен рассмеялся:
— Они исповедуют любую религию, ваша светлость, или, вернее, одну: их бог — золото, а пророк его — кровь.
— Хорошо, так обстоит дело с убеждениями религиозными. А что вы скажете о политических? Кто они — сторонники дома Валуа, лигисты, ревностные политиканы или друзья короля Наваррского?
— Они — разбойники и грабители.
— Не думайте, ваша светлость, — вмешался Крюсе, — что мы возьмем в союзники подобных людей.
— Конечно, не думаю. Но именно это меня и смущает.
— А почему это вас смущает? — с удивлением спросили некоторые из собравшихся.
— Ах, господа, поймите же, дело в том, что эти люди, не имеющие убеждений и потому не примыкающие к нам, увидят, что в Париже нет больше начальства, вооруженных блюстителей порядка, королевской власти — словом, ничего того, что их так или иначе обуздывало, и примутся обчищать ваши лавки, пока вы будете воевать, и ваши дома, пока вы станете занимать Лувр; то они будут на стороне швейцарцев против вас, то на вашей — против швейцарцев, так что всегда окажутся победителями.
— Черт побери! — сказали, переглядываясь, депутаты.
— Я полагаю, это вопрос немаловажный и стоит над ним поразмыслить, не так ли, господа? — сказал герцог. — Что до меня, то я им весьма занят и постараюсь найти способ устранить эту беду. Ибо девиз моего брата и мой — ваши интересы выше наших собственных.
У депутатов вырвался одобрительный шепот.
— Теперь, господа, позвольте человеку, проделавшему двадцать четыре лье верхом веет за сутки, поспать несколько часов. Во всяком случае, в том, чтобы выждать время, опасности нет, а если бы вы стали действовать, она бы возникла; может быть, вы другого мнения?
— О нет, вы правы, господин герцог, — сказал Бригар.
— Отлично.
— Разрешите нам, ваше высочество, смиренно откланяться, — продолжал Бригар, — а когда вам угодно будет назначить новую встречу…
— Постараюсь сделать это как можно скорее, господа, будьте покойны, — сказал Майен, — может быть, даже завтра, самое позднее — послезавтра.
И, распрощавшись наконец с ними, он оставил их в совершенном восхищении его предусмотрительностью, позволившей ему обнаружить опасность, о которой они даже не подумали.
Но не успел он скрыться, как потайная дверь, прорезанная в стене и оклеенная теми же, что и стена, обоями, открылась, и в зал ворвалась женщина.
— Герцогиня! — вскричали депутаты.
— Да, господа, — воскликнула она, — я пришла, чтобы вывести вас из затруднительного положения!
Депутаты, знавшие решительность герцогини, но в то же время несколько опасавшиеся ее пыла, окружили вновь прибывшую.
— Господа, — продолжала герцогиня с улыбкой, — чего не смогли сделать иудеи, совершила одна Юдифь. Надейтесь: у меня есть свой план.
И, протянув лигистам белые руки, которые наиболее учтивые из них поднесли к губам, она вышла в ту же дверь, за которой уже скрылся Майен.
— Ей-Богу, — вскричал Бюсси-Леклер, облизывая усы и выходя вслед за герцогиней, — кажется, в их семье это единственный мужчина!
— Уф! — прошептал Никола Пулен, отирая пот, выступивший у него на лбу, когда он увидел г-жу де Монпансье, — хотел бы я быть в стороне от всего этого.
Назад: XVI КАК И ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ УМЕР ШИКО
Дальше: Часть вторая

