XI
Первые планы, придуманные мною, были естественным следствием состояния крайнего раздражения, в котором я находился. Это были самые свирепые расчеты и самые жестокие решения. Передо мной прошли все самые большие любовные катастрофы, потрясавшие мир начиная с Отелло и кончая Антони.
Однако, прежде чем остановиться на чем-нибудь, я решил предоставить ночи охладить мой гнев, в силу общеизвестной истины: "Ночь даст совет".
Действительно, на следующий день я проснулся удивительно спокойным.
Мои жестокие планы уступили место решениям более парламентским, как говорят сегодня, и я остановился на следующем: дождаться вечера, пойти к гризетке, позвонить, закрыть дверь на задвижку, броситься к ее ногам и сказать ей то, о чем я сообщил ей письменно.
Если она меня оттолкнет, ну что же, настанет время прибегнуть к крайним мерам.
План не страдал отсутствием смелости, но автору этого плана ее несколько недоставало.
Вечером я решительно дошел до лестницы моей инфанты, но там остановился.
На следующий день я дошел до третьего этажа, но спустился, не рискуя подняться выше; на третий день я дошел до лестничной площадки, но тут моя смелость кончилась, я был подобен Керубино и не позволил себе позволить.
Наконец, на четвертый вечер я поклялся покончить с этим и признать себя трусом и простофилей, если буду вести себя как в предшествующие дни.
Затем я вошел в кафе, выпил подряд шесть чашек черного кофе, и, набравшись бодрости за три франка, поднялся на четыре этажа, после чего, не раздумывая, дернул за дверной колокольчик.
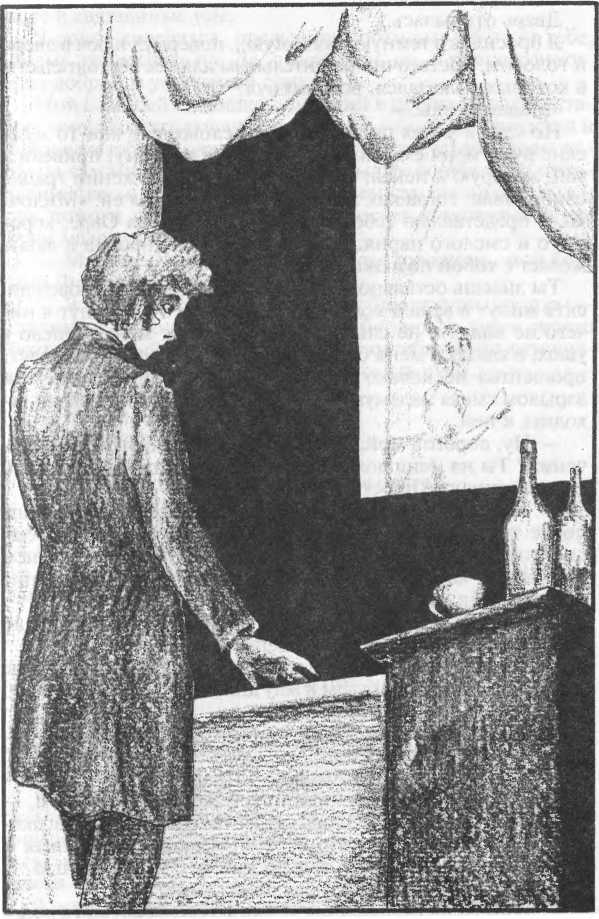
Когда он задребезжал, я готов был броситься вниз, но моя клятва меня удержала.
Шаги приближались…
Дверь открылась…
Я бросился в темную прихожую… повернул ключ в двери и голосом, достаточно решительным для тех обстоятельств, в которых я оказался, воскликнул:
"Мадемуазель!.."
Но едва я успел произнести это слово, как чьи-то мужские руки меня схватили и, затащив в комнату, привели к той, которую я искал; она при моем приближении грациозно встала, тогда как мой друг Амори сказал ей: "Милочка, я представляю тебе моего друга Филиппа Овре, хорошего и смелого парня: он живет в доме напротив и давно желает с тобой познакомиться".
Ты знаешь остальное, мой дорогой Амори: я провел десять минут в вашей компании, в течение этих минут я ничего не видел и не слышал; в это время у меня звенело в ушах, в глазах у меня было темно; после этого я поднялся, прошептал несколько слов и удалился, сопровождаемый взрывом смеха мадемуазель Флоранс и приглашениями заходить к ней.
— Ну, дорогой мой, зачем вспоминать об этом приключении? Ты на меня долго дулся, мне известно, но я думал, что ты меня уже простил.
— Так это я и сделал, мой дорогой, но, признаюсь, лишь после того, как ты предложил представить меня своему опекуну и торжественно обещал оказывать мне в будущем все услуги, какие будут в твоей власти, чтобы я искренне простил тебя.
Я хотел тебе напомнить о твоем проступке, Амори, до того как напомнить о твоем обещании.
— Мой дорогой Филипп, — улыбнулся Амори, — я не забыл ни о том ни о другом и жду дня, чтобы искупить свою вину.
— Ну, этот день наступил, — торжественно заявил Филипп. — Амори, я люблю!..
— Ба! — воскликнул Амори. — Правда?
— Да, — продолжал Филипп тем же важным тоном, — но на этот раз это не любовь студента, о которой я рассказывал. Мое чувство — это серьезная любовь, глубокая и долгая, и закончится она только вместе с моей жизнью.
Амори улыбнулся: он думал об Антуанетте.
— И ты меня попросишь, — сказал он, — служить поверенным твоей любви? Несчастный, ты заставляешь меня трепетать! Ну ничего, начинай! Как эта любовь пришла и кто предмет ее?
— Кто она, Амори? Теперь это уже не гризетка, которую берут штурмом, о чем у нас раньше шла речь, а знатная девушка, и связать меня с ней могут только нерасторжимые и священные узы.
Я долго колебался, прежде чем объявить об этом тебе, моему лучшему другу. Да, я незнатен, но, в конце концов, я из доброй и уважаемой семьи.
Мой славный дядюшка, умерший в прошлом году, оставил мне двадцать тысяч ренты и дом в Ангене; я рискнул и пришел к тебе, Амори, мой друг, мой брат, к тебе, поскольку ты сам мне признался в своих былых ошибках по отношению ко мне, в вине, большей, чем сам ты предполагал; так помоги мне сейчас: я хочу просить у твоего опекуна руки мадемуазель Мадлен.
— Мадлен! Великий Боже! Что ты говоришь, мой бедный Филипп! — воскликнул Амори.
— Я тебе говорю, — снова начал Филипп тем же торжественным тоном, — что прошу тебя, моего друга, моего брата, который признался, как он ошибался по отношению ко мне, помочь мне: я хочу просить руки…
— Мадлен? — повторил Амори.
— Несомненно.
— Мадлен д’Авриньи?
— Ода!
— Значит, ты влюблен не в Антуанетту?
— О ней я никогда не думал.
— Значит, ты любишь Мадлен?
— Да, Мадлен! И я тебя прошу…
— Но несчастный! — воскликнул Амори. — Ты снова опоздал: я тоже люблю ее.
— Ты ее любишь?
— Да, и…
— И что?
— Я просил ее руки и вчера получил согласие на брак.
— С Мадлен?
— Ода!
— Мадлен д’Авриньи?
— Несомненно.
Филипп поднес обе руки ко лбу, как человек, пораженный апоплексическим ударом; потом, ошалевший, ошеломленный, уязвленный, он поднялся, пошатываясь, машинально взял шляпу и вышел, не сказав ни слова.
Амори, искренне ему сочувствуя, хотел было броситься за ним.
Но в это время пробило десять часов и он вспомнил, что Мадлен ждет его к одиннадцати.

