VI
ПЕРЕУЛОК ТИЗОН И ПЕРЕУЛОК КЛОШ-ПЕРСЕ
Ла Моль бегом выскочил из Лувра и бросился искать по Парижу бедного Коконнаса.
Он вспомнил, как часто его друг пьемонтец приводил известное латинское изречение, утверждавшее, что самыми необходимыми богами являются Амур, Вакх и Церера, поэтому он первым делом направился на улицу Арбр-сек к мэтру Ла Карьеру в надежде, что Коконнас, после такой тревожной ночи, какую провели они, последует римскому изречению и найдет себе приют под вывеской "Путеводная звезда".
Коконнаса в гостинице не оказалось. Ла Юрьер, помня о взятом на себя обязательстве, очень любезно предложил позавтракать, на что Ла Моль охотно согласился и, несмотря на свою тревогу, поел с аппетитом.
Успокоив желудок, но не душу, Ла Моль бросился бежать по берегу Сены, вверх по ее течению. Добежав до Гревской набережной, Ла Моль узнал то место, где за три или четыре часа до этого он подвергся нападению во время своего ночного путешествия, о чем он рассказал герцогу Алансонскому и что было не редкостью в Париже за сто лет до того времени, когда Буало пришлось проснуться от звука пули, пробившей ставню в его спальне. Маленький обрывок пера с его шляпы еще валялся на поле битвы. Чувство собственности привито человеку. У Ла Моля было десять перьев, одно лучше другого, и все-таки он подобрал и это, вернее — то, что от него осталось. В то время как он с грустью разглядывал перо, совсем близко послышались тяжелые шаги, и несколько голосов грубо крикнули ему, чтоб он посторонился. Ла Моль поднял голову и увидал носилки, двигавшиеся в сопровождении стремянного и трех пажей. Носилки показались ему знакомыми, и он поспешно отошел в сторону.
Ла Моль не ошибся.
— Граф де Ла Моль?! — раздался из носилок прелестный голос, и сейчас же нежная, как атлас, белая рука раздвинула занавески.
— Да, ваше величество, это я, — ответил Ла Моль, делая низкий поклон.
— Граф де Л а Моль — с пером в руке? — продолжала дама, сидевшая в носилках. — Уж не влюблены ли вы и не нашли ли только что потерянный след милой?
— Да, мадам, я влюблен, и очень сильно, — отвечал Л а Моль, — однако в данную минуту я нашел только свои следы, хотя искал не их. Ваше величество, разрешите спросить, как ваше здоровье?
— Превосходно, граф, я, кажется, никогда так хорошо себя не чувствовала; вероятно, потому, что провела ночь не дома.
— A-а! Не дома?! — сказал Ла Моль, как-то странно посмотрев на Маргариту.
— Ну да! Что ж в этом удивительного?
— Можно ли спросить, не будучи нескромным, — в каком монастыре?
— Разумеется, это не тайна: в Благовещенском. А что здесь делаете вы, да еще с таким испуганным лицом?
— Ваше величество, я тоже провел ночь не дома, где-то около того же монастыря, а теперь я ищу моего исчезнувшего друга и вот во время поисков нашел это перо.
— А это его перо? Меня тоже пугает его участь — место здесь недоброе.
— Ваше величество, вы можете успокоиться: это перо мое; я потерял его в половине шестого утра на этом месте, где на меня напали четверо разбойников и, кажется, во что бы то ни стало хотели меня убить.
Маргарита сдержалась и ничем не выдала своего испуга.
— Вот что! Расскажите же, как было дело, — попросила она.
— Обыкновенно, мадам. Как я имел честь доложить вашему величеству, было часов пять утра…
— В пять часов утра, — прервала его Маргарита, — вы уже вышли из дому?
— Простите, ваше величество, я еще не был дома, — ответил Ла Моль.
— Ах, граф, возвращаться домой в пять часов утра! Так поздно! Вы были заслуженно наказаны, — проговорила Маргарита с улыбкой, которая показалась бы лукавой всякому другому, но для Ла Моля была только обаятельной.
— Я и не жалуюсь, — ответил Ла Моль, почтительно склоняясь, — и если бы меня за это даже искромсали, я бы все-таки чувствовал себя во сто раз счастливее, чем этого заслуживал. Словом, поздно или, если угодно вашему величеству, рано я возвращался домой из одного дома, где я провел ночь, как вдруг четыре разбойника с необычайно длинными ножами выскочили из переулка Мортельри и стали меня преследовать. Это смешно, ваше величество, не правда ли, а все же мне приходилось удирать, так как я забыл шпагу в том доме, где я был.
— Ах, понимаю! — ответила Маргарита с самым простодушным видом. — Вы вернулись за вашей шпагой?
Л а Моль взглянул на Маргариту так, точно какое-то подозрение мелькнуло у него в уме.
— Ваше величество, я, конечно, вернулся бы туда, и очень охотно, потому что у моей шпаги был замечательный клинок, но я не знаю, где этот дом.
— Как же это так, граф? — возразила Маргарита. — Вы не знаете, в каком доме вы провели ночь?
— Нет, ваше величество, пусть сам сатана сотрет меня с лица земли, если я только догадываюсь, где этот дом!
— Это странно! Ваше приключение — целый роман!
— Совершенно верно, ваше величество, — настоящий роман!
— Расскажите!
— Это немножко длинно.
— Ничего, у меня есть время.
— А главное, он очень неправдоподобен.
— Рассказывайте, рассказывайте, я как нельзя более легковерна.
— Это приказание вашего величества?
— Да, если оно необходимо.
— Повинуюсь. Вчера вечером, расставшись с двумя обворожительными дамами, с которыми я и мой друг провели вечер на мосту Сен-Мишель, мы поужинали у мэтра Ла Юрьера.
— Прежде всего, — вполне естественно спросила Маргарита, — что это за мэтр Ла Юрьер?
— Мэтр Ла Юрьер, ваше величество, — ответил Ла Моль, взглянув на Маргариту все так же подозрительно, как и в первый раз, — мэтр Л а Юрьер — это хозяин гостиницы "Путеводная звезда" на улице Арбр-сек…
— Хорошо, мне ее видно отсюда… Итак, вы ужинали у мэтра Ла Юрьера и, конечно, вместе с вашим другом Коконнасом?
— Да, мадам, с моим другом Коконнасом. В это время вошел какой-то человек и передал каждому из нас по записке.
— Одинаковой? — спросила Маргарита.
— Совершенно одинаковой. Там была только одна строчка: "Вас ждут на улице Сент-Антуан, против улицы Жуй".
— И никакой подписи? — спросила Маргарита.
— Нет, вместо подписи стояли три слова, три чарующих слова, трижды суливших одно и то же, а именно — тройное блаженство.
— Какие же три слова?
— Eros — Cupido — Amor.
— В самом деле, прелестные слова! И сдержали они то, что обещали?
— О, ваше величество, гораздо больше, во сто раз больше!.. — восторженно сказал Л а Моль.
— Продолжайте; очень любопытно узнать, что ждало вас на улице Сент-Антуан, против улицы Жуй.
— Какие-то две дуэньи, каждая с платочком в руке, объявили, что завяжут нам глаза. Как вы догадываетесь, ваше величество, мы не сопротивлялись. Моя провожатая повела меня налево, другая повела моего друга направо, и мы с ним расстались.
— А потом? — спросила Маргарита, видимо, решившая разузнать все до конца.
— Не знаю куда повели моего друга, — отвечал Ла Моль, — возможно — в ад, но меня отвели в рай.
— Из которого вас, наверно, прогнали за чрезмерное любопытство?
— Справедливо, мадам, вы замечательно прозорливы! Я с нетерпением ждал рассвета, чтобы посмотреть, где я нахожусь, но в половине пятого ко мне вошла та же дуэнья, опять завязала мне глаза, взяла с меня обещание не поднимать повязки, вывела меня на улицу, прошла со мной шагов сто, еще раз заставила меня поклясться, что я не сниму повязки, пока не сосчитаю до пятидесяти. Я сосчитал до пятидесяти и… оказался на улице Сент-Антуан, против улицы Жуй.
— А потом?..
— Потом, ваше величество, я шел в таком счастливом настроении, что не обратил внимания на четырех мерзавцев, от которых насилу отделался. И вот теперь, мадам, сердце мое радостно забилось, когда я здесь нашел обрывок моего пера; я поднял его для того, чтобы сохранить на память об этой чудесной ночи. Но, несмотря на мое счастливое настроение, меня мучит забота о том, что сталось с моим товарищем.
— Разве он не вернулся в Лувр?
— К сожалению, нет, ваше величество! Я разыскивал его всюду, где он мог быть, — ив "Путеводной звезде", и в доме для игры в мяч, и в других приличных местах, но нигде ни Аннибала, ни Коконнаса…
Произнося последние слова, Ла Моль грустно развел руками и, приоткрыв этим движением плащ, обнаружил свой колет с зияющими дырами, сквозь которые проглядывала подкладка, как в прорезях одежды тогдашних щеголей.
— Да вас изрешетили?! — воскликнула Маргарита.
— Вот именно, изрешетили, — подтвердил Ла Моль; он был не прочь повысить себе цену, рассказывая об опасности, которую ему удалось избежать. — Смотрите, мадам! Видите?
— Отчего же вы не переменили колета, когда вернулись в Лувр?
— Оттого, что в моей комнате были чужие люди, — ответил Ла Моль.
— Как они попали в вашу комнату? — спросила Маргарита с изумлением. — Кто же это был?
— Его высочество!
— Тсс! — остановила его Маргарита.
Ла Моль умолк.
— Qui ad lecticam meam stant? — спросила по-латыни Маргарита.
— Duo pueri et unus eques.
— Optime barbari! Die Moles, quem inveneris in cubiculo tuo?
— Franciscum ducem.
— Agentem?
— Nescio quid.
— Quocum?
— Cum ignoto.
— Странно, — сказала Маргарита. — Значит, вы так и не нашли своего друга? — продолжала она, видимо, совершенно не думая о том, что говорит.
— Вот почему, мадам, как я уже имел честь доложить вашему величеству, я просто изнываю от беспокойства.
— Тогда не стану больше отвлекать вас от ваших розысков, — вздохнув, сказала Маргарита. — Но почему-то мне думается, что он найдется сам собой! Впрочем, поищите.
Сказав это, королева приложила палец к губам. Поскольку красавица королева не поведала Ла Молю никакой тайны, ни в чем не призналась, молодой человек рассудил, что этот очаровательный жест не был сделан с целью предписать ему молчание, а имел какое-то другое значение.
Процессия двинулась дальше, а Ла Моль, продолжая свои розыски, направился по набережной к улице Лон-Пон и вышел на улицу Сент-Антуан. Против улицы Жуй он остановился.
Вчера, как раз на этом месте, две дуэньи завязали глаза ему и Коконнасу. Он повернул влево и очутился перед домом, вернее — перед забором, за которым стоял дом; в заборе была дверь, обитая большими гвоздями, с навесом и с ружейными бойницами по сторонам.
Дом выходил в переулок Клош-Персе, между улицей Сент-Антуан и улицей Руа-де-Сисиль.
"Ей-Богу, это здесь… готов поклясться!.. Когда я выходил, я протянул руку и нащупал совершенно такие же гвозди на двери, потом я спустился по двум ступенькам. Еще когда я опустил ногу только на первую ступеньку, пробежал какой-то человек с криком "Помогите!", и его убили на улице Руа-де-Сисиль".
Ла Моль подошел к двери и постучал.
Дверь отворил какой-то усатый привратник.
— Was ist das? — спросил он по-немецки.
"Ага! Оказывается, мы швейцарцы", — подумал Ла Моль и, самым обворожительным образом обращаясь к привратнику, сказал:
— Друг мой, я бы хотел взять свою шпагу, которую оставил в этом доме, где я ночевал!
— Ich verstehe nicht! — ответил привратник.
— Шпагу… — повторил Ла Моль.
— Ich verstehe nicht, — повторил привратник.
— Которую я оставил… Шпагу, которую я оставил…
— Ich verstehe nicht…
— В этом доме, где я ночевал.
— Gehe zum Teufel!.. — ответил привратник и захлопнул перед его носом дверь.
— Черт возьми! — сказал Ла Моль. — Будь со мной шпага, я с удовольствием проткнул бы тушу этого прохвоста… Но раз ее нет, придется отложить до другого раза.
Затем Ла Моль прошел до улицы Руа-де-Сисиль, свернул направо, сделал шагов пятьдесят, еще раз повернул направо и очутился в переулке Тизон, параллельном переулку Клош-Персе и совершенно похожем на него. Больше того: не сделал он и тридцати шагов, как снова наткнулся на калитку, обитую большими гвоздями, с навесом и бойницами и с лестницей в две ступеньки, — точно переулок Клош-Персе повернулся передом назад, чтобы еще раз взглянуть на проходившего Ла Моля.
Л а Моль подумал, что он вчера мог ошибиться и принял правую сторону за левую, поэтому он подошел к двери и постучал, собираясь заявить то же, что и у первой двери. Но на этот раз он стучал тщетно — дверь даже не открыли.
Ла Моль раза три проделал тот же путь и пришел к выводу, что дом имел два входа, один — из переулка Клош-Персе, другой — из переулка Тизон.
Однако это рассуждение, при всей его логичности, не возвращало ему шпаги и не указывало, где его друг.
На одну минуту у него мелькнула мысль купить другую шпагу и проткнуть мерзкого привратника, не желавшего говорить иначе, как по-немецки; но ему тут же пришло в голову, что, может быть, этот привратник служит у Маргариты, а если Маргарита выбрала именно такого, значит, у нее были на то основания и, следовательно, ей будет неприятно его лишиться. Ла Моль же ни за какие блага в мире не стал бы делать что-нибудь неприятное для Маргариты.
Боясь все же поддаться искушению, он около двух часов пополудни вернулся в Лувр. На этот раз комната его была не занята, и он беспрепятственно вошел к себе. Надо было спешно сменить колет, который, как заметила королева, был основательно испорчен. Поэтому он прямо направился к постели, чтобы вместо изорванного колета надеть красивый жемчужно-серый. Но, к своему величайшему изумлению, первое, что он увидел, была лежавшая рядом с колетом шпага — та самая, которую он оставил в переулке Клош-Персе.
Ла Моль взял ее, повертел в руках: да, это была его шпага!
— Э-э! Уж нет ли тут какого-нибудь колдовства? — сказал он и со вздохом прибавил: — Ах, если б и Коконнас нашелся так же, как моя шпага!
Спустя два-три часа после того, как Ла Моль перестал кружить вокруг да около двуликого дома, калитка с переулка Тизон отворилась. Было около пяти часов вечера, а следовательно, уже темно.
Женщина, закутанная в длинную, отороченную мехом мантилью, вышла в сопровождении служанки из калитки, открытой для нее дуэньей лет сорока, быстро проскользнула на улицу Руа-де-Сисиль, постучала в заднюю дверь какого-то особняка, выходившую в переулок Аржансон, вошла в нее, затем вышла через главный вход этого же особняка на улицу у дверей в особняке Гизов, вынула из кармана ключ, открыла дверь и скрылась.
Через полчаса из той же калитки маленького домика вышел молодой человек с завязанными глазами, которого вела за руку какая-то женщина. Она вывела его на угол между улицами Жоффруа-Ланье и Мортельри, где она попросила его сосчитать до пятидесяти и только тогда снять повязку.
Молодой человек точно выполнил указание и, после того как сосчитал до пятидесяти, снял с глаз повязку.
— Дьявольщина! — сказал он, оглядываясь кругом. — Пусть меня повесят, если я знаю, где я! Уже шесть часов! — воскликнул он, услыхав бой часов на соборе Нотр-Дам. — А что сталось с беднягой Ла Молем? Побегу в Лувр, может быть, там что-нибудь про него узнаю.
С этими словами Коконнас пустился бегом по улице Мортельри и добежал до ворот Лувра быстрее лошади; он растолкал и разметал движущуюся преграду из почтенных горожан, которые мирно разгуливали около лавочек на площади Бодуайе, и вошел в Лувр.
Там он расспросил солдата-швейцарца и часового. Швейцарец как будто видел утром выходившего Л а Моля, но не заметил, вернулся ли он в Лувр. Часовой сменился только полтора часа назад и ничего не знал.
Коконнас взбежал к себе наверх и стремительно распахнул дверь; в комнате валялся только колет Ла Моля, весь изодранный, и это усилило тревогу пьемонтца.
Тогда Коконнас вспомнил о Ла Юрьере и побежал в гостиницу "Путеводная звезда". Оказалось, что Ла Моль завтракал у Ла Юрьера. Наконец Коконнас успокоился и, изрядно проголодавшись, попросил подать ему ужинать. У Коконнаса были две веские причины, чтобы хорошо поужинать: спокойствие духа и пустой желудок; поэтому он ужинал до восьми часов вечера. Пьемонтец подкрепился двумя бутылками легкого анжуйского вина, которое очень любил, и потягивал его с большим чувством, что выражалось в подмигивании глазом и прищелкивании языком. Подкрепившись, он отправился разыскивать Л а Моля и, снова продираясь сквозь толпу, усердно действовал кулаками, соответственно чувству дружбы, подкрепленному хорошим расположением духа, какое обычно наступает после еды.
Новая разведка заняла целый час; за это время Коконнас побывал на всех улицах по соседству с Гревской набережной, на угольной пристани, на улице Сент-Антуан, в переулке Тизон и в переулке Клош-Персе, куда, как он думал, мог вернуться его друг. Наконец он сообразил, что есть одно место, где Ла Моль должен пройти непременно, а именно — пропускные ворота в ограде Лувра; поэтому он решил пойти к воротам и ждать там возвращения Ла Моля.
Не доходя всего ста шагов до Лувра, на площади Сен-Жермен- Л’Эсеруа Коконнас сшиб с ног какую-то супружескую пару и остановился, чтобы помочь супруге встать на ноги, как вдруг увидел в мутном свете фонаря, висевшего над подъемным мостом Лувра, бархатный вишневый плащ и белое перо своего друга, проходившего под опускной решеткой входных ворот и отвечавшего на салют часового.
Пресловутый вишневый плащ так запечатлелся у всех в глазах, что ошибиться было невозможно.
— Дьявольщина! — воскликнул Коконнас. — Наконец он идет домой! Эй! Ла Моль! Эй, дружище! Что за черт? Голос у меня как будто сильный. Почему же он меня не слышит? Но ноги у меня не слабее голоса, сейчас я догоню его.
С этим намерением пьемонтец пустился бежать во все лопатки и через минуту был у Лувра; но когда он вступил одной ногой во двор Лувра, вишневый плащ, видимо, тоже очень торопившийся, успел скрыться в вестибюле.
— Эй, Ла Моль! — крикнул пьемонтец, снова бросаясь бежать. — Подожди! Это я, Коконнас! Какого черта ты так бежишь? Уж не от меня ли ты удираешь?
В самом деле, вишневый плащ не взошел, а, точно на крыльях, взлетел на третий этаж.
— A-а! Ты не хочешь подождать? Ты недоволен мной? Ты рассердился на меня? Ладно! Ну и ступай к черту!
Все это Коконнас выкрикивал внизу у лестницы, но, отказавшись следовать за беглецом, он продолжал следить за ним глазами на поворотах лестницы, вплоть до того этажа, где находились покои королевы Маргариты, и вдруг заметил, что оттуда вышла какая-то женская фигура и взяла за руку того, кого преследовал пьемонтец.
— Ого! — произнес Коконнас. — Она очень смахивает на королеву Маргариту. Его ждали. Тогда другое дело; понятно, что он мне не ответил.
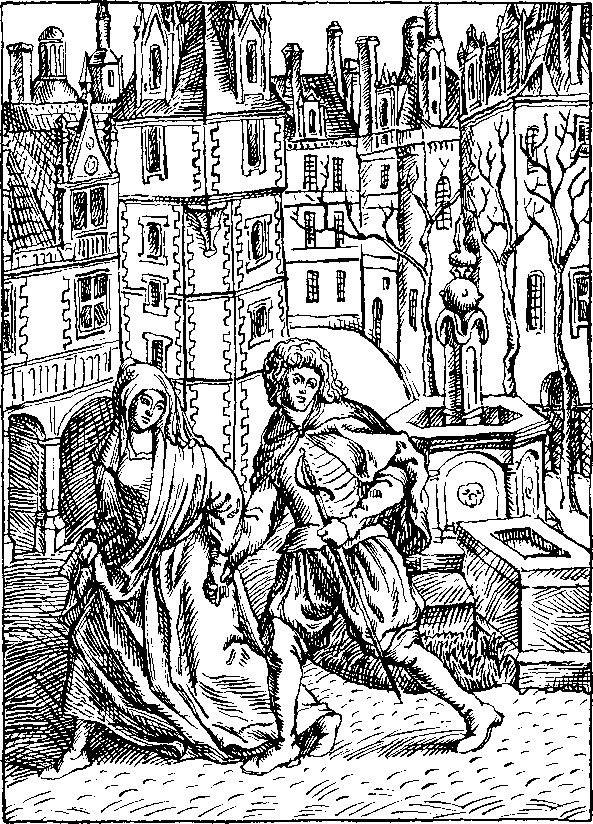
Коконнас перегнулся через перила и, глядя в просвет лестницы, увидел, что вишневый плащ после тихо сказанных ему слов пошел за королевой в ее покои.
— Ладно, ладно! Так и есть, — сказал Коконнас, — я, значит, не ошибся. Бывают случаи, когда присутствие даже лучшего друга некстати, и как раз это произошло с моим милым Ла Молем.
Коконнас не спеша поднялся по лестнице и уселся на обитой бархатом скамье, стоявшей на площадке.
— Тогда я не пойду за ним, а подожду здесь… Да, но если, как я думаю, он у королевы Наваррской, — я могу прождать долго… А холодно, дьявольщина! Лучше я подожду его у нас в комнате. Поселись в ней хоть сам черт, а Ла Молю не миновать в нее вернуться.
Едва он произнес эти слова и встал, чтобы осуществить свое намерение, как над его головой послышались легкие, бодрые шаги, сопровождаемые песенкой, настолько любимой его другом, что Коконнас тотчас же вытянул шею в ту сторону, откуда слышались шаги и песенка. Это шел действительно Ла Моль из своей комнаты, а увидев Коконнаса, запрыгал через четыре ступеньки по лестницам, отделявшим его от друга, и бросился в его объятия.
— Дьявольщина! Так это ты? — сказал Коконнас. — Какой черт и откуда тебя вывел?
— Из переулка Клош-Персе.
— Да нет! Я говорю не про тот дом…
— А откуда же?
— От королевы.
— От королевы?
— От королевы Наваррской.
— Я туда и не входил.
— Рассказывай!
— Дорогой мой Аннибал, ты бредишь! Я иду из нашей комнаты, где ждал тебя целых два часа.
— Из нашей комнаты?
— Да.
— Значит, я гнался по Луврской площади не за тобой?
— Когда?
— Только что.
— Нет.
— Это не ты сейчас проходил под опускной решеткой входных ворот?
— Нет.
— Не ты сейчас взлетел по лестнице, точно за тобой гнался легион чертей?
— Нет.
— Дьявольщина! — воскликнул Коконнас. — Вино в "Путеводной звезде" не настолько забористое, чтобы так замутить мне голову. Говорю тебе, я только что видел в воротах Лувра твой вишневый плащ и твое белое перо, гнался за тем и другим вплоть до этой лестницы, а твой плащ, твое перышко и самого тебя вместе с твоей размашистой рукой ждала здесь какая-то дама, по моему сильному подозрению — королева Наваррская, которая все это увлекла за собой вон в ту дверь, ведущую, если не ошибаюсь, к прекрасной Маргарите.
— Черт! Уже измена? — сказал Ла Моль, бледнея.
— Ну и отлично! — ответил Коконнас. — Ругайся сколько хочешь, только не говори, что я вру.
Ла Моль схватился за голову и стоял минуту в нерешительности, колеблясь между чувством уважения и чувством ревности, но ревность взяла верх: он бросился к двери и начал колотить в нее изо всех сил, производя шум, совсем не подобающий жилищу высочайших особ.
— Мы дождемся, что нас арестуют, — сказал Коконнас, — но все равно это забавно. Слушай, Ла Моль, а нет ли в Лувре привидений?
— Не знаю, — ответил Ла Моль, белый, как нависшее над его лбом перо, — но мне всегда очень хотелось посмотреть на какое-нибудь привидение; теперь такой случай мне представился, и я сделаю все возможное, чтобы встретиться с этим привидением лицом к лицу.
— Я не возражаю, — сказал Коконнас, — только стучи потише, если не хочешь его спугнуть.
Ла Моль, несмотря на свое отчаяние, понял справедливость замечания своего друга и начал стучать потише.
VII
ВИШНЕВЫЙ ПЛАЩ
Коконнас не ошибся. Дама, остановившая молодого человека в вишневом плаще, была действительно королева Наваррская, а кто был молодой человек в вишневом плаще — читатель наверняка догадался и признал в нем храброго де Муи.
Узнав королеву Наваррскую, юный гугенот заподозрил, что вышла какая-то ошибка, но не решился ничего сказать из опасения, что Маргарита вскрикнет и этим его выдаст. Он решил пройти с ней в комнаты и уже там сказать своей прекрасной проводнице: "Мадам, молчание за молчание!"
Маргарита тихонько пожала руку тому, кого в полумраке принимала за Ла Моля, и, нагнувшись к его уху, сказала по латыни:
— Sola sum; introite, carissime.
Де Муи, не отвечая, последовал за ней; но едва затворилась за ним дверь и он очутился в передней, освещенной лучше, чем лестница, Маргарита тотчас увидела, что это не Ла Моль. Произошло то, чего он опасался, — Маргарита тихо вскрикнула; к счастью, теперь это было не опасно.
— Господин де Муи?! — сказала она, отступая от него на шаг.
— Он самый, мадам, и молю ваше величество дать мне возможность свободно продолжать мой путь и никому не говорить о моем присутствии в Лувре.
— Я ошиблась, господин де Муи, — сказала Маргарита.
— Да, понимаю, — ответил де Муи, — ваше величество приняли меня за короля Наваррского — тот же рост, такое же белое перо и, как говорили желавшие польстить мне, такие же манеры.
Маргарита пристально взглянула на де Муи.
— Господин де Муи, вы знаете латынь? — спросила она.
— Когда-то знал, — отвечал молодой человек, — но забыл.
Маргарита улыбнулась:
— Господин де Муи, вы можете быть спокойны относительно моего молчания. А кроме того, мне кажется, я знаю имя человека, ради которого вы пришли в Лувр, и могу предложить вам свои услуги, чтобы провести вас безопасно к этой особе.
— Извините меня, ваше величество, — ответил де Муи, — я думаю, что вы ошибаетесь и вам совершенно неизвестно, кого…
— Как! — воскликнула королева Маргарита. — Разве вы пришли не к королю Наваррскому?
— Нет, мадам, — ответил де Муи, — и мне очень грустно просить вас, чтобы вы скрыли мое присутствие здесь, в Лувре, особенно от его величества, вашего супруга.
— Послушайте, господин де Муи, — изумленно заговорила Маргарита, — до сих пор я вас считала одним из самых надежных гугенотских вождей, одним из самых верных сторонников моего супруга, короля Наваррского, — значит, я ошибалась?
— Нет, ваше величество, еще сегодня утром я был всецело таким, как вы сказали.
— А по какой причине все это с сегодняшнего утра изменилось?
— Ваше величество, — отвечал, почтительно склоняясь, де Муи, — будьте добры избавить меня от необходимости отвечать и милостиво разрешите с вами попрощаться.
И де Муи с почтительным видом, но решительно сделал несколько шагов к двери, в которую вошел.
Маргарита остановила его:
— Тем не менее, месье, я решаюсь попросить вас кое-что мне разъяснить; думаю, что данное мной слово заслуживает веры?
— Ваше величество, я обязан молчать, — ответил де Муи, — и если я до сих пор не ответил вам, то, значит, делать этого нельзя.
— И все-таки, месье…
— Ваше величество, вы имеете возможность погубить меня, но не можете требовать, чтобы я предал моих новых друзей.
— А разве прежние друзья не имеют на вас прав?
— Те, кто остался верен нам, — да; те же, кто отрекся не только от нас, но и от самого себя, — нет.
Маргарита встревожилась, задумалась и, вероятно, ответила бы новыми вопросами, как вдруг в комнату вбежала Жийона.
— Король Наваррский! — крикнула она.
— Где он?
— Идет потайным ходом.
— Выпустите гостя в другую дверь.
— Нельзя, мадам, нельзя. Слышите?
— Стучатся!
— Да, и как раз в ту дверь, куда вы, ваше величество, приказываете выпустить вашего гостя.
— А кто стучится?
— Не знаю.
— Пойдите посмотрите и вернитесь мне сказать.
— Мадам, осмелюсь заметить вашему величеству, — сказал де Муи, — что если король Наваррский увидит меня в Лувре в этот час и в таком костюме, — я погиб!
Маргарита схватила де Муи за руку и повела его к пресловутому кабинету.
— Войдите сюда, месье, — сказала она. — Вы будете там скрыты и вне опасности, как у себя дома, мое честное слово будет вам порукой.
Де Муи бросился в кабинет, и едва закрылась за ним дверь, как вошел Генрих.
На этот раз Маргарита, спрятав де Муи, не испытывала никакой тревоги: она была только мрачна, и ее мысли витали очень далеко от любовных дел.
Генрих Наваррский вошел с той чуткой настороженностью, благодаря которой он замечал малейшие подробности даже в самые безмятежные минуты своей жизни, а уж более проницательным наблюдателем он становился в обстоятельствах, подобных тем, какие сложились теперь. Поэтому он сразу же заметил тучу, набежавшую на чело Маргариты.
— Вы заняты, мадам? — спросил он.
— Я? Да, сир, я раздумывала.
— И хорошо делали, мадам: раздумье вам идет. Я тоже раздумывал; но в противоположность вам, я не ищу одиночества, и нарочно пришел к вам, чтобы поделиться моими думами.
Маргарита приветливо ему кивнула и указала на кресло, сама же села на резной стул черного дерева.
Между супругами наступило молчание; Генрих Наваррский первый его нарушил, сказав:
— Мадам, я вспомнил, что мои и ваши думы о будущем связаны между собою; несмотря на наше раздельное существование как супругов, мы оба выразили желание соединить нашу судьбу.
— Да, сир.
— Мне думается, я верно понял также и то, что во всех планах, какие я намечу для возвышения нас обоих, я найду в вас союзника не только верного, но и действенного.
— Да, сир, я и прошу лишь об одном, а именно: чтобы вы как можно скорее приступили к делу и дали бы мне возможность уже теперь принять в нем участие.
— Мадам, я очень счастлив, если у вас такие намерения, и, как мне кажется, вы ни одной минуты не считали меня способным забыть о плане, который я себе составил в тот день, когда был почти уверен, что останусь жив благодаря вашему мужественному заступничеству.
— Сир, я думаю, что ваша беспечность — маска, и верю не только в предсказания астрологов, но и в ваши дарования.
— А что бы вы сказали, мадам, если бы кто-нибудь встал поперек нашего пути и грозил обречь нас обоих на жалкое существование?
— Скажу, что готова вместе с вами бороться открыто или тайно против этого человека, кто бы он ни был.
— Мадам, у вас ведь есть возможность проникнуть в любое время к вашему брату, герцогу Алансонскому? Вы пользуетесь его доверием, и он питает к вам горячие дружеские чувства. Что, если бы я осмелился обратиться к вам с просьбой узнать, не занят ли ваш брат тайным совещанием с кем-нибудь как раз в данную минуту?
Маргарита вздрогнула:
— С кем же, сир?
— С де Муи.
— Зачем это нужно?
— Затем, что если это так, то прощайте все наши планы! Во всяком случае — мои.
— Сир, говорите тише, — сказала Маргарита, делая ему соответствующий знак глазами и указывая пальцем на кабинет.
— Ого! Опять там кто-то есть? — сказал Генрих. — Честное слово, в этом кабинете так часты постояльцы, что ваша комната напоминает постоялый двор.
Маргарита улыбнулась.
— Надеюсь, что это по-прежнему Л а Моль? — спросил Генрих.
— Нет, сир, это де Муи.
— Он? — воскликнул Генрих, одновременно изумленный и обрадованный. — Так, значит, он не у герцога Алансонского? Ведите же его сюда, я с ним поговорю…
Маргарита побежала к кабинету, отворила дверь и, взяв де Муи за руку, без всяких рассуждений привела к королю Наваррскому.
— Ах, мадам, — сказал молодой человек с упреком, звучавшим скорее грустно, чем язвительно, — вы предаете меня, нарушив ваше слово! Это нехорошо. Что бы сказали вы, если бы я вздумал за это отомстить вам, рассказав…
— Мстить вы не будете, де Муи, — прервал его Генрих, пожимая ему руку, — во всяком случае, сначала выслушайте, что я скажу. Мадам, — обратился Генрих к королеве, — прошу вас, позаботьтесь, чтобы нас никто не подслушал.
Генрих едва успел произнести последнее слово, как вошла перепуганная Жийона и сказала Маргарите на ухо нечто такое, отчего она вскочила со стула и побежала за Жийоной. В это время Генрих, не обращая внимания на то, что заставило Маргариту поспешить вон из комнаты, осмотрел кровать, проход между кроватью и стеной, обои и выстукал пальцем стены. Де Муи, напуганный такими предосторожностями, попробовал, свободно ли выходит шпага из ножен.
Маргарита, выйдя из спальни, бросилась в переднюю и столкнулась лицом к лицу с Л а Молем, желавшим во что бы то ни стало пройти к королеве, несмотря на все уговоры Жийоны.
За Ла Молем стоял Коконнас, готовый помочь ему пройти вперед или прикрыть отступление.
— A-а! Это вы, господин Ла Моль! — воскликнула королева. — Но что с вами? Почему вы так бледны и дрожите?
— Мадам, — сказала Жийона, — его сиятельство Ла Моль так сильно стучал в дверь, что я, вопреки приказанию вашего величества, была вынуждена отворить.
— Ого! Это что такое? — строго спросила королева. — Жийона сказала правду?
— Мадам, дело в следующем: я хотел предупредить ваше величество, что какой-то незнакомец, кто-то чужой, быть может — вор, проник к вам в моем плаще и в моей шляпе.
— Вы сошли с ума, месье! Ваш плащ у вас на плечах, и да простит мне Бог, если я не вижу вашей шляпы у вас на голове, хотя вы разговариваете с королевой.
— О, простите меня, ваше величество, прошу вас! — воскликнул Ла Моль, срывая с себя шляпу. — Бог свидетель — это не от недостатка почтения!
— Нет? Значит, от недостатка доверия, не так ли? — сказала королева.
— Что же делать, — ответил Ла Моль, — когда у вашего величества находится мужчина, который проник к вам, прикрываясь моим костюмом, а может быть — кто знает, — и моим именем…
— Мужчина! — повторила Маргарита, нежно пожимая руку несчастному влюбленному. — Мужчина!.. Вы очень скромны, граф. Загляните в щелку между портьерой и стеной, и вы увидите не одного, а двух мужчин.
Маргарита немного отодвинула бархатную, шитую золотом портьеру, и Ла Моль увидел Генриха Наваррского, беседующего с человеком в вишневом плаще. Коконнас, принимавший участие в этом деле, как будто оно касалось его самого, тоже заглянул и узнал де Муи. Оба друга были ошеломлены.
— Теперь, когда вы успокоились, как я надеюсь, — сказала Маргарита, — встаньте у входной двери и не пускайте, милый мой Ла Моль, никого, хотя бы ценой вашей жизни. Если кто-нибудь подойдет хотя бы к площадке лестницы, дайте знать.
Безвольно и покорно, как ребенок, Ла Моль вышел, переглядываясь с пьемонтцем, и оба стали перед закрытой дверью, все еще озадаченные происшедшим.
— Де Муи! — недоумевая, сказал Коконнас.
— Генрих! — прошептал Л а Моль.
— Де Муи — в таком же вишневом плаще, с таким же белым пером, как у тебя, и так же размахивает рукой, как ты.
— Да, но… раз тут дело не в любви, то, несомненно, в каком-нибудь заговоре, — сказал Ла Моль.
— Ах, дьявольщина! Вот мы и влипли в политику, — проворчал Коконнас. — Хорошо, что в этом не замешана герцогиня Неверская.
Маргарита вернулась к себе в комнату и села рядом с двумя собеседниками; отсутствие ее длилось не более минуты, и она не теряла времени даром: Жийона на страже у потайного хода и два дворянина на часах у главного входа были порукой полной безопасности.
— Мадам, как вы думаете, могут ли нас подслушать?
— Сир, эта комната обита войлоком и в ней двойная деревянная обшивка, все это обеспечивает ее непроницаемость для слуха.
— В этом отношении я полагаюсь на вас, — с улыбкой ответил Генрих.
Затем, обернувшись к де Муи, он шепотом, как будто у него еще остались опасения, несмотря на уверения Маргариты, сказал:
— Послушайте, зачем вы здесь?
— Здесь? — переспросил де Муи.
— Да, здесь, в этой комнате?
— Он здесь ни за чем, — ответила Маргарита, — это я его затащила.
— Значит, вы знали?..
— Я догадывалась обо всем.
— Вот видите, де Муи, — оказывается, можно было догадаться.
— Сегодня утром господин де Муи и герцог Франсуа были в комнате двух дворян герцога.
— Вот видите, де Муи, все известно.
— Это правда, — ответил де Муи.
— Я был уверен, — сказал Генрих, — что герцог Алансонский завладеет вами.
— Это ваша вина, ваше величество. Почему вы так упорно отвергали все, что я вам предлагал?
— Вы отвергли?! — воскликнула Маргарита. — Так я и думала!
— И вы, мадам, — ответил Генрих, покачав головой, — и вы, мой храбрый де Муи, — ей-Богу, вы меня смешите вашими негодующими восклицаниями. Подумайте! Входит человек и предлагает трон, восстание, переворот — кому? Мне, Генриху, королю, которого терпят только потому, что он покорно склонил голову, гугеноту, которого пощадили только при условии, что он будет разыгрывать католика! И после этого мне согласиться на ваши предложения, сделанные у меня в комнате, не обитой войлоком и без двойной обшивки? Святая пятница! Вы или безумцы, или дети!
— Но, ваше величество, разве вы не могли подать мне какую-нибудь надежду, если не словами, то жестом, знаком?
— Де Муи, о чем с вами говорил мой зять? — спросил Генрих.
— Сир, эта тайна не моя.
— Ах, Боже мой! — произнес Генрих, досадуя на то, что приходится иметь дело с человеком, так плохо понимающим его слова. — Да я не спрашиваю вас, какие он вам делал предложения, я только спрашиваю, выслушал ли и понял ли он вас?
— Он выслушал и понял, сир.
— Выслушал и понял! Это ваши собственные слова, де Муи! Плохой вы заговорщик! Скажи я слово — и вы погибли. Я, разумеется, не знал наверное, но подозревал, что где-то рядом был он, а если не он, так герцог Анжуйский, Карл Девятый или королева-мать; вы, де Муи, не знаете стен Лувра — это о них сложилась поговорка: "У стен есть уши", а вы хотите, чтобы я, хорошо знающий эти стены, проболтался! Помилосердствуйте, де Муи, вы невысокого мнения об уме короля Наваррского! И я поражаюсь тому, что вы, так плохо думая о Генрихе Наваррском, явились предлагать ему корону.
— Но, ваше величество, — возразил де Муи, — когда вы отказывались от короны, вы же могли подать мне знак. Тогда бы я не пришел в полное отчаяние, не считал бы все потерянным!
— Эх, святая пятница! — воскликнул Генрих. — Если он подслушивал, то мог и подглядывать, а погубить себя можно не только словом, но и знаком! Послушайте, де Муи, — продолжал король, оглядываясь, — даже сейчас, сидя с вами рядом, сдвинув стулья, я все же опасаюсь, не слышат ли меня другие. Де Муи, повтори мне свои предложения.
— Ваше величество, — в отчаянии воскликнул де Муи, — теперь я уже связан с герцогом Алансонским!
Маргарита с досадой всплеснула прекрасными руками:
— Значит, слишком поздно?!
— Наоборот, — прошептал Генрих, — поймите, что в этом нам покровительствует сам Бог. Де Муи, продолжай свою связь с герцогом Франсуа, ибо он будет спасением для всех нас. Неужели ты воображаешь, что целость ваших голов обеспечит король Наваррский? Наоборот, из-за меня вас перебьют всех до одного и по малейшему подозрению. А принц Французский — совсем другое дело! Добудь улики его участия, потребуй от него гарантий; я вижу, ты простак: сам ты готов рисковать головой, а ему готов поверить на слово!
— О сир! Поверьте мне, в его объятия меня толкнули лишь отчаяние из-за вашего отказа и страх, что герцог владеет нашей тайной.
— Владей и ты своею, де Муи, это уже зависит от тебя. К чему он стремится? Стать королем Наварры? Обещай ему корону. Чего он хочет? Покинуть здешний двор? Предоставь ему возможность бежать отсюда. Работай для него так, как если б ты работал для меня, действуй этим щитом так, чтобы все удары, которые нам будут наносить, отражал он. Когда настанет время удирать отсюда, мы удерем оба; когда настанет время царствовать и драться, я буду царствовать один.
— Остерегайтесь герцога, — прибавила Маргарита, — он человек темный и проницательный, не знающий ни чувства ненависти, ни чувства дружбы, способный в любое время отнестись к друзьям, как к врагам, и к врагам, как к друзьям.
— Он ждет вас, де Муи? — спросил Генрих.
— Да, ваше величество.
— Где?
— В комнате его дворян.
— В котором часу?
— В полночь.
— Еще нет одиннадцати, — сказал Генрих, — но не надо терять времени. Идите, де Муи.
— Месье, вы дали нам честное слово, — заметила Маргарита.
— О, мадам! — сказал Генрих с тем доверием, которое он так хорошо умел оказывать определенным лицам в определенных обстоятельствах. — С де Муи о таких вещах не говорят.
— Вы правы, сир, — ответил молодой человек, — но мне необходимо ваше слово, так как я должен сказать нашим вождям, что вы мне его дали. Ведь вы же не католик, нет?
Генрих пожал плечами.
— Вы не отказываетесь от наваррского престола?
— Я не отказываюсь ни от какого престола, де Муи, но оставляю за собой право выбрать лучший, то есть такой, который больше подойдет и мне, и вам.
— А если за это время ваше величество арестуют, вы обещаете ничего не выдавать, даже в том случае, если не посчитаются с вашим королевским званием и подвергнут пытке?
— Клянусь Богом, де Муи!
— Еще одно слово, сир: как я буду встречаться с вами?
— С завтрашнего дня у вас будет ключ от моей комнаты; вы будете приходить туда всякий раз, когда найдете нужным, в любой час; а уж дело герцога Алансонского отвечать за ваши появления в Лувре. Теперь поднимитесь наверх по маленькой лесенке, я вас провожу; а в это время королева приведет сюда другой вишневый плащ, недавно заходивший в ее переднюю. Не надо, чтобы вас с ним стали различать и знали, что вас двое, — верно, де Муи? Верно, мадам?
Генрих со смехом произнес последние слова, поглядывая на Маргариту.
— Да, — ответила она невозмутимо, — тем более что граф Ла Моль состоит при моем брате герцоге.
— Так постарайтесь перетянуть его на нашу сторону, мадам, — самым серьезным тоном сказал Генрих. — Не жалейте ни золота, ни обещаний. Все мои сокровища к его услугам.
— Раз это ваше желание, — ответила Маргарита с улыбкой, свойственной лишь женщинам Боккаччо, — я приложу все свои силы, чтобы его исполнить.
— Отлично, мадам, отлично! А вы, де Муи, идите к герцогу, опутайте его.
VIII
МАРГАРИТА
Пока шел разговор между Генрихом, де Муи и Маргаритой, Ла Моль и Коконнас стояли на часах у двери, Л а Моль — немного грустный, Коконнас — слегка встревоженный.
У Ла Моля было время поразмыслить, Коконнас ему помог.
— Что ты обо всем этом думаешь? — спросил Ла Моль.
— Я думаю, — отвечал пьемонтец, — что все это — дворцовая интрига.
— А если придется, ты примешь в ней участие?
— Дорогой мой, — отвечал Коконнас, — послушай внимательно, что я тебе скажу, и постарайся извлечь из этого пользу. Во всех этих интригах всяких принцев, во всех этих королевских кознях мы можем, и в особенности мы, только промелькнуть, как тени; там, где король Наваррский потеряет кусок пера от своей шляпы, а герцог Алансонский — пряжку от плаща, мы потеряем жизнь. Для королевы ты лишь прихоть, а королева для тебя — только мечта, не больше. Сложи голову за любовь, но не за политику.
Совет был мудрый. Ла Моль выслушал его печально, как человек, который сознает, что, стоя на распутье между безрассудством и рассудком, он изберет путь безрассудства.
— Для меня королева не мечта, Аннибал. Я люблю ее, и — на счастье или на несчастье — люблю всей душой. Ты скажешь, это безрассудство! Допускаю, что это так и я безумец. Но ты, Коконнас, благоразумный человек. Ты не должен страдать из-за моих глупостей и моей злой судьбы. Ступай к своему герцогу и не порти себе жизнь.
Коконнас, с минуту подумав, поднял голову и ответил:
— Друг мой, все, что ты говоришь, совершенно справедливо; ты влюблен, так и действуй, как влюбленный; я же честолюбив и, как честолюбец, думаю, что жизнь дороже поцелуя женщины. Если мне придется рисковать жизнью, то я поставлю свои условия. И ты, бедный мой Медор, тоже постарайся поставить свои условия.
С этими словами Коконнас протянул Ла Молю руку и ушел, обменявшись с ним последним взглядом и последнею улыбкой.
Минут через десять после его ухода дверь отворилась, из нее, осторожно оглядываясь, вышла Маргарита, взяла Ла Моля за руку, не говоря ни слова, отвела его в самую отдаленную от потайного хода комнату и сама затворила двери с особой тщательностью, что указывало на все значение предстоящего разговора.
Войдя в комнату, она остановилась, потом села на стул черного дерева и, взяв Ла Моля за руки, привлекла его к себе.
— Теперь, мой милый друг, когда мы одни, — сказала она, — поговорим серьезно.
— Серьезно, ваше величество? — переспросил Ла Моль.
— Или любовно; вам это больше нравится? Серьезные вопросы могут быть и в любви, особенно в любви королевы.
— Побеседуем в таком случае о вещах серьезных, но с условием, что ваше величество не будет сердиться на меня, если я стану говорить с вами безрассудно.
— Я буду сердиться только на одно, Ла Моль: если вы будете называть меня "мадам" или "ваше величество". Для вас, мой дорогой, я просто Маргарита.
— Да, Маргарита! Да, жемчужина моя! — воскликнул молодой человек, не сводя с королевы страстного взгляда.
— Вот так лучше! — сказала Маргарита. — Итак, вы ревнуете, мой красавец!
— О, до потери рассудка!
— Еще как?
— До безумия!
— К кому же вы ревнуете?
— Ко всем.
— А все-таки?
— Во-первых, к королю.
— После того, что вы видели и слышали, мне думается, на этот счет вы могли бы быть спокойны.
— Затем к де Муи, которого я видел нынче утром в первый раз, а уже сегодня вечером он оказался очень близким вам человеком.
— К де Муи?
— Да.
— Откуда у вас такие подозрения?
— Выслушайте меня… Я узнал его по росту, по цвету волос, по моему непроизвольному чувству ненависти! Ведь это он сегодня утром был у герцога Алансонского?
— Хорошо, но какое же это имеет отношение ко мне?
— Герцог Алансонский — ваш брат, и, говорят, вы очень его любите; вы, вероятно, намекнули ему на потребности вашего сердца, а он, по придворному обычаю, пошел навстречу вашему желанию и подослал к вам де Муи. Было ли только счастливой для меня случайностью то, что король Наваррский оказался здесь одновременно с ним? Не знаю. Но во всяком случае, мадам, будьте со мной откровенны; такая любовь, как моя, сама по себе имеет право на откровенность. Вы видите, я у ваших ног. Если то, что вы чувствуете ко мне, лишь прихоть, я возвращаю вам ваше слово, ваше обещание, вашу любовь, возвращаю герцогу Алансонскому его милостивое отношение ко мне и мою должность придворного при его особе и еду искать смерти под стенами осажденной Ла-Рошели, если любовь не убьет меня раньше, чем я туда попаду!
Маргарита с улыбкой слушала эти пленительные слова, любуясь его движениями, полными изящества; потом задумчиво склонила свою красивую голову на руки и спросила:
— Вы любите меня?
— О Маргарита! Больше жизни, больше спасения моей души, больше всего на свете! А вы, вы… меня не любите.
— Несчастный безумец! — прошептала она.
— Да-да, ваше величество, — воскликнул Ла Моль, стоя на коленях, — я говорил вам, что я безумец!
— Итак, дорогой Ла Моль, главная цель вашей жизни — любовь?
— Одна-единственная, мадам.
— Хорошо, путь будет так! Все остальное я постараюсь сделать дополнением к этой любви. Вы меня любите, вы хотите остаться близ меня?
— Я молю Бога только об одном — никогда не разлучать меня с вами.
— Хорошо! Вы не расстанетесь со мной, Ла Моль, — вы мне необходимы.
— Я вам необходим? Солнцу необходим светляк?
— Если я вам скажу, что я люблю вас, будете ли вы мне преданы всецело?
— А разве я уже не предан вам, мадам, весь, целиком?
— Да, но у вас все еще есть какие-то сомнения.
— О, я виноват, неблагодарен или, вернее, — как я уже сказал, а вы согласились, — я безумец! Но зачем господин де Муи был у вас сегодня вечером? Почему я его видел сегодня утром у герцога Алансонского? К чему этот вишневый плащ, это белое перо, это старание подражать моим манерам? Ах, мадам, я действительно подозреваю, но не вас, а вашего брата.
— Несчастный! — сказала Маргарита. — Да, несчастный, раз вы думаете, будто герцог Франсуа простирает свою любезность до того, что подсылает воздыхателей к своей сестре! Вы говорите, что ревнивы, а вы просто безрассудны и очень недогадливы! Слушайте, Ла Моль: герцог Алансонский завтра же убил бы вас собственной рукой, если бы узнал, что вы сегодня вечером были у меня, у моих ног; а я, вместо того что<бы выгнать вас вон, говорила: Ла Моль, останьтесь, потому что я люблю вас, красивый молодой человек. Понимаете? Я вас люблю! И я вам повторяю: он вас убил бы.
— Великий Боже! — воскликнул Ла Моль, отшатываясь и с ужасом гладя на Маргариту. — Неужели это возможно?!
— Все, мой друг, возможно в наше время и при таком дворе. Теперь еще одно: не ради меня явился в Лувр де Муи, надев такой же, как ваш, плащ и скрыв лицо под такой же, как у вас, шляпой, а ради герцога Алансонского. Но я ввела его сюда, приняв за вас. Он знает нашу тайну, Ла Моль, его необходимо сохранить для нас.
— Я бы предпочел его убить, — сказал Ла Моль, — это проще и надежнее.
— А я, мой храбрый друг, — сказала королева, — предпочитаю, чтобы он жил, а вы бы знали все, так как его жизнь не только полезна нам, но необходима. Выслушайте меня и прежде чем ответить, хорошо обдумайте ваши слова: достаточно ли сильно вы меня любите, Ла Моль, чтобы порадоваться, когда я стану настоящей королевой, иными словами — властительницей настоящего королевства?
— Увы, мадам, я вас люблю настолько, что каждое ваше желание — мое желание, хотя бы оно стало несчастьем всей моей жизни!
— В таком случае, помогите мне осуществить мое желание, удача принесет и вам еще большее счастье!
— О мадам, тогда я потеряю вас! — воскликнул Ла Моль, закрывая лицо руками.
— Совсем нет, наоборот: из первого моего слуги вы станете первым моим подданным. Вот и все.
— О, здесь не место выгодам… не место честолюбию! Не унижайте того чувства, какое я питаю к вам… Только преданность, одна преданность — и больше ничего!
— Благодарная душа! — сказала Маргарита. — Хорошо! Я принимаю твою преданность и сумею отплатить.
Она протянула обе руки Ла Молю, который стал осыпать их поцелуями.
— Так как же? — спросила Маргарита.
— О да, — ответил Ла Моль. — Да, Маргарита, я начинаю понимать тот смутный для меня проект, о котором шла речь среди нас, гугенотов, еще до дня святого Варфоломея; ради его осуществления и я в числе многих, более достойных, был вызван в Париж. Вы добиваетесь настоящего Наваррского королевства вместо мнимого; к этому вас побуждает король Генрих. Де Муи в заговоре с вами, да? Но при чем тут герцог Алансонский? Где для него трон? Я не вижу. Неужели герцог Алансонский в такой степени вам друг, что помогает вам, ничего не требуя в награду за ту опасность, которой он подвергает себя?
— Друг мой, герцог входит в заговор ради самого себя. Пусть заблуждается: он будет отвечать своей жизнью за нашу жизнь.
— Ноя состою при нем, разве могу я изменять ему?
— Изменять ему! А в чем измена? Что он вам доверил? Не он ли предательски поступил с вами, показав де Муи ваш плащ и вашу шляпу, чтобы тот мог свободно проходить к нему? Вы говорите: "Я состою при нем"! Раньше, чем при нем, вы состояли при мне, мой милый дворянин! Больше ли он доказал вам свою дружбу, чем я — свою любовь?
Ла Моль вскочил, бледный, как будто пораженный громом.
— О-о! Коконнас предсказывал мне это, — прошептал он. — Интрига обвивает меня своими кольцами… и задушит!
— Так что же?
— Вот мой ответ, — сказал Ла Моль, — там, на другом конце Франции, где ваше имя пользуется славой, где общая молва о вашей красоте дошла до моего сердца и возбудила в нем смутное желание неведомого, — там говорят, я это слышал сам, что вы не раз любили и каждый раз ваша любовь оказывалась роковой для тех, кого любили вы: их уносила смерть, словно ревнуя к вам.
— Ла Моль!
— Не перебивайте, Маргарита, любовь моя! Говорят еще, будто сердца этих верных вам друзей вы храните в золотых ящичках, иногда благоговейно смотрите на эти печальные останки и с грустью вспоминаете о тех, кто вас любил. Вы вздыхаете, моя дорогая королева, глаза ваши туманятся — значит, это правда. Тогда пусть я буду самым любимым, самым счастливым из ваших возлюбленных. Всем остальным вы пронзили только сердце, и вы храните их сердца; у меня вы берете больше — вы кладете мою голову на плаху… За это, Маргарита, клянитесь вот этим крестом, символом Бога, который спас мне жизнь здесь, у вас, — клянитесь, что если я умру за вас, как подсказывает мне мрачное предчувствие, и палач отрубит мне голову, то вы сохраните ее и иногда коснетесь вашими губами. Клянитесь, Маргарита, и я за обещание такой награды от моей царицы буду нем, стану изменником и, если надо, подлецом, — иными словами, буду вам беззаветно предан, как подобает вашему возлюбленному и сообщнику.
— О, какая скорбная, безумная мечта, мой дорогой! — сказала Маргарита. — Какая роковая мысль, любимый мой!
— Клянитесь!..
— Надо клясться?
— Да, вот на этом ларчике с крестом на крышке. Клянитесь!..
— Хорошо! — сказала Маргарита. — Если, не дай Боже, твои предчувствия осуществятся, любимый мой, клянусь тебе на этом кресте, что ты, живой или мертвый, будешь близ меня, пока сама я буду жить; если я не смогу спасти тебя от гибели, которая тебя постигнет из-за меня — да, я уверена, из-за меня одной, — я дам бедной душе твоей это заслуженное утешение.
— Еще одно, Маргарита. Теперь я спокоен и могу умереть, если меня ждет смерть; но я могу и остаться в живых — наше дело может закончиться успехом: король Наваррский станет королем, вы — королевой. Тогда король вас увезет с собой, и ваш обоюдный договор о раздельной супружеской жизни нарушится сам собой, а это разлучит нас. Слушайте, моя милая, моя любимая Маргарита: вашей клятвой вы успокоили меня на случай моей смерти, успокойте же теперь меня на тот случай, если я останусь жив.
— О нет, не бойся, я твоя душой и телом! — воскликнула Маргарита, еще раз протягивая руку к ларчику и кладя ее на крест. — Если поеду отсюда я, со мной поедешь ты; если король откажется взять тебя с собой, я не поеду с ним.
— Но вы не решитесь ему противиться.
— Мой дорогой, любимый, ты не знаешь Генриха. Сейчас он думает лишь об одном — стать королем; для этой цели он готов жертвовать всем, чем обладает, а уж подавно тем, чем не обладает. Прощай!
— Мадам, вы прогоняете меня? — улыбаясь, спросил Ла Моль.
— Час поздний, — ответила Маргарита.
— Верно; но куда же мне идти? В моей комнате — де Муи и герцог Алансонский.
— Ах, да, конечно, — сказала Маргарита с обаятельной улыбкой. — Да и мне надо еще многое вам рассказать об этом заговоре.
С этой ночи Ла Моль перестал быть просто любимцем королевы и получил право гордо держать голову, которой было уготовано, и мертвой и живой, такое заманчивое будущее. Но временами эта голова тяжело клонилась долу, щеки бледнели, и горькое раздумье прокладывало борозду между бровями молодого человека, некогда веселого — теперь счастливого!
IX
ДЕСНИЦА БОЖИЯ
Расставаясь с баронессой де Сов, Генрих Наваррский сказал ей:
— Шарлотта, ложитесь в постель, притворитесь тяжело больной и завтра ни под каким видом никого не принимайте.
Шарлотта послушалась, не спрашивая даже и себя о том, почему король дал ей такой совет. Она уже привыкла к подобным выходкам, как бы сказали в наше время, или чудачествам, как говорили в старину. Кроме того, она хорошо знала, что Генрих глубоко в своей душе прятал такие тайны, о которых не говорил ни с кем, а в уме своем таил такие планы, что боялся, как бы не выдать их во сне. Шарлотта сделалась послушной всем его желаниям, будучи уверена, что даже самые причудливые его мысли направлены к какой-то определенной цели.
Так и теперь она еще с вечера начала жаловаться Дариоле на тяжесть в голове и резь в глазах. Указать такие симптомы ей посоветовал Генрих Наваррский.
На следующее утро она сделала вид, что хочет встать с постели, но, едва коснувшись ногой пола, пожаловалась на общую слабость и опять легла в постель.
Нездоровье баронессы де Сов, о чем Генрих Наваррский рассказал герцогу Алансонскому в это утро, было первой новостью, которую узнала Екатерина Медичи, спросив совершенно хладнокровно, почему при ее утреннем туалете не присутствует баронесса де Сов.
— Она больна, — ответила Екатерине герцогиня Лотарингская.
— Больна?! — повторила Екатерина, ни одним мускулом лица не выдав того живого интереса, какой в ней возбудил этот ответ. — Это, верно, просто лень!
— Совсем нет, ваше величество, — возразила герцогиня. — Она жалуется на жестокую боль в голове и на такую слабость, что она не в состоянии ходить.
Екатерина ничего не ответила; но, вероятно, чтобы скрыть внутреннюю радость, повернулась к окну; увидав Генриха, проходившего по двору после его разговора с де Муи, она встала с постели, чтобы лучше разглядеть его, и, под влиянием совести, которая невидимо, но непрестанно бурлит в глубине души у всех, даже у закоренелых преступников, спросила командира своей охраны:
— Не кажется ли вам, что сын мой Генрих сегодня бледен?
Ничего подобного не было; Генрих был очень тревожен душой, но совершенно здоров телом.
Мало-помалу все обычно присутствовавшие при утреннем туалете королевы удалились; остались только три-четыре человека — самых близких; Екатерина нетерпеливо выпроводила их, сказав, что хочет побыть одна.
Как только все вышли, Екатерина заперла дверь, затем подошла к потайному шкафу, скрытому за панно в деревянной резной обшивке стены, отодвинула дверь, ходившую на рейках с выемкой, и вынула из шкафа книгу, бывшую, судя по измятым страницам, в частом употреблении.
Она положила книгу на стол, раскрыла ее лентой-закладкой, облокотилась о стол и подперла голову рукой.
— Как раз то самое, — шептала она, читая, — головная боль, общая слабость, резь в глазах, воспаление неба. Кроме головной боли и общей слабости, говорится и о других признаках, но они еще появятся.
Екатерина продолжала:
— Затем воспаление переходит на горло, оттуда — на живот; сжимает сердце, как будто огненным кольцом, и наконец молниеносно поражает мозг.
Она прочла все это про себя и затем, уже вполголоса, заговорила:
— Шесть часов — на лихорадку, двенадцать часов — на общее воспаление, двенадцать часов — на гангрену, шесть — на агонию, — всего тридцать шесть часов. Теперь предположим, что всасывание пойдет медленнее, чем растворение в желудке, тогда вместо тридцати шести часов понадобится сорок, допустим даже — сорок восемь; да, сорока восьми часов будет достаточно. Но почему же не слег он, Генрих? Потому, во-первых, что он мужчина, во-вторых, он крепкого сложения, а может быть, оттого, что после поцелуев он пил, а после питья вытер губы.
Екатерина с нетерпением ждала обеденного часа: Генрих ежедневно обедал за королевским столом. Он пришел, но тоже пожаловался на плохое самочувствие, ничего не ел и ушел сразу после обеда, сказав, что не спал всю ночь и чувствует неодолимую потребность выспаться.
Екатерина прислушалась к его неровным удаляющимся шагам и послала проследить за ним. Ей донесли, что король Наваррский пошел к баронессе де Сов.
"Сегодня вечером, — говорила она про себя, — Генрих будет отравлен окончательно, быть может, в первый раз отравление оказалось недостаточным по какой-нибудь случайности".
Генрих действительно отправился к баронессе де Сов, но только с целью убедить ее, чтобы она продолжала играть роль больной.
На следующий день Генрих все утро не выходил из своей комнаты и не пришел обедать к королю.
Екатерина ликовала. Накануне утром она отослала Амбруаза Парэ в Сен-Жермен, где занемог ее любимый слуга: ей было необходимо, чтобы к баронессе де Сов и Генриху позвали преданного ей врача, который бы сказал то, что она прикажет. Если бы, вопреки ее желанию, в это дело впутался какой-нибудь другой врач и новое отравление открылось, ужаснув весь двор, уже напуганный рассказами о многих отравлениях, Екатерина рассчитывала воспользоваться слухами о ревности Маргариты к предмету любовной страсти ее супруга. Читатель помнит, что королева-мать при всяком удобном случае распространялась о вспышках ревности у Маргариты и, между прочим, во время прогулки к расцветшему боярышнику сказала своей дочери в присутствии нескольких придворных дам и кавалеров:
— Оказывается, вы ревнивы, Маргарита?
Екатерина придала своему лицу соответствующее выражение и ждала с минуты на минуту, что дверь отворится, войдет какой-нибудь бледный, перепуганный служитель и доложит:
— Ваше величество, король Наваррский при смерти, а баронесса де Сов скончалась!
Пробило четыре часа пополудни. Екатерина заканчивала полдник в птичьем вольере, где раздавала крошки бисквита редким птичкам, которых кормила из своих рук; и хотя выражение ее лица было, как всегда, спокойно, даже мрачно, но при малейшем шуме сердце ее начинало учащенно биться.
Вдруг дверь распахнулась, и вошел командир королевской охраны:
— Ваше величество, король Наваррский…
— Болен? — перебила его королева-мать.
— Слава Богу, нет, ваше величество.
— Тогда что же?
— Король Наваррский здесь.
— Что ему нужно?
— Он принес вашему величеству маленькую обезьянку очень редкой породы.
В это мгновение вошел сам Генрих, держа в руке корзинку и лаская лежавшую в ней уистити. Он улыбался, как будто всецело занятый очаровательным животным, которое он нес; но, при всем кажущемся увлечении своим занятием, он сохранял способность с одного взгляда оценивать положение вещей — способность, которой отличался Генрих в трудных обстоятельствах. Екатерина побледнела и становилась тем бледнее, чем яснее видела здоровый румянец на щеках подходившего к ней молодого человека. Королева-мать не могла прийти в себя от этого удара. Она машинально приняла подарок, смутилась, поблагодарила Генриха и одобрила его хороший вид.
— С особым удовольствием вижу вас, сын мой, в добром здравии, так как слышала, будто вы занемогли; да, помнится, вы и при мне жаловались на нездоровье. Но теперь я понимаю, — сказала она, силясь улыбнуться, — это было лишь предлогом, чтобы уйти.
— Нет, ваше величество, я в самом деле был болен, — ответил Генрих, — но одно лекарство, известное у нас в горах и завещанное мне покойной матерью, излечило мою болезнь.
— A-а! Вы дадите мне его рецепт, да, Генрих? — сказала Екатерина, улыбаясь уже по-настоящему, но с иронией, которой не могла скрыть.
"Какое-то противоядие, — подумала Екатерина, — но мы придумаем что-нибудь другое, а впрочем, не стоит: он заметил, что баронесса де Сов вдруг заболела, и насторожился. Честное слово, можно подумать, что десница Божия простерлась над этим человеком".
Екатерина нетерпеливо ждала ночи: Шарлотта не появлялась. Во время игры в карты королева-мать справилась о ее здоровье и получила ответ, что состояние здоровья баронессы де Сов все ухудшается.
Весь вечер Екатерина провела в тревоге, возбуждая у всех мучительный вопрос: каковы же ее мысли, если они вызывают такое явное выражение смятения на этом лице, обычно неподвижном?
Все разошлись. Екатерина приказала своим женщинам раздеть себя и уложить в постель; но как только весь Лувр улегся спать, она встала, надела длинный черный капор, взяла лампу, выбрала из связки ключей ключ от двери баронессы де Сов и поднялась к своей придворной даме.
Предвидел ли Генрих это посещение, был ли занят делами или где-то прятался, но, как бы то ни было, молодая женщина была одна.
Екатерина осторожно отворила дверь, миновала переднюю, вошла в гостиную, поставила лампу на столик, потому что возле кровати больной горел ночник, и тенью проскользнула в спальню. Дариола, раскинувшись в огромном кресле, спала около своей хозяйки.
Кровать была со всех сторон задернута пологом.
Молодая женщина дышала настолько тихо, что на одну минуту у Екатерины мелькнула мысль — не перестала ли она дышать совсем.
Наконец она услыхала слабое дыхание и пожелала лично убедиться в действии страшного яда: королева злорадно приподняла полог, заранее испытывая трепет от того, что вот сейчас увидит мертвенную бледность или губительную красноту предсмертной лихорадки; но молодая женщина спада безмятежным, тихим сном, смежив беломраморные веки, приоткрыв розовый ротик, уютно подложив под щеку точеную бело-розовую руку, а другую вытянув по красному узорчатому шелку, служившему ей одеялом, — спала, как будто еще радуясь чему-то: ей, вероятно, снился прекрасный сладкий сон, вызывая нежный румянец на щеках, а на устах — улыбку ничем не нарушаемого счастья.
Королева-мать не удержалась и тихо вскрикнула от изумления, чем разбудила Дариолу. Екатерина спряталась за полог. Дариола открыла глаза, но, одурманенная сном, даже не пыталась выяснить причину своего пробуждения, а снова смежила отяжелевшие веки и заснула.
Екатерина вышла из-за полога и, оглядев комнату, заметила стоявшие на столике графин с испанским вином, фрукты, сладкое печенье и два стакана. Несомненно, Генрих ужинал у баронессы, видимо, чувствовавшей себя так же хорошо, как и ее любовник.
Королева-мать быстро подошла к туалетному столику и взяла серебряную коробочку, на одну треть уже пустую. Это была та самая коробочка, по крайней мере, совершенно схожая с той, которую она послала баронессе де Сов. Екатерина взяла на кончик золотой иглы кусочек губной помады величиной с жемчужину, вернулась к себе в спальню и дала этот кусочек обезьянке, которую ей подарил Генрих сегодня днем. Животное, соблазнившись приятным запахом помады, жадно проглотило ее и, свернувшись клубочком, заснуло в своей корзинке. Екатерина подождала четверть часа.
"От половины того, что съела обезьянка, моя собака Брут издохла в течение минуты, — подумала Екатерина. — Меня провели! Неужели Рене? Нет, немыслимо, чтобы Рене! Тогда — Генрих! О судьба! Ясно: раз ему предназначено царствовать, он не может умереть!.. Но, может быть, против него бессилен только яд? Посмотрим, что скажет сталь!"
И Екатерина легла спать, обдумывая новый план. Наутро он, видимо, уже созрел, судя по тому, что она призвала к себе командира своей охраны, дала ему письмо, приказала отнести его по адресу и вручить в собственные руки адресата.
Адресат был следующий: "Командиру королевских петардщиков Лувье де Морвелю, улица Серизе, близ Арсенала".
X
ПИСЬМО ИЗ РИМА
Прошло несколько дней со времени этих событий, когда однажды утром во дворе Лувра появились носилки в сопровождении нескольких дворян, одетых в придворные цвета герцога Гиза, и королеве Наваррской доложили, что герцогиня Неверская просит оказать ей честь, приняв ее.
В это время у Маргариты была Шарлотта де Сов. Красавица баронесса впервые вышла из своих комнат после мнимой болезни. Она знала, что за время ее болезни, почти в течение недели вызывавшей столько разговоров при дворе, королева Наваррская выражала своему мужу живое беспокойство по поводу здоровья баронессы, и Шарлотта де Сов пришла теперь благодарить за это королеву.
Маргарита поздравила баронессу с выздоровлением и выразила радость по поводу того, что та благополучно перенесла внезапный приступ странной болезни, которая, по мнению Маргариты, знакомой с медициной, была очень опасна.
— Надеюсь, вы примете участие в большой охоте? — спросила Маргарита. — Она была один раз отложена, но теперь окончательно назначена на завтра. Для зимы погода мягкая. Солнце обогрело землю, и наши охотники уверяют, что день будет на редкость благоприятным для охоты.
— Ваше величество, не знаю, достаточно ли я для этого окрепла.
— Нет-нет, возьмите себя в руки, — ответила Маргарита. — Кроме того, я предоставила в полное распоряжение моего мужа беарнскую лошадку, на которой должна была ехать, и под вами она пойдет отлично. Вы разве о ней не слышали?
— Слышала, мадам, но не знала, что лошадка предназначалась для вашего величества, я бы ее тогда не приняла.
— Из гордости?
— Нет, ваше величество, из скромности.
— Значит, вы поедете?
— Ваше величество, вы делаете мне большую честь. Я поеду, раз вы приказываете.
В эту минуту доложили о герцогине Неверской. При ее имени лицо Маргариты невольно выразило большую радость; баронесса поняла, что королеве и герцогине надо поговорить наедине, и встала, собираясь уходить.
— Итак, до завтра, — сказала Маргарита.
— До завтра, ваше величество.
— Кстати, — сказала Маргарита, отпуская ее взмахом руки, — имейте в виду, баронесса, что на людях я вас не выношу, так как я страшно ревнива.
— А в действительности? — спросила Шарлотта.
— О, в действительности я вам не только все прощаю, но даже вас благодарю.
— В таком случае, ваше величество, разрешите…
Маргарита протянула ей руку; баронесса почтительно ее поцеловала, сделала реверанс и вышла.
Пока баронесса взбегала к себе наверх, прыгая, как козочка, сорвавшаяся с привязи, герцогиня Неверская обменялась с королевой церемонными приветствиями, давая время удалиться сопровождавшим ее дворянам. Когда дверь за ними затворилась, Маргарита крикнула:
— Жийона, Жийона! Позаботься, чтобы нам никто не мешал.
— Да, — сказала герцогиня, — потому что нам надо поговорить о вещах очень серьезных.
И с этими словами она без церемоний уселась в кресло, заняв лучшее место, "поближе к солнцу и к огню", уверенная, что теперь уже никто не помешает свободе задушевных отношений, которые установились между ней и королевой Наваррской.
— Ну, как поживает наш знаменитый рубака? — спросила Маргарита.
— Милая моя королева, клянусь душой, это существо мифологическое! — ответила герцогиня. — Он бесподобен! У него неиссякаемое остроумие! Он откалывает такие штуки, что и святой в раю умрет со смеху. Кроме того, это такой отъявленный язычник в католической шкуре! Я от него просто без ума! Ну, а как твой Аполлон?
— Ох! — вздохнула Маргарита.
— Это "ох!" меня пугает, королева. Может быть, ваш милый Ла Моль чересчур почтителен? Или чересчур сентиментален? Тогда должна признаться, что он полная противоположность своему другу Коконнасу.
— Да нет, он иногда бывает и другим, — ответила Маргарита, — а мое "ох!" относится только ко мне самой.
— Что же это значит?
— А то, милая герцогиня, что я ужасно боюсь полюбить его по-настоящему.
— Правда?
— Честное слово!
— О, тем лучше! Как весело тогда мы заживем! — воскликнула Анриетта. — Моя мечта — любить немножко, твоя — любить глубоко. Не правда ли, моя дорогая и ученая королева, как приятно дать отдохнуть уму и уйти в чувство? А после безумств — улыбаться! Ах, Маргарита, предчувствую, что мы отлично проведем этот год!
— Ты думаешь? — сказала королева. — А у меня совсем другие мысли: не знаю отчего, но я все вижу сквозь траурную дымку. Вся наша политика меня ужасно тревожит. Кстати, так ли предан моему брату твой Аннибал, как он это изображает? Разузнай, мне это важно.
— Это он-то предан кому-нибудь или чему-нибудь? Видно, что ты его не знаешь так, как я! Если он чему и предан, так только честолюбию, вот и все. Если твой брат может ему обещать много — о, тогда другое дело: он будет ему предан. Но если брат твой вздумает не выполнить своих обещаний — тогда, хоть он и принц Франции, берегись твой герцог Алансонский.
— Правда?
— Уж я-то знаю. Даю слово, Маргарита; что этот прирученный мною тигр пугает даже меня. Как-то я ему сказала: "Аннибал, не обманывайте меня, а если обманете, то берегитесь!.." Но, говоря это, я на него глядела своими изумрудными глазами, о которых Ронсар сложил стихи:
У красавицы Невер,
Например,
Глазки зелены и нежны;
Но порой сверкает в них Больше молний голубых,
Чем в пучинах роковых В страшный миг Бури бешено-мятежной!
— И что же?
— Я думала, что он ответит: "Мне? Обманывать вас? Никогда!" — и дальше в том же духе… А знаешь, что он ответил?
— Нет.
— "А если вы, — ответил он, — обманете меня, то какая вы там ни есть принцесса, тоже берегитесь!.." И, говоря это, он грозил мне не только глазами, но тонким пальцем с острым, как копье, ногтем, причем тыкал мне этим пальцем чуть не в нос. Признаюсь, милая королева, у него было такое выражение лица, что я вздрогнула, хотя и не трусиха. Суди сама, что это за человек!
— Грозить тебе, Анриетта! Как он смел?!
— Ого, дьявольщина! Я ему тоже пригрозила! В сущности говоря, у него было основание. Как видишь, он предан только до известного момента, вернее — до неизвестного момента.
— Тогда посмотрим, — задумчиво сказала Маргарита, — я поговорю с Ла Молем. Ты ничего мне больше не расскажешь?
— Расскажу, и очень интересное, из-за этого я и пришла. Но ты со мной заговорила о вещах, для меня более интересных. Я получила вести.
— Из Рима?
— Да, нарочный от моего мужа…
— О польском деле?
— Да, дело двигается, и может так случиться, что в самом скором времени ты отделаешься от своего брата герцога Анжуйского.
— Значит, папа утвердил его избрание?
— Да, дорогая.
— И ты мне не сказала этого с самого начала! — воскликнула Маргарита. — Ну, скорей, скорей, выкладывай все по порядку.
— Кроме того, что я тебе сказала, я, честное слово, больше ничего не знаю. Впрочем, подожди, я дам тебе прочесть письмо моего мужа. На, вот оно! Ах, нет! Это стихи Аннибала, и прежестокие, милая королева, — он других не пишет. A-а, на этот раз оно! Нет, опять не то: это записочка от меня ему, я захватила с собой, чтобы ты передала ее через Ла Моля. Ага, ну вот наконец это письмо! — И герцогиня Неверская передала письмо королеве.
Маргарита поспешно его развернула и прочла; но оно действительно содержало только то, что она уже слышала от своей подруги.
— А как оно дошло до тебя? — продолжала королева.
— С нарочным моего мужа, получившим приказание, раньше чем ехать в Лувр, заехать в дом Гизов и передать мне это письмо, а потом отвезти в Лувр письмо, адресованное королю. Зная, какое значение придает этой новости моя королева, я сама просила мужа так распорядиться. И видишь — он меня послушался. Это не то, что мое чудовище Коконнас. Сейчас во всем Париже эту новость знают только три человека: король, ты да я; а еще разве тот человек, который ехал по пятам нашего нарочного.
— Какой человек?
— Что за ужасное ремесло! Представь себе, несчастный наш гонец приехал усталый, растерзанный, весь в пыли; он скакал семь дней и семь ночей, не останавливаясь ни на минуту.
— А что это за человек, о котором ты сейчас сказала?
— Погоди, скажу. Во время этого пути от Рима до Парижа, на протяжении четырехсот лье, за нашим нарочным скакал человек, которого тоже ждали подставы. У него был такой свирепый вид, что наш бедняга боялся каждую минуту заполучить в спину пулю из пистолета. Оба они в одно и то же время подскакали к заставе Сен-Марсель, оба промчались по улице Муфтар и через центр города; но в конце моста Нотр-Дам наш нарочный взял вправо, а другой повернул налево, через площадь Шатле, и пролетел по набережным со стороны Лувра, как стрела, пущенная из арбалета.
— Спасибо, Анриетта, спасибо, хорошая моя! — воскликнула Маргарита. — Твоя правда, вести интересные… Чей же это второй нарочный? Надо узнать. Теперь прощай; вечером встретимся на улице Тизон, да? А завтра — на охоте. Только выбери лошадь поноровистей, которая заносится, чтобы нам удрать от всех вдвоем. Сегодня вечером скажу тебе, что надо выведать у Коконнаса.
— Ты не забудешь передать мою записку? — смеясь, спросила герцогиня.
— Нет, нет, будь покойна, он получит ее вовремя.
Герцогиня Неверская вышла, а Маргарита в ту же минуту послала за Генрихом; он тотчас явился и прочел письмо герцога Неверского.
— Так-так! — сказал он.
Маргарита рассказала ему о двух нарочных.
— Верно, — ответил Генрих, — я видел того гонца, когда он въехал во двор Лувра.
— Может быть, он прискакал к королеве-матери?
— Нет, в этом я уверен; я тогда на всякий случай вышел в коридор, но там никто не проходил.
— Значит, — сказала Маргарита, — он, вероятно, приехал к…
— …к вашему брату Франсуа, хотите вы сказать? — спросил Генрих.
— Да. Но как это узнать?
— А нельзя ли, — небрежно сказал Генрих, — послать за одним из этих двух дворян и узнать от него…
— Верно, сир! — сказала Маргарита, очень довольная предложением мужа. — Я сейчас пошлю за Ла Молем… Жийона! Жийона!
Девушка вошла.
— Мне нужно сию же минуту поговорить с Ла Молем, — сказала королева. — Постарайся найти его и привести сюда.
Жийона вышла. Генрих уселся за стол, где лежала немецкая книга с гравюрами Альбрехта Дюрера, и начал их рассматривать с большим вниманием, как будто не замечая вошедшего Ла Моля, — даже не поднял головы.
В свою очередь молодой человек, увидев короля Наваррского у Маргариты, остановился на пороге, безмолвный от неожиданности и бледный от тревожного волнения.
Маргарита сама подошла к нему и спросила:
— Граф, не можете ли вы мне сказать, кто у герцога Алансонского сегодня на дежурстве?
— Коконнас, ваше величество — ответил Ла Моль.
— Попытайтесь от него узнать, не пропускал ли он сегодня к герцогу человека, забрызганного грязью, как будто проделавшего долгий путь, не слезая с лошади.
— Ваше величество! Боюсь, что он об этом не станет говорить; за последние дни он стал очень неразговорчив.
— Вот как! Но мне думается, что, если вы передадите ему записочку, он должен будет вам чем-то отплатить.
— От герцогини!.. О, имея в руках эту записочку, я попытаюсь…
— Прибавьте, — сказала Маргарита шепотом, — что эта записка сегодня вечером послужит ему пропуском в известный вам дом.
— А какой же пропуск получу я, ваше величество?
— Назовите свое имя, этого довольно.
— Давайте записку, давайте, — сказал Ла Моль, сгорая от любви, — я отвечаю за успех.
Ла Моль вышел.
— Завтра мы будем знать, осведомлен ли герцог Алансонский о делах в Польше, — спокойно сказала Маргарита, обращаясь к мужу.
— Этот Л а Моль воистину любезен и услужлив, — сказал Беарнец с особенной улыбкой, свойственной лишь одному ему. — И — клянусь мессой! — я устрою его судьбу.
XI
ВЫЕЗД НА ОХОТУ
Когда на следующее утро из-за холмов, окружающих Париж, всходило ярко-красное солнце без лучей, как это бывает в ясный зимний день, на дворе Лувра все было в движении еще два часа назад.
Великолепный берберский жеребец, высокий и нервный, на сухих, жилистых, как у оленя, ногах бил копытом о землю, прядал ушами и шумно выпускал воздух из ноздрей, ожидая Карла IX; но он был все же менее нетерпелив, чем его хозяин, задержанный Екатериной, которая остановила сына на ходу, чтобы поговорить, по ее словам, о важном деле.
Мать и сын стояли в стеклянной галерее: Екатерина, холодная, бледная, бесстрастная, как всегда, а Карл IX, дрожа от нетерпения, грыз ногти и стегал двух собак — своих любимцев, на которых были надеты кольчужные попоны, чтобы предохранить их от ударов клыков и дать возможность безопасно схватиться с ужасным зверем. На груди поверх кольчуги был нашит маленький щиток с гербом Франции, вроде тех, что нашивали на грудь пажей, которые не раз завидовали преимуществам этих любимых благоденствующих псов.
— Карл, примите во внимание, — говорила Екатерина, — что никому, кроме меня и вас, еще не известно о скором прибытии сюда поляков; а между тем король Наваррский — да простит мне Бог! — ведет себя так, как будто он об этом знает. Несмотря на свой переход в католическую веру, который всегда был мне подозрителен, Генрих поддерживает сношения с гугенотами. Разве вы не заметили, что за последние дни он часто уходит из дому? У него появились деньги, а их у него никогда не было; он покупает лошадей, оружие, а в дождливую погоду по целым дням упражняется в искусстве фехтования.
— Ах, Боже мой! — сказал Карл IX в нетерпении. — Неужели, матушка, вы думаете, что он собирается убить меня или моего брата герцога Анжуйского? Тогда ему надо еще поучиться: не далее как вчера я налепил ему своей рапирой одиннадцать точек на колет, а он насчитал у меня лишь шесть. А мой брат Анжуйский фехтует еще искуснее меня или, по его словам, так же хорошо, как я.
— Послушайте, Карл, не относитесь так легкомысленно к тому, что говорит вам ваша мать. Польские послы скоро приедут — вот тогда вы увидите! Как только они появятся в Париже, Генрих Наваррский сделает все возможное, чтобы привлечь к себе их внимание. Он вкрадчив, он себе на уме; не говоря уж о том, что жена его, которая неизвестно по каким причинам, ему способствует, будет болтать с послами, говорить с ними по-латыни, по-гречески, по-венгерски и так далее. Говорю вам, Карл, я никогда не ошибаюсь, — итак, я говорю вам: что-то затевается.
В эту минуту пробили часы, и Карл IX, перестав слушать Екатерину, прислушался к их бою.
— Смерть моя! Семь часов! — воскликнул он. — Час ехать итого — восемь! Час на то, чтобы доехать до места сбора и набросить гончих, — мы только в девять начнем охоту. Честное слово, матушка, вы вынуждаете меня терять время. Отстань, Удалой!.. Отстань же, говорят тебе, разбойник!
Он сильно хлестнул по спине молосского дога; бедное животное, изумленное таким наказанием в ответ на свою ласку, взвизгнуло от боли.
— Карл, выслушайте же меня, ради Бога, — сказала Екатерина, — и не швыряйтесь вашей собственной судьбой и судьбой Франции. У вас на уме только охота, охота и охота!.. Выполните ваши обязанности короля и тогда охотьтесь сколько угодно.
— Ладно, ладно, матушка! — сказал Карл, бледнея от нетерпения. — Объяснимся поскорее — из-за вас во мне все кипит. Честное слово, бывают дни, когда я вас просто не понимаю!
И он остановился, похлопывая рукояткой арапника по сапогу.
Екатерина решила, что момент благоприятный и упускать его нельзя.
— Сын мой, у нас есть доказательства, что де Муи вернулся в Париж, — сказала она. — Его видел Морвель, которого вы хорошо знаете. Он мог приехать только к королю Наваррскому. Надеюсь, этого достаточно, чтобы подозревать Генриха больше, чем когда-либо.
— Слушайте, опять вы против моего бедного Анрио! Вы хотите, чтобы я его казнил, да?
— О нет!
— Изгнал? Но как вы не понимаете, что в качестве изгнанника он гораздо опаснее, чем когда он здесь, у нас на глазах, в Лувре, где он не может сделать ничего, что не стало бы известно нам в ту же минуту!
— Поэтому я и не собираюсь изгонять его.
— Тогда чего же вы хотите? Говорите скорее!
— Я хочу, чтобы на время пребывания поляков он находился в заключении, например в Бастилии.
— Ну уж нет! — воскликнул Карл. — Сегодня мы с ним охотимся на кабана, и он мой лучший помощник на охоте. Без него нет охоты. Черт возьми! Вы, матушка, только о том и думаете, как бы вывести меня из терпения!
— Ах, милый сын мой, разве я говорю, что сегодня? Послы приедут завтра или послезавтра. Арестуем его после охоты, сегодня вечером… нет… ночью.
— Это другое дело. Там увидим! Мы еще поговорим об этом.
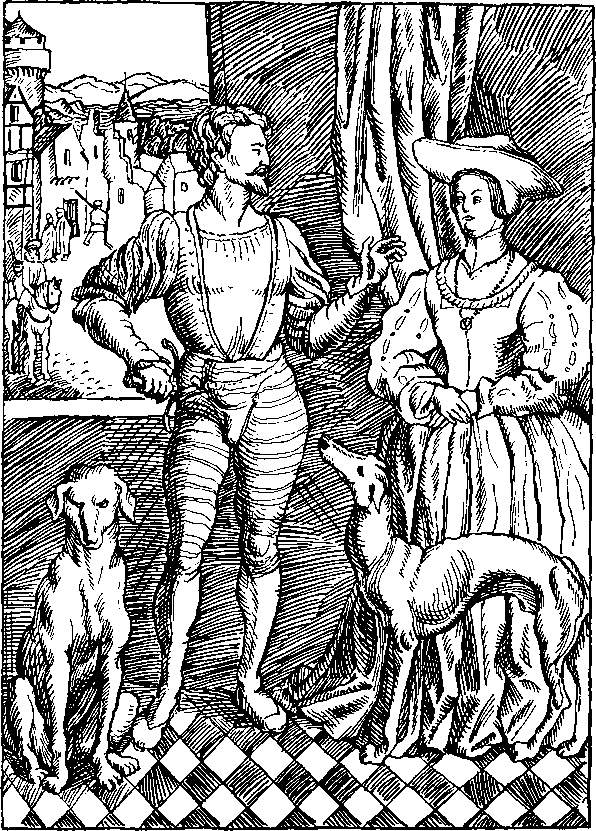
После охоты — я не возражаю. Прощайте! Сюда, Удалой! Или ты тоже будешь на меня дуться?
— Карл, — сказала Екатерина, останавливая сына за руку и рискуя вызвать этой задержкой новую вспышку гнева, — я думаю, что самый арест можно отложить до вечера или до ночи, но распоряжение об аресте лучше подписать сейчас.
— Писать приказ, подписывать, разыскивать печать для королевских грамот в то время как меня ждут, чтоб ехать на охоту, а я никогда не заставлял себя ждать! Ну его к черту!
— Но я вас так люблю, что не собираюсь вас задерживать. Я все предусмотрела. Войдите сюда, ко мне.
Екатерина проворно, точно ей было двадцать лет, отворила дверь в свой кабинет, показала на чернильницу, перо, грамоту, печать и зажженную свечу.
Король взял грамоту и быстро пробежал ее:
— "Повелеваю… арестовать и препроводить в Бастилию брата нашего Генриха Наваррского". Готово! — сказал он, подписывая одним росчерком. — Прощайте, матушка!
И бросился вон из кабинета в сопровождении своих собак, радуясь, что так легко отделался от матери.
На дворе все с нетерпением ждали Карла и, зная его точность в делах охоты, удивлялись тому, что он опаздывал. Зато когда он появился, охотники приветствовали его криками, выжлятники — фанфарами, лошади — ржаньем, а собаки — лаем.
Весь этот шум и крики возбуждающе подействовали на Карла; бледные щеки его покрылись румянцем, сердце забилось, и на одну минуту он стал юн и счастлив.
Король только кивнул всему блестящему обществу, собравшемуся во дворе, мотнул головой Маргарите, махнул рукой герцогу Алансонскому, прошел мимо Генриха Наваррского, делая вид, что не замечает его, и вскочил на своего берберского жеребца, который под ним запрыгал, но, сделав два-три курбета, почувствовал, с каким наездником имеет дело, и успокоился.
Снова раздался звук фанфар, и король выехал из Лувра в сопровождении герцога Алансонского, короля Наваррского, Маргариты, герцогини Неверской, баронессы де Сов, Тавана и придворной вельможной знати.
Само собою разумеется, что Коконнас и Ла Моль входили в число дворян, сопровождавших короля.
Что касается герцога Анжуйского, то он уже три месяца отсутствовал, участвуя в осаде Ла-Рошели.
Пока ждали короля, Генрих Наваррский подъехал поздороваться со своей женой, которая, ответив на его приветствие, сказала ему на ухо:
— Нарочный из Рима был у герцога Алансонского. Коконнас лично ввел его туда на четверть часа раньше, чем посланный герцога Неверского был принят королем.
— Значит, он знает все? — спросил Генрих.
— Наверняка, — ответила Маргарита. — Только взгляните, как блестят его глаза, несмотря на его способность скрывать и притворяться.
— Святая пятница! Еще бы, — прошептал Генрих, — сегодня он уже охотник на трех зайцев: Францию, Польшу и Наварру, не считая кабана!
Он поклонился жене и вернулся на свое место; затем подозвал одного из слуг, своего обычного посланца по любовным поручениям, беарнца по происхождению, предки которого в течение столетия служили его предкам, и сказал:
— Ортон, возьми вот этот ключ и доставь его известному тебе кузену баронессы де Сов, живущему у своей возлюбленной на улице Катр-Фис; скажи ему, что его кузина желает поговорить с ним сегодня вечером. Пусть он войдет ко мне в комнату и, если меня не будет дома, подождет; если же я очень запоздаю, пускай ложится спать на мою постель.
— Ответа не требуется, сир?
— Нет, только сообщи мне, застал ты его дома или нет. Ключ никому, кроме него, понимаешь?
— Да, ваше величество.
— Постой! Куда ты? Не уезжай от меня сейчас. При выезде из Парижа я подзову тебя, чтобы переседлать мне лошадь, — тогда будет понятно, почему ты отстал; исполнив поручение, догонишь нас в Бонди.
Слуга кивнул головой и отъехал в сторону.
Все общество двинулось по улице Сент-Оноре, затем по улице Сен-Дени и наконец достигло предместья; там, на улице Сен- Лоран лошадь короля Наваррского расседлалась. Ортон подъехал, и все произошло, как было условлено между слугой и господином, который затем последовал за королевским поездом на улицу Реколе, в то время как верный слуга его скакал на улицу Катр-Фис.
Когда Генрих Наваррский присоединился к королю, Карл был занят интересным разговором с герцогом Алансонским о возрасте обложенного кабана-одинца, о месте его лежки и сделал вид, будто не заметил, что Генрих некоторое время оставался позади.
Маргарита все это время издали наблюдала за поведением их обоих, и ей казалось, что каждый раз, как ее брат-король смотрел на Генриха, глаза его выражали какое-то смущение.
Герцогиня Неверская хохотала до слез, потому что Коконнас, особенно веселый в этот день, беспрестанно отпускал остроты, стараясь насмешить окружавших ее дам.
Ла Моль уже два раза нашел случай поцеловать белый обшитый золотой бахромой шарф Маргариты, и сделал это с ловкостью, свойственной любовникам, так, что лишь три-четыре человека заметили его проделку.
В четверть девятого все общество прибыло в Бонди.
Карл первым делом справился, не ушел ли кабан. Обошедший зверя ловчий ручался, что кабан в кругу.
Закуска была уже готова. Король выпил стакан венгерского вина, пригласил дам к столу, а сам, от нетерпения и чтобы убить время, пошел осматривать псарню и ловчих птиц, приказав не расседлывать его лошадь, оправдывая это тем, что такой выносливой и сильной верховой лошади у него никогда не было.
В то время когда король производил осмотр, приехал герцог Гиз. Он был вооружен, как будто ехал не на охоту, а на войну; его сопровождали человек двадцать или тридцать дворян в таком же снаряжении. Он тотчас осведомился, где король, пошел к нему и вернулся вместе с ним, продолжая какой-то разговор.
Ровно в девять часов король сам подал в рог сигнал "набрасывать" собак, все сели на лошадей и поехали к месту охоты.
По дороге Генрих Наваррский, улучив минуту, подъехал еще раз к своей жене.
— Что нового? — спросил он.
— Ничего, кроме того, что мой брат Карл как-то странно на вас посматривает, — ответила Маргарита.
— Я заметил.
— А вы приняли какие-нибудь меры предосторожности? — спросила Маргарита.
— У меня под одеждой кольчуга, а на боку охотничий испанский нож, отточенный, как бритва, острый, как игла, — я разрубаю им дублоны пополам.
— Ну, да хранит вас Бог! — сказала Маргарита.
Доезжачий, ехавший во главе охоты, дал знак остановиться; охота подъехала к месту лежки.
Назад: Часть третья
Дальше: Часть четвертая

