Книга: Собрание сочинений. Том 15.1994 Граф де Монте-Кристо. ч.4,5,6
Назад: V КРАЖА СО ВЗЛОМОМ
Дальше: XVI ВАЛЕНТИНА
X
ВЫЗОВ
— Я воспользовался общим молчанием и темнотой залы, чтобы выйти незамеченным, — продолжал Бошан. — У дверей меня ждал тот самый служитель, который отворил мне ложу. Он довел меня по коридорам до маленькой двери, выходящей на улицу Вожирар. Я вышел истерзанный и в то же время восхищенный, — простите меня, Альбер, — истерзанный за вас, восхищенный благородством этой девушки, мстящей за своего отца. Да, клянусь, Альбер, откуда бы ни шло это разоблачение, я скажу одно: быть может, оно исходит от врага, но этот враг только орудие Провидения.
Альбер сидел, уронив голову на руки. Он поднял лицо, пылающее от стыда и мокрое от слез, схватил Бошана за руку.
— Друг, — сказал он, — моя жизнь кончена; мне остается не повторять, конечно, вслед за вами, что этот удар мне нанесло Провидение, а искать человека, который преследует меня своей ненавистью; когда я его найду, я его убью или он убьет меня; и я рассчитываю на вашу дружескую помощь, Бошан, если только презрение не изгнало дружбу из вашего сердца.
— Презрение, друг мой? Чем вы виноваты в этом несчастье? Нет, слава Богу, прошли те времена, когда несправедливый предрассудок заставлял сыновей отвечать за действия отцов. Припомните всю свою жизнь, Альбер; правда, она очень юна, но не было зари более чистой, чем ваш рассвет! Нет, Альбер, поверьте мне: вы молоды, богаты, уезжайте из Франции! Все быстро забывается в этом огромном Вавилоне, где жизнь кипит и вкусы изменчивы; вы вернетесь года через три, женатый на какой-нибудь русской княжне, и никто не вспомнит о том, что случилось вчера, а тем более о том, что случилось шестнадцать лет тому назад.
— Благодарю вас, мой дорогой Бошан, благодарю вас за добрые чувства, которые подсказали вам этот совет, но это невозможно. Я высказал вам свое желание, а теперь, если нужно, я заменю слово "желание" словом "воля". Вы должны понять, что это слишком близко меня касается, и я не могу смотреть на дело, как вы. То, что, по-вашему, имеет своим источником волю Неба, по-моему, исходит из источника менее чистого. Мне представляется, должен сознаться, что Провидение здесь ни при чем, и это к счастью, потому что вместо невидимого и неосязаемого. вестника небесных наград и кар я найду видимое и осязаемое существо, которому я отомщу, клянусь, за все, что я выстрадал в течение этого месяца. Теперь, повторяю вам, Бошан, я хочу вернуться в мир людей, мир материальный, и, если вы, как вы говорите, все еще мой друг, помогите мне отыскать ту руку, которая нанесла удар.
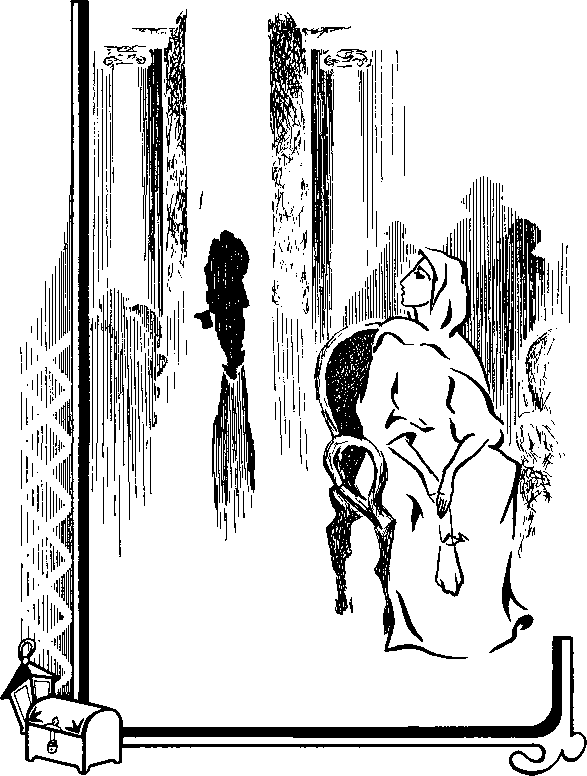
— Будь по-вашему! — сказал Бошан. — Если вы непременно хотите, чтобы я спустился на землю, я это сделаю; если вы хотите начать розыски врага, я буду разыскивать его вместе с вами. И я найду его, потому что моя честь требует почти в такой же мере, как и ваша, чтобы мы его нашли.
— В таком случае, Бошан, мы должны начать розыски немедленно, сейчас же. Каждая минута промедления кажется мне вечностью; доносчик еще не понес наказания, следовательно, он может надеяться, что и не понесет его, но, клянусь честью, он жестоко ошибается!
— Послушайте, Морсер…
— Я вижу, Бошан, вы что-то знаете; вы возвращаете мне жизнь!
— Я ничего не знаю точно, Альбер, но все же это луч света во тьме, и, если мы пойдем за этим лучом, он, может быть, выведет нас к цели.
— Да говорите же! Я сгораю от нетерпения.
— Я расскажу вам то, чего не хотел говорить, когда вернулся из Янины.
— Я слушаю.
— Вот что произошло, Альбер. Я, естественно, обратился за справками к первому банкиру в городе; как только я заговорил об этом деле и даже прежде чем я успел назвать вашего отца, он сказал:
"Я догадываюсь, что вас привело ко мне".
"Каким образом?"
"Нет еще двух недель, как меня запрашивали по этому самому делу".
"Кто?"
"Один парижский банкир, мой корреспондент".
"Его имя?"
"Данглар".
— Данглар! — воскликнул Альбер. — Верно, он уже давно преследует моего несчастного отца своей завистливой злобой; он считает себя демократом, но не может простить графу де Морсер его пэрства. И этот неизвестно почему не состоявшийся брак… да, это так!
— Расследуйте это, Альбер, только не горячитесь заранее, и если это так…
— Если это так, — воскликнул Альбер, — он заплатит мне за все, что я выстрадал.
— Не увлекайтесь, ведь он уже пожилой человек.
— Я буду считаться с его возрастом так, как он считался с честью моей семьи. Если он враг моего отца, почему он не напал на него открыто? Он побоялся встретиться лицом к лицу с мужчиной!
— Альбер, я не осуждаю, я только сдерживаю вас; будьте осторожны.
— Не бойтесь; впрочем, вы будете меня сопровождать, Бошан: о таких серьезных вещах говорят при свидетелях. Сегодня же, если виновен Данглар, он умрет или умру я. Черт возьми, Бошан, я устрою пышные похороны своей чести!
— Хорошо, Альбер. Когда принимают такое решение, надо немедленно исполнить его. Вы хотите ехать к Данглару? Едем.
Они послали за наемным кабриолетом. Подъезжая к дому банкира, они увидели у ворот фаэтон и слугу Андреа Кавальканти.
— Вот это удачно! — угрюмо произнес Альбер. — Если Данглар откажется принять вызов, я убью его зятя. Князь Кавальканти — как же ему не драться!
Банкиру доложили об их приходе, и он, услышав имя Альбера и зная все, что произошло накануне, велел сказать, что не принимает. Но было уже поздно, Альбер шел следом за лакеем; он услышал ответ, распахнул дверь и вместе с Бошаном вошел в кабинет банкира.
— Позвольте, сударь! — воскликнул тот. — Разве я уже не хозяин в своем доме и не властен принимать или не принимать кого мне угодно? Мне кажется, вы до странности забываетесь.
— Нет, сударь, — холодно отвечал Альбер, — бывают обстоятельства, когда некоторых посетителей нельзя не принимать, если не хочешь прослыть трусом, — этот выход вам, разумеется, открыт.
— Что вам от меня угодно, сударь?
— Мне угодно, — сказал Альбер, подходя к нему и словно не замечая Кавальканти, стоявшего у камина, — предложить вам встретиться со мной в уединенном месте, где нас никто не побеспокоит в течение десяти минут; большего я не прошу; и из двух людей, которые там встретятся, один останется на месте.
Данглар побледнел. Кавальканти сделал движение. Альбер обернулся к нему.
— Пожалуйста, — сказал он, — если желаете, граф, приходите тоже, вы имеете на это полное право, вы почти уже член семьи, а я назначаю такие свидания всякому, кто пожелает явиться.
Кавальканти в недоумении взглянул на Данглара, и тот, сделав над собой усилие, поднялся и стал между ними. Выпад Альбера против Андреа возбудил в нем надежду, что этот визит вызван не той причиной, которую он предположил вначале.
— Послушайте, сударь, — сказал он Альберу, — если вы ищете ссоры с виконтом за то, что я предпочел его вам, то я предупреждаю вас, что передам это дело королевскому прокурору.
— Вы ошибаетесь, сударь, — сказал Альбер с мрачной улыбкой, — мне не до свадеб, и я обратился к господину Кавальканти только потому, что мне показалось, будто у него мелькнуло желание вмешаться в наш разговор. А впрочем, вы совершенно правы, я готов сегодня поссориться со всяким; но будьте спокойны, господин Данглар, первенство в этом отношении остается за вами.
— Сударь, — отвечал Данглар, бледный от гнева и страха, — предупреждаю вас, что, когда, по несчастью, я встречаю на своем пути бешеного пса, я убиваю его, и не только не считаю себя виновным, но, напротив того, нахожу, что оказываю обществу услугу. Так что если вы взбесились и собираетесь укусить меня, то предупреждаю вас: я без всякой жалости вас убью. Чем я виноват, что ваш отец обесчещен?
— Да, негодяй! — воскликнул Альбер. — Это твоя вина!
Данглар отступил на шаг.
— Моя вина! Моя? — сказал он. — Да вы с ума сошли! Да разве я знаю греческую историю? Разве я разъезжал по всем этим странам? Разве это я посоветовал вашему отцу продать янинские замки, выдать…
— Молчать! — сказал Альбер сквозь зубы. — Нет, не вы лично вызвали скандал, но именно вы коварно подстроили это несчастье.
— Я?
— Да, вы! Откуда пошла огласка?
— Но, мне кажется, в газете это было сказано: из Янины, откуда же еще!
— А кто писал в Янину?
— В Янину?
— Да. Кто писал и запрашивал сведения о моем отце?
— Мне кажется, что никому не запрещено писать в Янину.
— Во всяком случае, писало только одно лицо.
— Только одно лицо?
— Да, и это лицо — вы.
— Разумеется, я писал: мне кажется, что если выдаешь замуж свою дочь за молодого человека, то позволительно собирать сведения о семье этого молодого человека; это не только право, это обязанность.
— Вы писали, сударь, — сказал Альбер, — отлично зная, какой получите ответ.
— Клянусь вам, — воскликнул Данглар с чувством искренней убежденности, исходившим, быть может, не столько даже от наполнявшего его страха, сколько от жалости, которую он в глубине души чувствовал к несчастному юноше, — мне никогда и в голову бы не пришло писать в Янину. Разве я имел представление о несчастье, постигшем Али-пашу?
— Значит, кто-нибудь посоветовал вам написать?
— Разумеется.
— Вам посоветовали?
— Да.
— Кто?.. Говорите… Сознайтесь…
— Извольте, все очень просто: я говорил о прошлом вашего отца, я сказал, что источник его богатства никому не известен. Лицо, с которым я беседовал, спросило, где ваш отец приобрел свое состояние. Я ответил: в Греции. Тогда этот человек мне сказал: напишите в Янину.
— Кто же вам дал этот совет?
— Черт возьми! Граф де Монте-Кристо, ваш друг.
— Граф де Монте-Кристо посоветовал вам написать в Янину?
— Да, и я написал. Хотите посмотреть мою переписку? Я вам ее покажу.
Альбер и Бошан переглянулись.
— Сударь, — сказал Бошан, до сих пор молчавший, — по-моему, вы обвиняете графа, зная, что его сейчас нет в Париже и он не может оправдаться.
— Я никого не обвиняю, сударь, — отвечал Данглар, — я просто рассказываю, как было дело, и готов повторить в присутствии господина графа де Монте-Кристо все, что я вам сейчас сказал.
— И граф знает, какой вы получили ответ?
— Я ему показал ответ.
— Знал ли он, что моего отца звали Фернан и что его фамилия Мондего?
— Да, я ему давно об этом сказал; словом, я сделал только то, что всякий сделал бы на моем месте, и даже, может быть, гораздо меньше. На следующий день после получения этого ответа ваш отец, по совету графа де Монте-Кристо, приехал ко мне и официально просил для вас руки моей дочери, как это принято делать, когда хотят решить вопрос окончательно, я отказал ему, отказал наотрез, эго правда, но без всяких объяснений, без скандала. В самом деле, к чему мне была огласка? Какое мне дело до чести или бесчестия господина де Морсера? Это не влияет ни на повышение, ни на понижение курса.
Альбер почувствовал, что краска заливает ему лицо. Сомнений не было, Данглар защищался как низкий, но уверенный в себе человек, говоривший если не всю правду, то, во всяком случае, долю правды, не по велению совести, конечно, но из страха. Впрочем, что нужно было Альберу? Не большая или меньшая степень вины Данглара или Монте-Кристо, а человек, который ответил бы за обиду, независимо от того, тяжка ли она или пустячна, человек, который станет драться, а было совершенно очевидно, что Данглар драться не станет.
И все то, что успело забыться или прошло незамеченным, ясно вставало перед его глазами и воскресало в его памяти. Монте-Кристо знал все, раз он купил дочь Али-паши, а зная все, он посоветовал Данглару написать в Янину. Узнав ответ, он согласился познакомить Альбера с Гайде; как только они очутились в ее обществе, он навел разговор на смерть Али и не мешал Гайде рассказывать (впрочем, вероятно, в тех нескольких словах, которые он сказал ей по-гречески, он велел ей скрыть от Альбера, что дело идет об его отце); кроме того, разве он не просил Альбера не произносить при Гайде имени его отца? Наконец, он увез Альбера в Нормандию именно на то время, когда должен был разразиться скандал. Сомнений не было, все это было сделано расчетливо, и Монте-Кристо был, несомненно, в сговоре с врагами его отца.
Альбер отвел Бошана в сторону и поделился с ним всеми этими соображениями.
— Вы правы, — сказал тот. — Данглара во всем случившемся касается только грубая, материальная сторона дела; объяснений вы должны требовать от господина де Монте-Кристо.
Альбер обернулся.
— Сударь, — сказал он Данглару, — вы должны понять, что я еще не прощаюсь с вами, но мне необходимо знать, насколько ваши обвинения справедливы, и, чтобы удостовериться в этом, я сейчас же еду к графу де Монте-Кристо.
И, поклонившись банкиру, он вышел вместе с Бошаном, не удостоив Кавальканти даже взглядом.
Данглар проводил их до двери и на пороге еще раз заверил Альбера, что у него нет никакого личного повода питать ненависть к графу де Морсеру.
XI
ОСКОРБЛЕНИЕ
Выйдя от банкира, Бошан остановился.
— Послушайте, Альбер, — произнес он, — я вам сказал, что вам следует потребовать объяснений у господина Монте-Кристо.
— Да, и мы едем к нему.
— Одну минуту; раньше чем ехать к графу, подумайте.
— О чем мне еще думать?
— О серьезности этого шага.
— Но разве он более серьезен, чем мой визит к Данглару?
— Да, Данглар — человек деловой, а деловые люди, как вам известно, знают цену своим капиталам и потому дерутся неохотно. Граф Монте-Кристо, напротив, дворянин, по крайней мере по виду, но не опасаетесь ли вы, что под внешностью дворянина скрывается убийца?
— Я опасаюсь только одного — что он откажется драться.
— Будьте спокойны, — сказал Бошан, — этот будет драться. Я даже боюсь, что он будет драться слишком хорошо. Берегитесь!
— Друг, — сказал Альбер с ясной улыбкой, — этого мне и нужно, и самое большое счастье для меня — быть убитым за отца: это всех нас спасет.
— Это убьет вашу матушку!
— Бедная мама, — сказал Альбер, проводя рукой по глазам, — да, я знаю, но пусть уж лучше она умрет от горя, чем от стыда.
— Так ваше решение твердо, Альбер?
— Да.
— Тогда едем! Но уверены ли вы, что мы его застанем?
— Он должен был выехать вслед за мной и, наверное, уже в Париже.
Они сели в кабриолет и поехали на Елисейские поля.
Бошан хотел войти один, но Альбер заметил ему, что так как эта дуэль несколько необычна, то он может позволить себе нарушить этикет.
Чувство, одушевлявшее Альбера, было столь священно, что Бошану оставалось только подчиняться всем его желаниям, поэтому он уступил и ограничился тем, что последовал за своим другом.
Альбер почти бегом прошел от ворот до крыльца. Там его встретил Батистен.
Граф действительно уже вернулся; он предупредил Батистена, что его ни для кого нет дома.
— Его сиятельство принимает ванну, — сказал Батистен Альберу.
— Но после ванны?
— Он будет обедать.
— А после обеда?
— Он будет час отдыхать.
— А затем?
— Он поедет в Оперу.
— Вы в этом уверены? — спросил Альбер.
— Совершенно уверен, граф приказал подать лошадей ровно в восемь часов.
— Превосходно, — ответил Альбер, — больше мне ничего не нужно.
Затем он повернулся к Бошану.
— Если вам нужно куда-нибудь идти, Бошан, идите сейчас же; если у вас на сегодняшний вечер назначено какое-нибудь свидание, отложите его на завтра. Вы сами понимаете, я рассчитываю, что вы поедете со мной в Оперу. Если удастся, приведите с собой и Шато-Рено.
Бошан простился с Альбером, обещав зайти за ним без четверти восемь.
Вернувшись домой, Альбер послал предупредить Франца, Дебрэ и Морреля, что очень просит их встретиться с ним в этот вечер в Опере.
Потом он прошел к своей матери, которая после всего того, что произошло накануне, велела никого не принимать и заперлась у себя. Он нашел ее в постели, потрясенную разыгравшимся скандалом.
Приход Альбера произвел на Мерседес именно то действие, которого следовало ожидать: она сжала руку сына и разразилась рыданиями. Однако от этих слез ей полегчало.
Альбер стоял, безмолвно склонившись над ней. По его бледному лицу и нахмуренным бровям видно было, что принятое им решение отомстить все сильнее овладевало его сердцем.
— Вы не знаете, матушка, — спросил он, — есть ли у господина де Морсера враги?
Мерседес вздрогнула; она заметила, что Альбер не сказал "у моего отца".
— Друг мой, — отвечала она, — у людей, занимающих такое положение, как граф, бывает много тайных врагов. Явные враги, как ты знаешь, еще не самые опасные.
— Да, я знаю, и потому надеюсь на вашу проницательность. Я знаю, вы необыкновенная, от вас ничто не ускользнет!
— Почему ты мне это говоришь?
— Потому что вы заметили, например, у нас на балу, что граф де Монте-Кристо не захотел есть в нашем доме.
Мерседес, сжигаемая лихорадкой, приподнялась на постели, ее бросило в дрожь.
— Граф де Монте-Кристо! — воскликнула она. — Но какое это имеет отношение к тому, о чем ты меня спрашиваешь?
— Вы же знаете, матушка, что господин де Монте-Кристо верен многим обычаям Востока, а на Востоке, чтобы сохранить за собой право мести, никогда ничего не пьют и не едят в доме врага.
— Граф де Монте-Кристо — наш враг? — спросила Мерседес, побледнев как полотно. — Кто тебе это сказал? Почему? Ты бредишь, Альбер. От него мы видели одно только внимание. Господин Монте-Кристо спас тебе жизнь, и ты сам представил нам его. Умоляю тебя, сын, прогони эту мысль. Я советую тебе, больше того, прошу тебя: сохрани его дружбу.
— Матушка, — возразил Альбер, мрачно глядя на нее, — у вас есть какая-то причина осторожничать с этим человеком.
— У меня! — воскликнула Мерседес, мгновенно покраснев, и тотчас вновь побледнела сильнее прежнего.
— Да, — сказал Альбер, — и это, конечно, потому, что мы можем ждать от него только зла, правда?
Мерседес вздрогнула и вперила в сына испытующий взор.
— Как ты странно говоришь, — сказала она, — откуда у тебя такое предубеждение! Что ты имеешь против графа? Три дня тому назад ты гостил у него в Нормандии; три дня тому назад я его считала и сам ты считал его твоим лучшим другом.
Ироническая улыбка мелькнула на губах Альберта. Мерседес перехватила эту улыбку и чутьем женщины и матери угадала все, но, осторожная и сильная духом, она скрыла свое смущение и тревогу.
Альбер молчал; немного погодя графиня заговорила снова.
— Ты пришел узнать, как я себя чувствую, — сказала она, — не скрою, друг мой, мне нездоровится. Побудь со мной, Альбер, мне так тяжело одной.
— Матушка, — сказал юноша, — вы ведь знаете, я был рад остаться с вами, но сегодня вечером у меня спешное, неотложное дело.
— Что ж, — ответила со вздохом Мерседес. — Иди, Альбер, я не хочу делать тебя рабом твоих сыновних чувств.
Альбер сделал вид, что не уловил смысла этих слов, простился с матерью и вышел.
Не успел он закрыть за собой дверь, как Мерседес послала за доверенным слугой и велела ему следовать за Альбером всюду, куда бы тот ни пошел, а возвратясь, немедленно ей обо всем сообщить.
Затем она позвонила горничной и, превозмогая свою слабость, оделась, чтобы быть на всякий случай готовой.
Поручение, данное слуге, было нетрудно выполнить. Альбер вернулся к себе и оделся с особой тщательностью. Без десяти минут восемь явился Бошан; он уже виделся с Шато-Рено, и тот обещал быть на своем месте, в первых рядах кресел, еще до поднятия занавеса.
Молодые люди сели в карету Альбера, который, не считая нужным скрывать, куда он едет, громко приказал:
— В Оперу!
Сгорая от нетерпения, он вошел в театр еще до начала спектакля.
Шато-Рено сидел уже в своем кресле; так как Бошан обо всем его предупредил, Альберу не пришлось давать ему никаких объяснений. Поведение сына, желающего отомстить за отца, было так естественно, что Шато-Рено и не пытался его отговаривать и ограничился заявлением, что он к его услугам.
Дебрэ еще не было, но Альбер знал, что он редко пропускает спектакль в Опере. Пока не подняли занавес, Альбер бродил по театру. Он надеялся встретить Монте-Кристо либо в коридоре, либо на лестнице. Звонок заставил его вернуться, и он занял свое кресло между Шато-Рено и Бошаном.
Но его глаза не отрывались от ложи между колоннами, которая во время первого действия упорно оставалась закрытой.
Наконец, в начале второго акта, когда Альбер уже в сотый раз посмотрел на часы, дверь ложи открылась и Монте-Кристо, весь в черном, вошел и оперся о барьер, разглядывая зрительный зал, следом за ним вошел Моррель, стал искать глазами сестру и зятя. Он увидел их в ложе бельэтажа и сделал им знак.
Граф, окидывая взглядом залу, заметил бледное лицо и сверкающие глаза, жадно искавшие его взгляда; он, разумеется, узнал Альбера, но, увидев его расстроенное лицо, сделал вид, что не заметил его. Ничем не выдавая своих мыслей, он сел, вынул из футляра бинокль и стал смотреть в противоположную сторону.
Но, притворяясь, что он не замечает Альбера, граф все же не терял его из виду, и, когда второй акт кончился и занавес опустился, от его верного и безошибочного взгляда не ускользнуло, что Альбер вышел из партера в сопровождении обоих своих друзей.
Вслед за тем его лицо мелькнуло в дверях соседней ложи. Граф чувствовал, что гроза приближается, и когда он услышал, как повернулся ключ в двери его ложи, то, хотя он в ту минуту с самым веселым видом разговаривал с Моррелем, он уже знал, чего ждать, и был ко всему готов.
Дверь отворилась.
Только тогда граф обернулся и увидел Альбера, бледного и дрожащего; позади него стояли Бошан и Шато-Рено.
— A-а! Вот и мой всадник прискакал, — воскликнул он с той ласковой учтивостью, которая обычно отличала его приветствие от условной светской любезности. — Добрый вечер, господин де Морсер.
И лицо этого человека, так превосходно собой владевшего, было полно приветливости.
Только тут Моррель вспомнил о полученном им от виконта письме, в котором тот, ничего не объясняя, просил его быть вечером в Опере, и он понял, что сейчас произойдет что-то ужасное.
— Мы пришли не затем, чтобы обмениваться лицемерными любезностями или лживыми выражениями дружбы, — сказал Альбер, — мы пришли требовать объяснения, господин граф.
Он говорил сквозь зубы, голос его прерывался.
— Объяснение в Опере? — сказал граф тем спокойным тоном и с тем пронизывающим взглядом, по которым узнается человек, неизменно в себе уверенный. — Хоть я и мало знаком с парижскими обычаями, мне все же кажется, сударь, что это не место для объяснений.
— Однако если человек скрывается, — сказал Альбер, — если к нему нельзя проникнуть, потому что он принимает ванну, обедает или спит, приходится говорить с ним там, где его встретишь.
— Меня не так трудно застать, — сказал Монте-Кристо, — не далее, как вчера, сударь, если память мне не изменяет, вы были моим гостем.
— Вчера, сударь, — сказал Альбер, теряя голову, — я был вашим гостем, потому что не знал, кто вы такой.
При этих словах Альбер возвысил голос, чтобы его могли слышать в соседних ложах и в коридоре. И в самом деле, заслышав ссору, сидевшие в ложах обернулись, а проходившие по коридору остановились за спиной у Бошана и Шато-Рено.
— Откуда вы явились, сударь? — сказал Монте-Кристо, не выказывая никакого волнения. — Вы, по-видимому, не в своем уме.
— У меня достаточно ума, чтобы понимать ваше коварство и заставить вас понять, что я хочу вам отомстить за него, — сказал вне себя Альбер.
— Милостивый государь, я вас не понимаю, — возразил Монте-Кристо, — и во всяком случае я нахожу, что вы слишком громко говорите. Я здесь у себя, милостивый государь, здесь только я имею право повышать голос. Уходите!
И Монте-Кристо повелительным жестом указал Альберу на дверь.
— Я заставляю вас самого выйти отсюда! — возразил Альбер, судорожно комкая в руках перчатку, с которой граф не спускал глаз.
— Хорошо, — спокойно сказал Монте-Кристо, — я вижу, вы ищете ссоры, сударь, но позвольте вам дать совет и постарайтесь его запомнить: плохая манера сопровождать вызов шумом. Шум не для всякого удобен, господин де Морсер.
При этом имени ропот пробежал среди свидетелей этой сцены. Со вчерашнего дня имя Морсера было у всех на устах.
Альбер лучше всех и прежде всех понял намек и сделал движение, намереваясь бросить перчатку в лицо графу, но Моррель остановил его руку, а Бошан и Шато-Рено, боясь, что эта сцена перейдет границы дозволенного, схватили его за плечи.
Но Монте-Кристо, не вставая с места, протянул руку и выхватил из судорожно сжатых пальцев Альбера влажную и смятую перчатку.
— Сударь, — сказал он грозным голосом, — я считаю, что эту перчатку вы мне бросили, и верну вам ее вместе с пулей. Теперь извольте выйти отсюда, не го я позову своих слуг и велю им вышвырнуть вас за дверь.
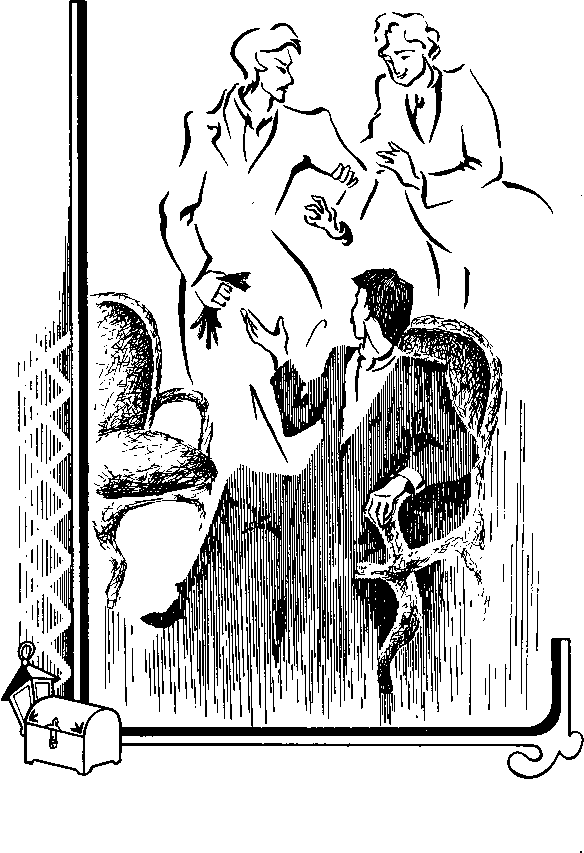
Шатаясь как пьяный, с налитыми кровью глазами, Альбер отступил на несколько шагов.
Моррель воспользовался этим и закрыл дверь.
Монте-Кристо снова взял бинокль и поднес его к глазам, словно ничего не произошло.
Сердце этого человека было отлито из бронзы, а лицо высечено из мрамора.
Моррель наклонился к графу.
— Что вы ему сделали? — шепотом спросил он.
— Я? Ничего, по крайней мере лично, — сказал Монте-Кристо.
— Однако эта странная сцена должна иметь причину?
— После скандала с графом де Морсером несчастный юноша сам не свой.
— Разве вы имеете к этому отношение?
— О предательстве его отца Палате сообщила Гайде.
— Да, я слышал, что гречанка, ваша невольница, которую я видел с вами в этой ложе, — дочь Али-паши, — сказал Моррель. — Но я не верил.
— Однако это правда.
— О Господи, теперь я все понимаю, — сказал Моррель, — эта сцена была подготовлена заранее.
— Почему вы думаете?
— Я получил записку от Альбера с просьбой быть сегодня в Опере; он хотел, чтобы я был свидетелем того оскорбления, которое он собирался вам нанести.
— Очень возможно, — невозмутимо сказал Монте-Кристо.
— Но как вы с ним поступите?
— С кем?
— С Альбером.
— Как я поступлю с Альбером, Максимилиан? — сказал тем же тоном Монте-Кристо. — Так же верно, как то, что я вас вижу и жму вашу руку, завтра утром я убью его. Вот как я с ним поступлю.
Моррель в свою очередь взял руку Монте-Кристо в свои и вздрогнул, почувствовав, что эта рука холодна и спокойна.
— Ах, граф, — сказал он, — отец так его любит!
— Только не говорите мне этого! — воскликнул Монте-Кристо, в первый раз обнаруживая, что он тоже может испытывать гнев. — Пусть любой отец страдает!
Моррель, пораженный, выпустил руку Монте-Кристо.
— Граф, граф! — сказал он.
— Дорогой Максимилиан, — прервал его граф, — послушайте, как Дюпре очаровательно поет эту арию:
О Матильда, кумир души моей…
Представьте, я первый открыл в Неаполе Дюпре и первый аплодировал ему. Браво! Браво!
Моррель понял, что больше говорить не о чем, и замолчал.
Через несколько минут действие кончилось и занавес опустился. В дверь постучали.
— Войдите, — сказал Монте-Кристо, в голосе его не чувствовалось ни малейшего волнения.
Вошел Бошан.
— Добрый вечер, господин Бошан, — сказал Монте-Кристо, как будто он в первый раз за этот вечер встречался с журналистом, — садитесь, пожалуйста.
Бошан поклонился, вошел и сел.
— Граф, — сказал он Монте-Кристо, — я, как вы, вероятно, заметили, только что сопровождал господина де Морсера.
— Из чего можно сделать вывод, — смеясь, ответил Монте-Кристо, — что вы вместе обедали. Я рад видеть, господин Бошан, что вы были более выдержанны, чем он.
— Граф, — сказал Бошан, — я признаю, что Альбер был неправ, выйдя из себя, и приношу вам за это свои личные извинения. Теперь, когда я принес вам извинения, — от своего имени, повторяю это, — граф, я надеюсь, что вы, как благородный человек, не откажетесь дать мне кое-какие объяснения по поводу ваших отношений с жителями Янины; потом я скажу еще несколько слов об этой молодой гречанке.
Монте-Кристо взглядом остановил его.
— Вот все мои надежды и разрушились, — сказал он, смеясь.
— Почему? — спросил Бошан.
— Очень просто: вы все поспешили наградить меня репутацией эксцентричного человека; по-вашему, я не то Лара, не то Манфред, не то лорд Рутвен; затем, когда моя эксцентричность вам надоела, вы портите созданный вами тип и хотите сделать из меня самого заурядного человека. Вы требуете, чтобы я стал пошлым, вульгарным; словом, вы требуете от меня объяснений. Помилуйте, господин Бошан, вы надо мной смеетесь.
— Однако, — возразил высокомерно Бошан, — бывают обстоятельства, когда честь требует…
— Сударь, — прервал Бошана его странный собеседник, — от графа де Монте-Кристо может чего-нибудь требовать только граф де Монте-Кристо. Поэтому, прошу вас, ни слова больше. Я делаю что хочу, господин Бошан, и, поверьте, это всегда прекрасно получается.
— Сударь, — отвечал Бошан, — так не отделываются от порядочных людей; честь требует гарантий.
— Сударь, я сам — живая гарантия своей чести, — невозмутимо возразил Монте-Кристо, но глаза его угрожающе вспыхнули. — У нас обоих течет в жилах кровь, которую мы не прочь пролить, — вот наша взаимная гарантия. Передайте этот ответ виконту и скажите ему, что завтра утром, прежде чем пробьет десять, я узнаю цвет его крови.
— В таком случае, — сказал Бошан, — мне остается обсудить условия поединка.
— Мне они совершенно безразличны, сударь, — сказал граф де Монте-Кристо, — и вы напрасно из-за такой малости беспокоите меня во время спектакля. Во Франции дерутся на шпагах или на пистолетах; в колониях предпочитают карабин; в Аравии пользуются кинжалом. Скажите вашему доверителю, что я хоть и оскорбленный, но, желая быть до конца эксцентричным, предоставляю ему выбор оружия и без споров и возражений согласен на все, на все, вы слышите, на все, даже на дуэль по жребию, что всегда нелепо. Но со мной — дело другое: я уверен, что выйду победителем.
— Вы уверены? — повторил Бошан, растерянно глядя на графа.
— Да, разумеется, — сказал Монте-Кристо, слегка пожав плечами. — Иначе я не принял бы вызова господина де Морсера. Я убью его, так должно быть, и так будет. Прошу вас только сегодня же вечером дать мне знать о часе встречи и роде оружия; я не люблю заставлять меня ждать.
— На пистолетах, в восемь часов утра, в Венсенском лесу, — сказал Бошан, не понимая, имеет ли он дело с дерзким фанфароном или со сверхъестественным существом.
— Отлично, сударь, — сказал Монте-Кристо. — Теперь, раз мы обо всем уговорились, разрешите мне, пожалуйста, слушать спектакль и посоветуйте вашему другу Альберу больше сюда не возвращаться; непристойное поведение только повредит ему. Пусть он едет домой и ложится спать.
Бошан ушел в полном недоумении.
— А теперь, — сказал Монте-Кристо, оборачиваясь к Моррелю, — могу ли я рассчитывать на вас?
— Разумеется, — сказал Моррель, — вы можете мной вполне располагать, граф, но все же…
— Что?
— Мне было бы очень важно, граф, знать истинную причину…
— Другими словами, вы отказываетесь?
— Отнюдь нет.
— Истинная причина? — повторил граф. — Этот юноша сам действует вслепую и не знает ее. Истинная причина известна лишь Богу и мне; но я даю вам честное слово, Моррель, что Бог, которому она известна, будет за нас.
— Этого достаточно, граф, — сказал Моррель. — Кто будет вашим вторым секундантом?
— Я никого в Париже не знаю, кому мог бы оказать эту честь, кроме вас, Моррель, и вашего зятя, Эмманюеля. Как по-вашему, Эмманюель согласится оказать мне эту услугу?
— Я отвечаю за него как за самого себя, граф.
— Отлично! Это все, что мне нужно. Значит, завтра в семь часов утра, у меня?
— Мы явимся.
— Тише! Занавес поднимают, давайте слушать. Я никогда не пропускаю ни одной ноты этого действия. Чудесная опера "Вильгельм Телль"!
XII
НОЧЬ
Граф де Монте-Кристо, по своему обыкновению, подождал, пока Дюпре спел свою знаменитую арию "За мной!", и только после этого встал и вышел из ложи.
Моррель простился с ним у выхода, повторив обещание явиться к нему вместе с Эмманюелем завтра ровно в семь часов утра.
Затем, все такой же спокойный и улыбающийся, граф сел в карету.
Пять минут спустя он был уже дома.
Но надо было не знать графа, чтобы не услышать сдержанной ярости в его голосе, когда он, входя к себе, сказал Али:
— Али, мои пистолеты с рукоятью слоновой кости!
Али принес ящик, и граф стал заботливо рассматривать оружие, что было вполне естественно для человека, доверяющего свою жизнь кусочку свинца.
Это были пистолеты особого образца, которые Монте-Кристо заказал, чтобы упражняться в стрельбе дома. Для выстрела достаточно было пистона, и, находясь в соседней комнате, нельзя было заподозрить, что граф, как говорят стрелки, набивает себе руку.
Он только что взял в руку оружие и начал вглядываться в точку прицела на железной дощечке, служившей ему мишенью, как дверь кабинета отворилась и вошел Батистен.
Но, раньше чем он успел открыть рот, граф заметил в полумраке за растворенной дверью женщину под вуалью, которая вошла вслед за Батистеном.
Она увидела в руке графа пистолет, увидела, что на столе лежат две шпаги, и бросилась в комнату.
Батистен вопросительно взглянул на своего хозяина.
Граф сделал ему знак, Батистен вышел и закрыл за собой дверь.
— Кто вы такая, сударыня? — сказал граф женщине под вуалью.
Незнакомка окинула взглядом комнату, чтобы убедиться, что они одни, потом склонилась так низко, как будто хотела упасть на колени, и с отчаянной мольбой сложила руки.
— Эдмон, — сказала она, — вы не убьете моего сына!
Граф отступил на шаг, тихо вскрикнул и выронил пистолет.
— Какое имя вы произнесли, госпожа де Морсер? — сказал он.
— Ваше, — воскликнула она, откидывая вуаль, — ваше, которое, быть может, я одна не забыла. Эдмон, к вам пришла не госпожа де Морсер, к вам пришла Мерседес.
— Мерседес умерла, сударыня, — сказал Монте-Кристо, — и я больше не знаю женщины, носящей это имя.
— Мерседес жива, сударь, и Мерседес все помнит, она единственная узнала вас, чуть только увидела и даже еще не видев, по одному вашему голосу, Эдмон, по звуку вашего голоса; и с тех пор она следует за вами по пятам, она следит за вами, она боится вас, и ей не нужно было доискиваться, чья рука нанесла удар графу де Морсеру.
— Фернану, хотите вы сказать, сударыня, — с горькой иронией возразил Монте-Кристо. — Раз уж вы начали припоминать имена, припомним их все.
Монте-Кристо произнес имя "Фернан" с такой ненавистью, что Мерседес содрогнулась от ужаса.
— Вы видите, Эдмон, что я не ошиблась, — воскликнула она, — и что я недаром сказала вам: пощадите моего сына!
— А кто вам сказал, сударыня, что я враг вашему сыну?
— Никто! Но все матери — ясновидящие. Я все угадала, я поехала за ним в Оперу, спряталась в ложе и видела все.
— В таком случае, сударыня, вы видели, что сын Фернана публично оскорбил меня? — сказал Монте-Кристо с ужасающим спокойствием.
— Сжальтесь!
— Вы видели, — продолжал граф, — что он бросил бы мне в лицо перчатку, если бы один из моих друзей, господин Моррель, не схватил его за руку.
— Выслушайте меня. Мой сын также разгадал вас, и несчастье, постигшее его отца, он приписывает вам.
— Сударыня, — сказал Монте-Кристо, — вы ошибаетесь: это не несчастье, это возмездие. Не я нанес удар господину де Морсеру, его карает Провидение.
— А почему вы хотите подменить собой Провидение? — воскликнула Мерседес. — Почему вы помните, когда оно забыло? Какое дело вам, Эдмон, до Янины и ее везира? Что сделал вам Фернан Мондего, предав Али Тепеленского?
— Верно, сударыня, — отвечал Монте-Кристо, — все это касается только французского офицера и дочери Василики. Вы правы, мне до этого нет дела, и если я поклялся отомстить, то не французскому офицеру и не графу де Морсеру, а рыбаку Фернану, мужу каталанки Мерседес,
— Какая жестокая месть за ошибку, на которую меня толкнула судьба! — воскликнула графиня. — Ведь виновата я, Эдмон, и если вы должны мстить, так мстите мне, у которой не хватило сил перенести ваше отсутствие и свое одиночество.
— А почему я отсутствовал? — воскликнул Монте-Кристо. — Почему вы были одиноки?
— Потому что вас арестовали, Эдмон, потому что вы были в тюрьме.
— А почему я был арестован? Почему я был в тюрьме?
— Этого я не знаю, — сказала Мерседес.
— Да, вы этого не знаете, сударыня, по крайней мере надеюсь, что не знаете. Но я вам скажу. Я был арестован, я был в тюрьме потому, что накануне того самого дня, когда я должен был на вас жениться, в беседке "Резерва" человек по имени Данглар написал вот это письмо, которое рыбак Фернан взялся лично отнести на почту.
И Монте-Кристо, подойдя к столу, открыл ящик, вынул из него пожелтевшую бумажку, исписанную выцветшими чернилами, и положил ее перед Мерседес.
Это было письмо Данглара королевскому прокурору, которое граф де Монте-Кристо, под видом агента фирмы "Томсон и Френч" выплатив двести тысяч франков г-ну де Бовилю, изъял из дела Эдмона Дантеса.
Мерседес с ужасом прочла:
"Приверженец престола и веры уведомляет господина королевского прокурора о том, что Эдмон Дантес, помощник капитана на корабле "Фараон", прибывшем сегодня из Смирны, с заходом в Неаполь и Портоферрайо, имел от Мюрата письмо к узурпатору, а от узурпатора — письмо к бонапартистскому комитету в Париже.
В случае ареста письмо, уличающее его в преступлении, будет найдено при нем, или у его отца, или в его каюте на "Фараоне".
— Боже мой! — простонала Мерседес, проводя рукой по влажному лбу. — И это письмо…
— Я купил его за двести тысяч франков, сударыня, — сказал Монте-Кристо, — и это недорого, потому что благодаря ему я сегодня могу оправдаться перед вами.
— И из-за этого письма?..
— Я был арестован; это вы знаете, но вы не знаете, сударыня, сколько времени длилось мое заточение. Вы не знаете, что я четырнадцать лет томился в четверти льё от вас, в темнице замка Иф. Вы не знаете, что четырнадцать долгих лет я ежедневно повторял клятву мщения, которую я дал себе в первый день, а между тем мне не было известно, что вы вышли замуж за Фернана, моего доносчика, и что мой отец умер, умер от голода!
Мерседес пошатнулась.
— Боже милосердный! — воскликнула она.
— Но, когда я вышел из тюрьмы, в которой пробыл четырнадцать лет, я узнал все это, и вот почему жизнью Мерседес и смертью отца я поклялся отомстить Фернану, и… и я мщу ему.
— И вы уверены, что на вас донес несчастный Фернан?
— Клянусь вам спасением своей души, сударыня, он это сделал. Впрочем, это немногим гнуснее, чем французскому гражданину — продаться англичанам, испанцу по рождению — сражаться против испанцев, офицеру на службе у Али — предать и убить Али. Что по сравнению с этим письмо, которое я вам показал? Уловка влюбленного, которую, я это признаю и понимаю, должна простить женщина, вышедшая замуж за этого человека, но которую не прощает тот, чьей невестой она была. Французы не отомстили предателю: испанцы не расстреляли предателя; Али, лежа в своей могиле, не наказал предателя; но я, преданный им, уничтоженный, тоже брошенный в могилу, я милостью Бога вышел из этой могилы, я перед Богом обязан отомстить, я послан им для мести, и вот я здесь.
Несчастная женщина закрыла лицо руками и упала на колени как подкошенная.
— Простите, Эдмон, — сказала она, — простите ради меня, ради моей любви к вам!
Достоинство замужней женщины остановило порыв влюбленной и матери.
Чело ее склонилось почти до самого пола.
Граф бросился к ней и поднял ее.
И вот, сидя в кресле, она своими затуманенными от слез глазами посмотрела на бледное лицо Монте-Кристо, на котором еще лежал грозный отпечаток страдания и ненависти.
— Не истребить этот проклятый род! — прошептал он. — Ослушаться Бога, который повелевает мне покарать его! Нет, не могу!
— Эдмон, — с отчаянием сказала несчастная мать, — Боже мой, я называю вас Эдмоном, почему вы не называете меня Мерседес?
— Мерседес! — повторил Монте-Кристо. — Да, вы правы, мне еще сладостно произносить это имя, и сегодня впервые, после стольких лет, оно звучит так внятно на моих устах. Мерседес, я повторял ваше имя со вздохами тоски, со стонами боли, с хрипом отчаяния; я произносил его, коченея от холода, скорчившись на тюремной соломе; я произносил его, изнемогая от жары, катаясь по каменному полу моей темницы. Мерседес, я должен отмстить, потому что четырнадцать лет я страдал, четырнадцать лет проливал слезы, я проклинал; говорю вам, Мерседес, я должен отмстить!
И граф, страшась, что он не устоит перед просьбами той, которую он так любил, призывал воспоминания на помощь своей ненависти.
— Так отмстите, Эдмон, — воскликнула несчастная мать, — но отмстите виновным: отмстите ему, отмстите мне, но не мстите моему сыну!
— В Священном писании сказано, — ответил Монте-Кристо — "Вина отцов падет на их детей до третьего и четвертого колена". Если Бог сказал эти слова своему пророку, то почему же мне быть милосерднее Бога?
— Потому, что Бог владеет временем и вечностью, а у человека их нет.
Из груди Монте-Кристо вырвался не то стон, не то рычание, и он схватился за голову, готовый рвать на себе волосы.
— Эдмон, — продолжала Мерседес, простирая руки к графу. — С тех пор как я вас знаю, я преклонялась перед вами, я чтила вашу память. Эдмон, друг мой, не омрачайте этот благородный и чистый образ, навеки запечатленный в моем сердце! Эдмон, если бы вы знали, сколько молитв я вознесла за вас Богу, пока я еще надеялась, что вы живы, и с тех пор, как поверила, что вы умерли! Да, умерли! Увы, я думала, что ваш труп погребен в глубине какой-нибудь мрачной башни, я думала, что ваше тело сброшено на дно какой-нибудь пропасти, куда тюремщики бросают умерших узников, и я плакала! Что могла я сделать для вас, Эдмон, как не молиться и плакать? Послушайте меня: десять лет подряд я каждую ночь видела один и тот же сон. Ходили слухи, будто вы пытались бежать, заняли место одного из заключенных, завернулись в саван покойника, и будто этот живой труп сбросили с высоты замка Иф; и, только услышав крик, который вы испустили, разбиваясь о камни, ваши могильщики, оказавшиеся вашими палачами, поняли подмену. Эдмон, клянусь вам жизнью моего сына, за которого я вас молю, десять лет я каждую ночь видела во сне людей, сбрасывающих что-то неведомое и страшное с вершины скалы; десять лет я каждую ночь слышала ужасный крик, от которого просыпалась, вся дрожа и леденея. И я, Эдмон, поверьте мне, как ни тяжка моя вина, я тоже много страдала!
— А чувствовали ли вы, что ваш отец умирает вдали от вас? — воскликнул Монте-Кристо, по-прежнему схватившись за волосы. — Терзались ли вы мыслью о том, что любимая женщина отдает свою руку вашему сопернику, в то время как вы задыхаетесь на дне пропасти?..
— Нет, — прервала его Мерседес, — но я вижу, что тот, кого я любила, готов стать убийцей моего сына!
Мерседес произнесла эти слова с такой силой горя, с таким отчаянием, что при звуке этих слов у графа вырвалось рыдание.
Лев был укрощен; неумолимый мститель смирился.
— Чего вы требуете? — спросил он. — Чтобы я пощадил жизнь вашего сына? Хорошо, он не умрет.
Мерседес радостно вскрикнула; на глазах Монте-Кристо блеснули две слезы, но тотчас же исчезли; должно быть, Бог послал за ними ангела, ибо перед лицом создателя они были много драгоценнее, чем самый роскошный жемчуг Гуджарата и Офира.
— Благодарю тебя, благ одарю, Эдмон! — воскликнула она, схватив руку графа и поднося ее к губам. — Таким ты всегда грезился мне, таким я всегда любила тебя. Теперь я могу это сказать!
— Тем более, — отвечал Монте-Кристо, — что вам уже недолго любить бедного Эдмона. Мертвец вернется в могилу, призрак вернется в небытие.
— Что вы говорите, Эдмон?
— Я говорю, что, раз вы этого желаете, Мерседес, я должен умереть.
— Умереть? Кто это сказал? Кто говорит о смерти? Откуда у вас опять мысли о смерти?
— Неужели вы думаете, что, оскорбленный публично, при всей зале, в присутствии ваших друзей и друзей вашего сына, вызванный на дуэль мальчиком, который будет гордиться моим прощением как своей победой, неужели вы думаете, что я могу остаться жить? После вас, Мерседес, я больше всего на свете любил самого себя, то есть мое достоинство, ту силу, которая возносила меня над людьми; в этой силе была моя жизнь. Одно ваше слово сломило ее. И я умру.
— Но ведь эта дуэль не состоится, Эдмон, раз вы прощаете.
— Она состоится, сударыня, — торжественно произнес Монте-Кристо, — только вместо крови вашего сына, которая должна была напоить землю, прольется моя.
Мерседес громко вскрикнула и бросилась к Монте-Кристо, но вдруг остановилась.
— Эдмон, — сказала она, — есть Бог на небе, раз вы живы, раз я снова вас вижу, и я уповаю на него всем сердцем своим. В чаянии его помощи я полагаюсь на ваше слово. Вы сказали, что мой сын не умрет, да, Эдмон?
— Да, сударыня, — сказал Монте-Кристо, уязвленный, что Мерседес, не споря, не пугаясь, без возражений приняла жертву, которую он ей принес.
Мерседес протянула графу руку.
— Эдмон, — сказала она, глядя на него полными слез глазами, — как вы великодушны! С каким высоким благородством вы сжалились над несчастной женщиной, которая пришла к вам почти без надежды! Горе состарило меня больше, чем годы, и я ни улыбкой, ни взглядом уже не могу напомнить моему Эдмону ту Мерседес, которой он некогда так любовался. Верьте, Эдмон, я тоже много выстрадала; тяжело чувствовать, что жизнь проходит, а в памяти не остается ни одного радостного мгновения и не сохранилось ни единой надежды, но не все кончается с земной жизнью. Нет, не все кончается с нею, я это чувствую всем, что еще не умерло в моем сердце. Повторяю вам, Эдмон, это прекрасно, это благородно, это великодушно— простить так, как вы простили!
— Вы это говорите, Мерседес, и все же вы не знаете всей тяжести моей жертвы. Что, если бы Всевышний, создав мир, оплодотворив хаос, не завершил сотворения мира, дабы уберечь ангела от тех слез, которые наши злодеяния должны были исторгнуть из его бессмертных очей? Что, если бы, все обдумав, все создав, готовый возрадоваться своему творению, Бог погасил солнце и столкнул мир в вечную ночь? Вообразите это, и вы поймете, — нет, вы и тогда не поймете, что я теряю, расставаясь сейчас с жизнью.
Мерседес взглянула на графа с изумлением, восторгом и благодарностью.
Монте-Кристо опустил голову на руки, словно его чело изнемогало под тяжестью его мыслей.
— Эдмон, — сказала Мерседес, — мне остается сказать вам одно только слово.
Граф горько улыбнулся.
— Эдмон, — продолжала она, — вы увидите, что, если лицо мое поблекло, глаза потухли, красота исчезла — словом, если Мерседес ни одной чертой лица не напоминает прежнюю Мерседес, сердце ее все то же!.. Прощайте, Эдмон; мне больше нечего просить у Неба… Я снова увидела вас благородным и великодушным, как прежде. Прощайте, Эдмон… прощайте, да благословит вас Бог!
Но граф ничего не ответил.
Мерседес отворила дверь кабинета и скрылась раньше, чем он очнулся от глубокого и горестного раздумья, в которое повергла его рухнувшая мечта о мести.
Часы Дома инвалидов пробили час, когда граф де Монте-Кристо, услышав шум кареты, уносившей г-жу де Морсер по Елисейским полям, поднял голову.
— Безумец, — сказал он, — зачем в тот день, когда я решил мстить, не вырвал я сердца из своей груди!
XIII
ДУЭЛЬ
После отъезда Мерседес дом Монте-Кристо снова погрузился во мрак. Вокруг него и в нем самом все замерло; его деятельный ум охватило оцепенение, как охватывает сон безмерно усталое тело.
— Неужели! — говорил он себе, меж тем как лампа и свечи грустно догорали, а в прихожей с нетерпением ждали сонные слуги. — Неужели это здание, которое так долго строилось, которое воздвигалось с такой заботой и с таким трудом, рухнуло в один миг, от одного слова, от дуновения! Я, который так высоко себя ценил, который так гордился собой, который был жалким ничтожеством в темнице замка Иф и достиг величайшего могущества, завтра превращусь в горсть праха! Увы, мне жаль не жизни плоти: не есть ли смерть тот отдых, к которому все стремится, которого жаждут все страждущие, тот покой материи, о котором я так долго вздыхал, навстречу которому я шел по мучительному пути голода, когда в моей темнице появился Фариа? Что для меня смерть? Чуть больше покоя, чуть больше тишины. Нет, мне жаль не жизни, я сожалею о крушении моих замыслов, так медленно зревших, так тщательно воздвигавшихся. Стало быть, Провидение отвергло их, а я мнил, что они угодны ему! Значит, Бог не дозволил, чтобы они исполнились!
Это бремя, которое я поднял, тяжелое, как мир, и которое я думал донести до конца, отвечало моим желаниям, но не моим силам, отвечало моей воле, но было не в моей власти, и мне приходится бросить его на полпути. Итак, мне снова придется стать фаталистом, мне, которого четырнадцать лет отчаяния и десять лет надежды научили постигать Провидение!
И все это, Боже мой, лишь потому, что мое сердце, которое я считал мертвым, только оледенело, потому что оно проснулось, потому что оно забилось, потому что я не выдержал мучительного биения этого сердца, воскресшего в моей груди при звуке женского голоса!
Но не может быть, — продолжал граф, все сильнее растравляя свое воображение картиной предстоящего поединка, на что так легко согласилась Мерседес, — не может быть, чтобы женщина с таким благородным сердцем хладнокровно обрекла меня на смерть, меня, полного жизни и сил! Не может быть, чтобы она так далеко зашла в своей материнской любви, или, вернее, в материнском безумии! Есть добродетели, которые, переходя границы, обращаются в порок. Нет, она, наверное, разыграет какую-нибудь трогательную сцену, она бросится между нами, и то, что здесь было исполнено величия, на месте поединка будет смешно.
И лицо графа покрылось краской оскорбленной гордости.
— Смешно, — повторил он, — и смешным окажусь я… Я — смешным! Нет, лучше умереть.
Так, рисуя себе самыми мрачными красками все то, на что он обрек себя, обещав Мерседес жизнь ее сына, граф повторял:
— Глупо, глупо, глупо — разыгрывать великодушие, изображая неподвижную мишень для пистолета этого мальчишки! Никогда он не поверит, что моя смерть была самоубийством, между тем честь моего имени (ведь это не тщеславие, Господи, а только справедливая гордость!) — честь моего имени требует, чтобы люди знали, что я сам, по собственной воле, никем не понуждаемый, согласился остановить уже занесенную руку и что этой рукой, столь грозной для других, я поразил самого себя. Так нужно, и так будет.
И, схватив перо, он достал из потайного ящика письменного стола свое завещание, составленное им после прибытия в Париж, и сделал приписку, из которой даже и наименее прозорливые люди могли понять истинную причину его смерти.
— Я делаю это, Господи, — сказал он, подняв к небу глаза, — столько же ради тебя, сколько ради себя. Десять лет я смотрел на себя как на орудие твоего отмщения, и нельзя, чтобы и другие негодяи, помимо этого Морсера, Д англ ара, Вильфора, да и сам Морсер вообразили, будто счастливый случай избавил их от врага. Пусть они, напротив, знают, что Провидение, которое уже уготовало им возмездие, было остановлено только силой моей воли; что кара, которой они избегли здесь, ждет их на том свете и что для них только время заменилось вечностью.
В то время как он терзался этими мрачными сомнениями, тяжелым забытьем человека, которому страдания не дают уснуть, в оконные стекла начал пробиваться рассвет и озарил лежавшую перед графом бледно-голубую бумагу, на которой он только что начертал эти предсмертные слова, оправдывающие Провидение.
Было пять часов утра.
Вдруг до его слуха донесся слабый стон. Монте-Кристо почудился как бы подавленный вздох; он обернулся, посмотрел кругом и никого не увидел. Но вздох так явственно повторился, что его сомнения перешли в уверенность.
Тогда граф встал, бесшумно открыл дверь в гостиную и увидел в кресле Гайде; руки ее бессильно повисли, прекрасное бледное лицо было запрокинуто; она пододвинула свое кресло к двери, чтобы он не мог выйти из комнаты, не заметив ее, но сон, необоримый сон молодости, сломил ее после томительного бдения.
Она не проснулась, когда Монте-Кристо открыл дверь.
Он остановил на ней взгляд, полный нежности и сожаления.
— Она помнила о своем сыне, — сказал он, — а я забыл о своей дочери!
Он грустно покачал головой.
— Бедная Гайде, — сказал он, — она хотела меня видеть, хотела говорить со мной, она догадывалась и боялась за меня… Я не могу уйти, не простившись с ней, не могу умереть, не поручив ее кому-нибудь.
И он тихо вернулся на свое место и приписал внизу, под предыдущими строчками:
"Я завещаю Максимилиану Моррелю, капитану спаги, сыну моего бывшего хозяина, Пьера Морреля, судовладельца в Марселе, капитал в двадцать миллионов, часть которых он должен отдать своей сестре Жюли и своему зятю Эмманюелю, если он, впрочем, не думает, что такое обогащение может повредить их счастью. Эти двадцать миллионов спрятаны в моей пещере на острове Монте-Кристо, вход в которую известен Бертуччо.
Если его сердце свободно и он захочет жениться на Гайде, дочери Али, янинского паши, которую я воспитал как любящий отец, и которая любила меня как нежная дочь, то он исполнит не мою последнюю волю, но мое последнее желание.
По настоящему завещанию Гайде является наследницей всего остального моего имущества, которое заключается в землях, государственных бумагах Англии, Австрии и Голландии, а равно в обстановке моих дворцов и домов, и которое, за вычетом этих двадцати миллионов, так же, как и сумм, завещанных моим слугам, равняется приблизительно шестидесяти миллионам".
Когда он дописывал последнюю строчку, за его спиной раздался слабый возглас, и он выронил перо.
— Гайде, — сказал он, — ты прочла?
Да, молодую невольницу разбудил луч рассвета, коснувшийся ее век. Она встала и подошла к графу своими неслышными легкими шагами по мягкому ковру.
— Господин мой, — сказала она, с мольбой складывая руки, — почему ты это пишешь в такой час? Почему завещаешь ты мне все свои богатства? Разве ты покидаешь меня?
— Я пускаюсь в дальний путь, ангел мой, — сказал Монте-Кристо с выражением бесконечной печали и нежности, — и если бы со мной что-нибудь случилось…
Граф замолк.
— Что тогда?.. — спросила девушка так властно, как никогда не говорила со своим господином, и он даже вздрогнул.
— Я хочу, чтобы моя дочь была счастлива, что бы со мной ни случилось, — сказал он.
Гайде печально улыбнулась и медленно покачала головой.
— Ты думаешь о смерти, господин мой, — сказала она.
— Это спасительная мысль, дитя мое, сказал мудрец.
— Если ты умрешь, — отвечала она, — завещай свои богатства другим, потому что, если ты умрешь… мне никаких богатств не нужно.
И, взяв в руки завещание, она разорвала его и бросила обрывки на пол. После этой вспышки, столь необычайной для невольницы, она без чувств упала на ковер.
Монте-Кристо нагнулся, поднял ее на руки, и, глядя на это прекрасное, побледневшее лицо, на сомкнутые длинные ресницы, на недвижимое, беспомощное тело, он впервые подумал, что, быть может, она любит его не только как дочь.
— Быть может, — прошептал он с глубокой печалью, — я еще узнал бы счастье!
Он отнес бесчувственную Гайде в ее комнаты и поручил ее заботам служанок. Вернувшись в свой кабинет, дверь которого он на этот раз быстро запер за собой, он снова написал завещание.
Не успел он кончить, как послышался стук кабриолета, въезжающего во двор. Монте-Кристо подошел к окну и увидел Максимилиана и Эмманюеля.
— Отлично, — сказал он, — я кончил как раз вовремя.
И он запечатал завещание тремя печатями.
Минуту спустя он услышал в гостиной шаги и пошел отпереть дверь.
Вошел Моррель.
Он приехал на двадцать минут раньше назначенного времени.
— Быть может, я приехал немного рано, граф, — сказал он, — но признаюсь вам откровенно, что не мог заснуть ни на минуту, как и мои домашние. Я должен был увидеть вас, вашу спокойную уверенность, чтобы снова стать самим собою.
Монте-Кристо был тронут этой сердечной привязанностью и, вместо того чтобы протянуть Максимилиану руку, заключил его в свои объятия.
— Моррель, — сказал он, — сегодня для меня прекрасный день, потому что я почувствовал, что такой человек, как вы, любит меня. Здравствуйте, Эмманюель. Так вы едете со мной, Максимилиан?
— Черт возьми! — воскликнул молодой капитан. — Неужели вы могли в этом сомневаться?
— А если я неправ…
— Я видел всю вчерашнюю сцену, я всю ночь вспоминал ваше самообладание, и я сказал себе, что, если только можно верить человеческому лицу, правда на вашей стороне.
— Но ведь Альбер ваш друг.
— Просто знакомый.
— Вы с ним познакомились в тот же день, что со мной?
— Да, это верно, но вы сами видите, если бы вы не сказали об этом сейчас, я бы и не вспомнил.
— Благодарю вас, Моррель.
И граф позвонил.
— Вели отнести это к моему нотариусу, — сказал он тотчас же явившемуся Али. — Это мое завещание, Моррель. После моей смерти вы с ним ознакомитесь.
— После вашей смерти? — воскликнул Моррель. — Что это значит?
— Надо все предусмотреть, мой друг. Но что вы делали вчера вечером, когда мы расстались?
— Я отправился к Тортони и застал там, как и рассчитывал, Бошана и Шато-Рено. Сознаюсь вам, что я их разыскивал.
— Зачем же, раз все уже было условлено?
— Послушайте, граф, дуэль серьезная и неизбежная.
— Разве вы в этом сомневались?
— Нет. Оскорбление было нанесено публично, и все уже говорят о нем.
— Так что же?
— Я надеялся уговорить их выбрать другое оружие, заменить пистолет шпагой. Пуля слепа.
— Вам это удалось? — быстро спросил Монте-Кристо с едва уловимой искрой надежды.
— Нет, потому что всем известно, как вы владеете шпагой.
— Вот как! Кто же меня выдал?
— Учителя фехтования, которых вы превзошли.
— И вы потерпели неудачу?
— Они наотрез отказались.
— Моррель, — сказал граф, — вы когда-нибудь видели, как я стреляю из пистолета?
— Никогда.
— Так посмотрите, время у нас есть.
Монте-Кристо взял пистолеты, которые держал в руках, когда вошла Мерседес, и, приклеив туза треф к доске, он четырьмя выстрелами последовательно пробил три листа и ножку трилистника.
При каждом выстреле Моррель все больше бледнел.
Он рассмотрел пули, которыми Монте-Кристо проделал это чудо, и увидел, что они не больше крупных дробинок.
— Это страшно, — сказал он, — взгляните, Эмманюель!
Затем он повернулся к Монте-Кристо.
— Граф, — сказал он, — ради всего святого, не убивайте Альбера! Ведь у несчастного юноши есть мать!
— Это верно, — сказал Монте-Кристо, — а у меня ее нет.
Эти слова он произнес таким тоном, что Моррель содрогнулся.
— Ведь оскорбленный — вы.
— Разумеется, но что вы этим хотите сказать?
— Это значит, что вы стреляете первый.
— Я стреляю первый?
— Да, я этого добился, или, вернее, потребовал; мы уже достаточно сделали им уступок, и им пришлось согласиться.
— А расстояние?
— Двадцать шагов.
На губах графа мелькнула страшная улыбка.
— Моррель, — сказал он, — не забудьте того, чему сейчас были свидетелем.
— Вот почему, — сказал Моррель, — я только и надеюсь на то, что ваше волнение спасет Альбера.
— Мое волнение? — спросил Монте-Кристо.
— Или ваше великодушие, мой друг; зная, что вы стреляете без промаха, я могу сказать вам то, что было бы смешно говорить другому.
— А именно?
— Попадите ему в руку или еще куда-нибудь, но не убивайте его.
— Слушайте, Моррель, что я вам скажу, — отвечал граф, — вам незачем уговаривать меня пощадить Морсера; он будет пощажен, и даже так, что спокойно отправится со своими друзьями домой, тогда как я…
— Тогда как вы?..
— А это дело другое, меня понесут на носилках.
— Что вы говорите, граф! — вне себя воскликнул Максимилиан.
— Да, дорогой Моррель, Морсер меня убьет.
Моррель смотрел на графа в полном недоумении.
— Что с вами произошло этой ночью, граф?
— То, что произошло с Брутом накануне сражения при Филиппах: я видел призрак.
— И?..
— И этот призрак сказал мне, что я достаточно жил на этом свете.
Максимилиан и Эмманюель обменялись взглядом. Монте-Кристо вынул часы.
— Едем, — сказал он, — пять минут восьмого, а дуэль назначена ровно в восемь.
Проходя по коридору, Монте-Кристо остановился у одной из дверей, и Максимилиану и Эмманюелю, которые, не желая быть нескромными, прошли немного вперед, показалось, что они слышат рыдание и ответный вздох.
Экипаж был уже подан. Монте-Кристо сел вместе со своими секундантами.
Ровно в восемь они были на условленном месте.
— Вот мы и приехали, — сказал Моррель, высовываясь в окно кареты, — и притом первые.
— Прошу прощения, сударь, — сказал Батистен, в невыразимом ужасе сопровождавший своего хозяина, — но мне кажется, что вон там под деревьями стоит экипаж.
Монте-Кристо легко выпрыгнул из кареты и подал руку Эмманюелю и Максимилиану, чтобы помочь им выйти.
Максимилиан удержал руку графа в своих.
— Слава Богу, — сказал он, — такая рука должна быть у человека, который, в сознании своей правоты, спокойно ставит на карту свою жизнь.
— В самом деле, — сказал Эмманюель, — вон там прогуливаются двое молодых людей и, по-видимому, кого-то ждут.
Монте-Кристо отвел Морреля на несколько шагов в сторону.
— Максимилиан. — спросил он, — свободно ли ваше сердце?
Моррель изумленно взглянул на Монте-Кристо.
— Я не жду от вас признания, дорогой друг, я просто спрашиваю; ответьте мне, да или нет; это все, о чем я вас прошу.
— Я люблю, граф.
— Сильно любите?
— Больше жизни.
— Еще одной надеждой меньше, — сказал Монте-Кристо со вздохом. — Бедная Гайде.
— Право, граф, — воскликнул Моррель, — если бы я вас меньше знал, я мог бы подумать, что вам недостает мужества.
— Почему? Потому что я вздыхаю, расставаясь с дорогим мне существом? Вы солдат, Моррель, вы должны бы лучше знать, что такое храбрость. Разве я жалею о жизни? Не все ли мне равно — жить или умереть, — мне, который провел двадцать лет между жизнью и смертью. Впрочем, не беспокойтесь, Моррель: эту слабость, если это слабость, видите только вы один. Я знаю, что мир — это гостиная, из которой надо уметь уйти учтиво и прилично, раскланявшись со всеми и заплатив свои карточные долги.
— Ну, в добрый час, — сказал Моррель, — вот это хорошо сказано. Кстати, вы привезли пистолеты?
— Я? Зачем? Я надеюсь, что эти господа привезли свои.
— Пойду узнаю, — сказал Моррель.
— Хорошо, но только никаких переговоров, вы меня поняли?
— Будьте спокойны.
Моррель направился к Бошану и Шато-Рено. Те, увидав, что Моррель идет к ним, сделали ему навстречу несколько шагов.
Молодые люди раскланялись друг с другом, если и не приветливо, то со всей учтивостью.
— Простите, господа, — сказал Моррель, — но я не вижу господина де Морсера.
— Сегодня утром, — ответил Шато-Рено, — он послал предупредить нас, что встретится с нами на месте дуэли.
— Вот как, — заметил Моррель.
Бошан посмотрел на часы.
— Пять минут девятого; это еще не поздно, господин Моррель, — сказал он.
— Я вовсе не это имел в виду, — возразил Максимилиан.
— Да вот, кстати, и карета, — прервал Шато-Рено.
По одной из аллей, сходившихся у перекрестка, где они стояли, мчался экипаж.
— Господа, — сказал Моррель, — я надеюсь, вы позаботились привезти с собой пистолеты? Господин де Монте-Кристо заявил мне, что отказывается от своего права воспользоваться своими.
— Мы предвидели такую деликатность графа, — отвечал Бошан, — и я привез пистолеты, которые купил с неделю тому назад, предполагая, что они мне понадобятся. Они совершенно новые и еще ни разу не были в употреблении. Не желаете ли их осмотреть?
— Раз вы говорите, что господин де Морсер с этими пистолетами не знаком, — с поклоном ответил Моррель, — то мне, разумеется, достаточно вашего слова.
— Господа, — сказал Шато-Рено, — это совсем не Морсер приехал. Смотрите-ка!
В самом деле, к ним приближались Франц и Дебрэ.
— Каким образом вы здесь, господа? — сказал Шато-Рено, пожимая обоим руки.
— Мы здесь потому, — сказал Дебрэ, — что Альбер сегодня утром попросил нас приехать на место дуэли.
Бошан и Шато-Рено удивленно переглянулись.
— Господа, — сказал Моррель, — я, кажется, понимаю, в чем дело.
— Так скажите.
— Вчера днем я получил от господина де Морсера письмо, в котором он просил меня быть вечером в Опере.
— И я, — сказал Дебрэ.
— И я, — сказал Франц.
— И мы, — сказали Шато-Рено и Бошан.
— Он хотел, чтобы вы присутствовали при вызове, — сказал Моррель. — Теперь он хочет, чтобы вы присутствовали при дуэли.
— Да, — сказали молодые люди, — это так и есть; господин Моррель, по-видимому, вы угадали.
— Однако же Альбер не едет, — пробормотал Шато-Рено, — он уже опоздал на десять минут.
— А вот и он, — сказал Бошан, — верхом; смотрите, мчится во весь опор, и с ним слуга.
— Какая неосторожность, — сказал Шато-Рено, — верхом перед дуэлью на пистолетах! А сколько я его наставлял!
— И, кроме того, посмотрите, — сказал Бошан, — воротник с галстуком, открытый сюртук, белый жилет; почему он заодно не нарисовал себе кружок на животе — и проще, и скорее!
Тем временем Альбер был уже в десяти шагах от них; он остановил лошадь, спрыгнул на землю и бросил поводья слуге.
И вот он подошел.
Он был бледен, веки его покраснели и припухли. Видно было, что он всю ночь не спал.
На его лице было серьезное и печальное выражение, ему совершенно несвойственное.
— Благодарю вас, господа, — сказал он, — что вы откликнулись на мое приглашение; поверьте, что я крайне признателен вам за это дружеское внимание.
Моррель стоял поодаль; как только Морсер появился, он отошел в сторону.
— Благодарю и вас также, господин Моррель, — сказал Альбер. — Подойдите поближе, прошу вас, вы здесь не лишний.
— Сударь, — сказал Максимилиан, — вам, быть может, неизвестно, что я секундант господина де Монте-Кристо?
— Я так и предполагал. Тем лучше! Чем больше здесь достойных людей, тем мне приятнее.
— Господин Моррель, — сказал Шато-Рено, — вы можете объявить графу де Монте-Кристо, что господин де Морсер прибыл и что мы в его распоряжении.
Моррель повернулся, чтобы исполнить это поручение.
Бошан в это время доставал из экипажа ящик с пистолетами.
— Подождите, господа, — сказал Альбер, — мне надо сказать два слова графу де Монте-Кристо.
— Наедине? — спросил Моррель.
— Нет, при всех.
Секунданты Альбера изумленно переглянулись; Франц и Дебрэ обменялись вполголоса несколькими словами, а Моррель, обрадованный этой неожиданной задержкой, подошел к графу, который вместе с Эмманюелем расхаживал по аллее.
— Что ему от меня нужно? — спросил Монте-Кристо.
— Право, не знаю, но он хочет говорить с вами.
— Лучше пусть он не искушает Бога каким-нибудь новым оскорблением! — сказал Монте-Кристо.
— Я не думаю, чтобы у него было такое намерение, — возразил Моррель.
Граф в сопровождении Максимилиана и Эмманюеля направился к Альберу. Его спокойное и ясное лицо было полной противоположностью взволнованному лицу Альбера, который шел ему навстречу, сопровождаемый своими друзьями.
В трех шагах друг от друга Альбер и граф остановились.
— Господа, — сказал Альбер, — подойдите ближе, я хочу, чтобы не пропало ни одно слово из того, что я буду иметь честь сказать господину графу де Монте-Кристо, ибо все, что я буду иметь честь ему сказать, должно быть повторено вами всякому, кто этого пожелает, как бы вам ни казались странными мои слова.
— Я вас слушаю, сударь, — сказал Монте-Кристо.
— Граф, — начал Альбер, и его голос, вначале дрожавший, становился более уверенным, по мере того как он говорил. — Я обвинял вас в том, что вы разгласили поведение господина де Морсера в Эпире, потому что, как бы ни был виновен граф де Морсер, я все же не считал вас вправе наказывать его. Но теперь я знаю, что вы имеете на это право. Не предательство, в котором Фернан Мондего повинен перед Али-пашой, оправдывает вас в моих глазах, а предательство, в котором рыбак Фернан повинен перед вами, и те неслыханные несчастья, которые явились следствием этого предательства. И потому я говорю вам и заявляю во всеуслышание: да, сударь, вы имели право мстить моему отцу, и я, его сын, благодарю вас за то, что вы не сделали большего!
Если бы молния ударила в свидетелей этой неожиданной сцены, она ошеломила бы их меньше, чем заявление Альбера.
Монте-Кристо медленно поднял к небу глаза с выражением беспредельной признательности. Он не мог надивиться, как пылкий Альбер, показавший себя таким храбрецом среди римских разбойников, пошел на это неожиданное унижение. И он узнал влияние Мерседес и понял, почему ее благородное сердце не воспротивилось его предполагавшейся жертве.
— Теперь, сударь, — сказал Альбер, — если вы считаете достаточными те извинения, которые я вам принес, прошу вас, — вашу руку. После непогрешимости, редчайшего достоинства, которым обладаете вы, величайшим достоинством я считаю умение признать свою неправоту. Но это признание — мое личное дело. Я поступал правильно, с человеческой точки зрения, но вы — вы поступили по Божьей воле. Только ангел мог спасти одного из нас от смерти, и этот ангел спустился на землю не для того, чтобы мы стали друзьями, — к несчастью, это невозможно, — но для того, чтобы мы остались людьми, уважающими друг друга.
Монте-Кристо со слезами на глазах, тяжело дыша, протянул Альберу руку, которую тот схватил и пожал чуть ли не с благоговением.
— Господа, — сказал он, — граф де Монте-Кристо согласен принять мои извинения. Я поступил по отношению к нему опрометчиво. Опрометчивость — плохой советчик. Я поступил дурно. Теперь я загладил свою вину. Надеюсь, что люди не сочтут меня трусом за то, что я поступил так, как мне велела совесть. Но, во всяком случае, если мой поступок будет превратно понят, — прибавил он, гордо поднимая голову и как бы посылая вызов всем своим друзьям и недругам, — я постараюсь изменить их мнение обо мне.
— Что такое произошло сегодня ночью? — спросил Бошан Шато-Рено. — По-моему, наша роль здесь незавидна.
— Действительно, то, что сделал Альбер, либо очень низко, либо очень благородно, — ответил барон.
— Что все это значит? — сказал Дебрэ, обращаясь к Францу. — Как! Граф де Монте-Кристо опозорил Морсера, а его сын находит, что обидчик прав! Да если бы в моей семье было десять Янин, я бы знал только одну обязанность: драться десять раз.
А Монте-Кристо, поникнув головой, бессильно опустив руки, подавленный тяжестью двадцатичетырехлетних воспоминаний, не думал ни об Альбере, ни о Бошане, ни о Шато-Рено, ни о ком из присутствующих; он думал о смелой женщине, которая пришла к нему молить его о жизни сына, которой он предложил свою и которая спасла ее ценой страшного признания, открыв семейную тайну, быть может навсегда убившую в этом юноше чувство сыновней любви.
— Опять рука Провидения! — прошептал он. — Да, только теперь я уверовал, что я послан Богом!
XIV
МАТЬ И СЫН
Граф де Монте-Кристо с печальной и полной достоинства улыбкой откланялся молодым людям и сел в свой экипаж вместе с Максимилианом и Эмманюелем.
Альбер, Бошан и Шато-Рено остались одни на поле битвы.
Альбер смотрел на своих секундантов испытующим взглядом, который, хоть и не выражал робости, казалось, все же спрашивал их мнение о том, что произошло.
— Поздравляю, дорогой друг, — первым заговорил Бошан, потому ли, что он был отзывчивее других, потому ли, что в нем было меньше притворства, — вот совершенно неожиданная развязка неприятной истории.
Альбер, озабоченный своими мыслями, не ответил.
Шато-Рено похлопывал по ботфорту своей гибкой тросточкой.
— Не пора ли нам ехать? — прервал он наконец неловкое молчание.
— Как хотите, — отвечал Бошан, — разрешите мне только выразить Морсеру свое восхищение; он выказал сегодня рыцарское великодушие… столь редкое в наше время!
— Да, — сказал Шато-Рено.
— Можно только удивляться такому самообладанию, — продолжал Бошан.
— Несомненно, во всяком случае, я был бы на это неспособен, — сказал Шато-Рено с недвусмысленной холодностью.
— Господа, — прервал Альбер, — мне кажется, вы не поняли, что между графом де Монте-Кристо и мной произошло нечто не совсем обычное…
— Нет, нет, напротив, — возразил Бошан, — но наши сплетники едва ли сумеют оценить ваш героизм, и, рано или поздно, вы будете вынуждены разъяснить им свое поведение, и притом столь энергично, что это может оказаться во вред вашему здоровью и долголетию. Дать вам дружеский совет? Уезжайте в Неаполь, Гаагу или Санкт-Петербург— места спокойные, где более разумно смотрят на вопросы чести, чем в нашем сумасбродном Париже. А там поусерднее упражняйтесь в стрельбе из пистолета и в фехтовании. Через несколько лет вас основательно забудут, либо слава о вашем боевом искусстве дойдет до Парижа, и тогда мирно возвращайтесь во Францию. Вы согласны со мной, Шато-Рено?
— Вполне разделяю ваше мнение, — сказал барон. — За несостоявшейся дуэлью обычно следуют дуэли весьма серьезные.
— Благодарю вас, господа, — сухо ответил Альбер, — я принимаю ваш совет не потому, что вы мне его дали, но потому, что я все равно решил покинуть Францию. Благодарю вас также за то, что вы согласились быть моими секундантами. Судите сами, как высоко я ценю эту услугу, если, выслушав ваши слова, я помню только о ней.
Шато-Рено и Бошан переглянулись. Слова Альбера произвели на обоих одинаковое впечатление, а тон, которым он высказал свою благодарность, звучал так решительно, что все трое очутились бы в неловком положении, если бы этот разговор продолжался.
— Прощайте, Альбер! — заторопившись, сказал Бошан и небрежно протянул руку, но Альбер, по-видимому, глубоко задумался; во всяком случае, он ничем не показал, что видит эту протянутую руку.
— Прощайте, — в свою очередь сказал Шато-Рено, держа левой рукой свою тросточку и делая правой прощальный жест.
— Прощайте, — сквозь зубы пробормотал Альбер.
Но взгляд его был более выразителен: в нем была целая гамма сдержанного гнева, презрения, негодования.
После того как секунданты сели в экипаж и уехали, он еще некоторое время стоял задумавшись, затем стремительно отвязал свою лошадь от деревца, вокруг которого слуга замотал ее поводья, легко вскочил в седло и поскакал к Парижу. Четверть часа спустя он уже входил в особняк на улице Эль дер.
Когда он спешивался, ему показалось, что за оконной занавеской отцовской спальни мелькнуло бледное лицо графа де Морсера. Он со вздохом отвернулся и прошел в свой флигель.
С порога он окинул последним взглядом всю эту роскошь, которая с самого детства услаждала его жизнь, и в последний раз взглянул на свои картины. Лица на полотнах, казалось, улыбались ему, а пейзажи словно вспыхнули живыми красками.
Затем он снял с дубового подрамника портрет своей матери и свернул его, оставив золоченую раму пустой.
После этого он привел в порядок свои прекрасные турецкие сабли, свои великолепные английские ружья, японский фарфор, отделанные серебром чаши, художественную бронзу с подписями Фёшера и Бари; осмотрел шкафы и проверил, есть ли при каждом ключ; бросил в ящик стола, оставив его открытым, все свои карманные деньги, прибавив к ним множество драгоценных безделушек, которыми были полны чаши, шкатулки, этажерки; составил точную опись всего и положил ее на самое видное место одного из столов, убрав с этого стола загромождавшие его книги и бумаги.
В начале этой работы, вопреки приказанию Альбера не беспокоить его, в комнату вошел камердинер.
— Что вам нужно? — спросил его Альбер, скорее грустно, чем сердито.
— Прошу прощения, сударь, — отвечал камердинер, — правда, вы запретили мне беспокоить вас, но меня зовет граф де Морсер.
— Ну так что же? — спросил Альбер.
— Я не посмел отправиться к графу без вашего разрешения.
— Почему?
— Потому что граф, вероятно, знает, что я сопровождал вас на место дуэли.
— Возможно, — сказал Альбер.
— И он меня зовет, наверное, чтобы узнать, что там произошло. Что прикажете ему ответить?
— Правду.
— Так я должен сказать, что дуэль не состоялась?
— Вы скажете, что я извинился перед графом де Монте-Кристо; ступайте.
Камердинер поклонился и вышел.
Альбер снова принялся за опись.
Когда он уже заканчивал свою работу, его внимание привлек топот копыт во дворе и стук колес, от которого задребезжали стекла. Он подошел к окну и увидел, что его отец сел в коляску и уехал.
Не успели ворота особняка закрыться за графом, как Альбер направился в комнаты своей матери; не найдя никого, чтобы доложить о себе, он прошел прямо в спальню Мерседес и остановился на пороге, взволнованный тем, что он предугадал и увидел.
Словно у матери и сына была одна душа: Мерседес была занята тем же, чем только что был занят Альбер.
Все было убрано; кружева, драгоценности, украшения, белье, деньги — все уложено по шкафам, и Мерседес тщательно подбирала к ним ключи.
Альбер увидел эти приготовления; он все понял и, воскликнув: "Мама!", кинулся на шею Мерседес.
Художник, который сумел бы передать выражение их лиц в эту минуту, создал бы прекрасную картину.
Готовясь к смелому шагу, Альбер не страшился за себя, но приготовления матери испугали его.
— Что вы делаете? — спросил он.
— А что делал ты? — ответила она.
— Но я — другое дело, мама! — воскликнул Альбер, задыхаясь от волнения. — Не может быть, чтобы вы приняли такое же решение, потому что я покидаю этот дом и… и я пришел проститься с вами.
— И я тоже, Альбер, — отвечала Мерседес, — я тоже уезжаю. Признаться, я надеялась, что мой сын будет сопровождать меня, — неужели я ошиблась?
— Матушка, — твердо сказал Альбер, — я не могу позволить вам разделить ту участь, которую избрал для себя; отныне у меня не будет ни имени, ни денег; жизнь моя будет трудная, мне придется вначале принять помощь кого-нибудь из друзей, пока я сам не заработаю свой кусок хлеба. Поэтому я сейчас иду к Францу и попрошу его ссудить меня той небольшой суммой, которая, по моим расчетам, мне понадобится.
— Бедный мальчик, — воскликнула Мерседес,—
ты — и нищета, голод! Не говори этого, ты заставишь меня отказаться от моего решения!
— Но я не откажусь от своего, — отвечал Альбер. — Я молод, я силен и, надеюсь, храбр, а вчера я узнал, что значит твердая воля. Есть люди, которые безмерно страдали— и они не умерли, но построили себе новую жизнь на развалинах того счастья, которое им сулило Небо, на обломках своих надежд! Я узнал это, матушка, я видел этих людей; я знаю, что из глубины той бездны, куда их бросил враг, они поднялись полные такой силы и окруженные такой славой, что восторжествовали над своим победителем и сами сбросили его в бездну. Нет, отныне я рву со своим прошлым и ничего от него не беру, даже имени, потому что — поймите меня — ваш сын не может носить имени человека, который должен краснеть перед людьми.
— Альбер, сын мой, — сказала Мерседес, — будь я сильнее духом, я сама бы дала тебе этот совет; мой слабый голос молчал, но твоя совесть заговорила. Слушайся голоса твоей совести, Альбер. У тебя были друзья — порви на время с ними, но, во имя твоей матери, не отчаивайся! В твои годы жизнь еще прекрасна, милый, и так как человеку с таким чистым сердцем, как твое, нужно незапятнанное имя, возьми себе имя моего отца; его звали Эррера. Я знаю тебя, мой Альбер: какое бы поприще ты ни избрал, ты скоро прославишь это имя. Тогда, мой друг, вернись в Париж, и перенесенные страдания еще больше возвеличат тебя. Но если, вопреки моим чаяниям, тебе это не суждено, оставь мне по крайней мере надежду; только этой мыслью я и буду жить, ибо для меня нет будущего, и за порогом этого дома начинается моя смерть.
— Я исполню ваше желание, матушка, — сказал Альбер. — Да, я разделяю ваши надежды: Божий гнев пощадит вашу чистоту и мою невинность… Но раз мы решились, будем действовать. Господин де Морсер уехал из дому с полчаса тому назад; это удобный случай избежать шума и объяснений.
— Я буду ждать тебя, сын мой, — сказала Мерседес.
Альбер выбежал из дому и вернулся с фиакром; он вспомнил о небольшом пансионе на улице Святых Отцов и намеревался снять там скромное, но приличное помещение для матери.
Когда фиакр подъехал к воротам и Альбер вышел, к нему приблизился человек и подал ему письмо.
Альбер узнал Бертуччо.
— От графа, — сказал управляющий.
Альбер взял письмо и вскрыл его.
Кончив читать, он стал искать глазами Бертуччо, но тот исчез.
Тогда Альбер, глубоко взволнованный, со слезами на глазах, вернулся к Мерседес и безмолвно протянул ей письмо.
Мерседес прочла:
"Альбер!
Я угадал намерение, которое Вы сейчас приводите в исполнение, — Вы видите, что и я не чужд душевной чуткости. Вы свободны, Вы покидаете дом графа и увозите с собой свою мать, свободную, как Вы. Но подумайте, Альбер: Вы обязаны ей большим, чем можете ей дать, бедный, благородный юноша! Возьмите на себя борьбу и страдание, но избавьте ее от нищеты, которая Вас неизбежно ждет на первых порах, ибо она не заслуживает даже тени того несчастья, которое ее постигло, и Провидение не допустит, чтобы невинный расплачивался за виновного.
Я знаю, вы оба покидаете дом на улице Эльдер, ничего оттуда не взяв. Не допытывайтесь, как я это узнал. Я знаю, и этого довольно.
Слушайте, Альбер.
Двадцать четыре года тому назад я, радостный и гордый, возвращался на родину. У меня была невеста, Альбер, святая девушка, которую я боготворил, и я вез своей невесте сто пятьдесят луидоров, скопленных неустанной, тяжелой работой. Эти деньги были ее, я ей их предназначал, и, зная, как вероломно море, я зарыл наше сокровище в маленьком садике того дома в Марселе, где жил мой отец, на Мельянских аллеях.
Ваша матушка, Альбер, хорошо знает этот бедный, милый дом.
Не так давно, по дороге в Париж, я был проездом в Марселе. Я пошел взглянуть на этот дом, полный горьких воспоминаний, и вечером, с заступом в руках, я отправился в тот уголок, где зарыл свой клад. Железный ящичек все еще был на том же месте, никто его не тронул. Он зарыт в углу, в тени прекрасной смоковницы, которую в день моего рождения посадил мой отец.
Эти деньги некогда должны были обеспечить жизнь и покой той женщине, которую я боготворил, и ныне, по странной и горестной прихоти случая, они нашли себе то же применение. Поймите меня, Альбер: я мог бы предложить этой несчастной женщине миллионы, но я возвращаю ей лишь кусок хлеба, забытый под моей убогой кровлей в тот самый день, когда меня разлучили с той, кого я любил.
Вы человек великодушный, Альбер, но, может быть, 363 Вас еще ослепляет гордость или обида; если Вы мне откажете, если Вы возьмете от другого то, что я вправе Вам предложить, я скажу, что с Вашей стороны невеликодушно отвергать кусок хлеба для Вашей матери, когда его предлагает человек, чей отец, по вине Вашего отца, умер в муках голода и отчаяния".
Альбер стоял бледный и неподвижный, ожидая решения матери.
Мерседес подняла к небу взгляд, полный непередаваемого чувства.
— Я принимаю, — сказала она, — он имеет право внести мой вклад в монастырь.
И, спрятав на груди письмо, она взяла сына под руку и поступью, более твердой, чем, может быть, сама ожидала, вышла на лестницу.
XV
САМОУБИЙСТВО
Тем временем Монте-Кристо вместе с Эмманюелем и Максимилианом тоже вернулся в город.
Возвращение их было торжествующим: Эмманюель не скрывал своей радости, оттого что сражение не состоялось, и откровенно заявлял о своих миролюбивых вкусах; Моррель, сидя в углу кареты, не мешал зятю изливать свое ликование в словах и молча переживал радость, не менее искреннюю, хоть она и светилась только в его взгляде.
У заставы Трона они встретили Бертуччо. Он ждал их, неподвижный, как часовой на посту.
Монте-Кристо высунулся из окна кареты, вполголоса обменялся с ним несколькими словами, и управляющий быстро удалился.
— Граф, — сказал Эммманюель, когда они подъезжали к Королевской площади, — остановите, пожалуйста, карету у моего дома, чтобы моя жена ни одной лишней минуты не волновалась за вас и за меня.
— Если бы не было смешно кичиться своим торжеством, — сказал Моррель, — я пригласил бы графа зайти к нам, но, вероятно, графу тоже надо успокоить чьи-нибудь тревожно бьющиеся сердца. Вот мы и приехали, Эмманюель, простимся с нашим другом и дадим ему возможность продолжать свой путь.
— Погодите, — сказал Монте-Кристо, — я не хочу лишиться так сразу обоих спутников; идите к вашей прелестной жене и передайте ей от меня поклон и привет, а вы, Моррель, проводите меня до Елисейских полей.
— Чудесно, — сказал Максимилиан, — тем более что мне и самому нужно в вашу сторону, граф.
— Ждать тебя к завтраку? — спросил Эмманюель.
— Нет, — отвечал Максимилиан.
Дверца захлопнулась, и карета покатила дальше.
— Видите, я принес вам счастье, — сказал Моррель, оставшись наедине с графом. — Вы не думали об этом?
— Думал, — сказал Монте-Кристо, — потому-то мне и хотелось бы никогда с вами не расставаться.
— Это просто чудо! — продолжал Моррель, отвечая на собственные мысли.
— Что именно? — спросил Монте-Кристо.
— То, что произошло.
— Да, — отвечал с улыбкой граф, — вы верно сказали, Моррель, это просто чудо!
— Как-никак, — продолжал Моррель, — Альбер — человек храбрый.
— Очень храбрый, — сказал Монте-Кристо, — я сам видел, как он мирно спал, когда над его головой был занесен кинжал.
— А я знаю, что он два раза дрался на дуэли, и дрался очень хорошо; как же все это вяжется с сегодняшним его поведением?
— Это ваше влияние, — улыбаясь, заметил Монте-Кристо.
— Счастье для Альбера, что он не военный! — сказал Моррель.
— Почему?
— Принести извинение у барьера! — и молодой капитан покачал головой.
— Послушайте, Моррель! — мягко сказал граф. — Неужели и вы разделяете предрассудки обыкновенных людей? Ведь согласитесь, что если Альбер храбр, то он не мог сделать это из трусости; у него, несомненно, была причина поступить так, как он поступил сегодня, и, таким образом, его поведение скорее всего можно назвать геройским.
— Да, конечно, — отвечал Моррель, — но я скажу, как говорят испанцы: сегодня он был менее храбр, чем вчера.
— Вы позавтракаете со мной, правда, Моррель? — сказал граф, меняя разговор.
— Нет, я расстанусь с вами в десять часов.
— Вы условились с кем-нибудь завтракать вместе?
Моррель улыбнулся и покачал головой.
— Но ведь где-нибудь позавтракать вам надо.
— Я не голоден, — возразил Максимилиан.
— Мне известны только два чувства, от которых человек лишается аппетита, — заметил граф, — это горе и любовь. Я вижу, к счастью, что вы очень весело настроены, — значит, это не горе… Итак, судя по тому, что вы мне сказали сегодня утром, я позволю себе думать…
— Ну что ж, граф, — весело отвечал Моррель, — я не отрицаю.
— И вы ничего мне об этом не расскажете, Максимилиан? — сказал граф с такой живостью, что было ясно, как бы ему хотелось узнать тайну Морреля.
— Сегодня утром, граф, вы могли убедиться в том, что у меня есть сердце, не так ли?
Вместо ответа Монте-Кристо протянул Моррелю руку.
— Теперь, — продолжал тот, — когда мое сердце уже больше не в Венсенском лесу, с вами, оно в другом месте, и я иду за ним.
— Идите, — медленно сказал граф, — идите, мой друг; но прошу вас, если на вашем пути встретятся препятствия, вспомните о том, что я многое на этом свете могу сделать, что я счастлив употребить свою власть на пользу тем, кого люблю, и что я люблю вас, Моррель.
— Хорошо, — сказал Максимилиан, — я буду помнить об этом, как эгоистичные дети помнят о своих родителях, когда нуждаются в их помощи. Если мне это понадобится, — а возможно, такая минута наступит, — я обращусь к вам за помощью, граф.
— Смотрите, вы дали слово. Так до свидания.
— До свидания.
Они подъехали к дому на Елисейских полях. Монте-Кристо откинул дверцу. Моррель соскочил на мостовую.
На крыльце ждал Бертуччо.
Моррель удалился по авеню Мариньи, а Монте-Кристо быстро пошел навстречу Бертуччо.
— Ну что? — спросил он.
— Она собирается покинуть свой дом, — отвечал управляющий.
— А ее сын?
— Флорантен, его камердинер, думает, что он собирается сделать то же самое.
— Идите за мной.
Монте-Кристо прошел с Бертуччо в свой кабинет, написал известное нам письмо и передал его управляющему.
— Ступайте, — сказал он, — поспешите; кстати, пусть Гайде сообщат, что я вернулся.
— Я здесь, — ответила сама Гайде, которая, услышав, что подъехала карета, уже спустилась вниз и сияла от счастья, видя графа здравым и невредимым.
Бертуччо вышел.
Всю радость нежной дочери, снова увидевшей отца, весь восторг возлюбленной, снова увидевшей любимого, испытала Гайде при этой встрече, которой она ждала с таким нетерпением.
Конечно, и радость Монте-Кристо, хоть и не выказываемая так бурно, была не менее велика; для исстрадавшихся сердец радость подобна росе, падающей на иссушенную зноем землю: сердце и земля впитывают благодатную влагу, но посторонний глаз не заметит этого.
За последние дни Монте-Кристо понял то, во что давно уже не смел поверить: на свете есть две Мерседес, он еще может быть счастлив.
Его пылающий радостью взор жадно погружался в затуманенные глаза Гайде, как вдруг открылась дверь.
Граф нахмурился.
— Господин де Морсер! — доложил Батистен, как будто одно это имя служило ему оправданием.
В самом деле лицо графа прояснилось.
— Который? — спросил он. — Виконт или граф?
— Граф.
— О Боже! Неужели это еще не кончилось? — воскликнула Гайде.
— Не знаю, кончилось ли это, дитя мое, — сказал Монте-Кристо, беря девушку за руки, — но тебе нечего бояться.
— Но ведь этот негодяй…
— Этот человек бессилен против меня, Гайде, — сказал Монте-Кристо, — бояться надо было тогда, когда я имел дело с его сыном.
— Ты никогда не узнаешь, сколько я выстрадала, господин мой, — сказала Гайде.
Монте-Кристо улыбнулся.
— Клянусь тебе могилой моего отца, — сказал он, погладив ее по голове, — если с кем-нибудь и случится несчастье, то, во всяком случае, не со мной.
— Я верю тебе, как Богу, господин мой, — сказала молодая девушка, подставляя графу лоб.
Монте-Кристо запечатлел на этом прекрасном, чистом челе поцелуй, от которого забились два сердца, одно стремительно, другое глухо.
— Боже мой, — прошептал граф, — неужели ты позволишь мне снова полюбить!.. Попросите графа де Морсера б гостиную, — сказал он Батистену, провожая прекрасную гречанку к потайной лестнице.
Нам необходимо объяснить причину этого посещения, которого, быть может, и ждал Монте-Кристо, но, наверное, не ждали наши читатели.
Когда Мерседес, как мы уже говорили, производила у себя нечто вроде описи, сделанной и Альбером, когда она укладывала свои драгоценности, запирала шкафы, собирала в одно место ключи, желая все оставить после себя в полном порядке, она не заметила, что за стеклянной дверью в коридор появилось бледное, мрачное лицо. Тот, кто смотрел через стекло, не будучи сам увиденным и услышанным, мог видеть и слышать все, что происходило у г-жи де Морсер.
Отойдя от этой двери, бледный человек удалился б спальню и поднял судорожно сжатой рукой занавеску окна, выходящего во двор.
Так он стоял минут десять, неподвижный, безмолвный, прислушиваясь к биению собственного сердца. Ему эти десять минут показались вечностью.
Именно тогда Альбер, возвращаясь с места дуэли, заметил в окне своего отца, подстерегавшего его, и отвернулся.
Граф широко раскрыл глаза, он знал, что Альбер нанес Монте-Кристо страшное оскорбление, что во всем мире подобное оскорбление влечет за собою дуэль, в которой одного из противников ожидает смерть. Альбер вернулся живой и невредимый; следовательно, его отец отомщен.
Непередаваемая радость озарила это мрачное лицо, словно последний луч солнца, опускающегося в затянувшие горизонт тучи, как в могилу.
Но, как мы уже сказали, он тщетно ждал, что Альбер поднимется в его комнаты и расскажет о своем торжестве. Что его сын, отправляясь сражаться, не захотел увидеться с отцом, за честь которого он мстил, это было понятно; но почему, отомстив за честь отца, сын не пришел и не бросился в его объятия?
Тогда-то граф, не имея возможности повидать Альбера, послал за его камердинером. Мы знаем, что Альбер велел камердинеру ничего не скрывать от графа.
Десять минут спустя на крыльце появился граф де Морсер, в черном сюртуке с воротником военного образца, в черных панталонах, в черных перчатках. Очевидно, он уже заранее отдал распоряжения, потому что не успел он спуститься с крыльца, как ему подали карету.
Камердинер сейчас же положил в карету плащ, в который были завернуты две шпаги, затем захлопнул дверцу и сел рядом с кучером.
Кучер ждал приказаний.
— На Елисейские поля, — сказал генерал, — к графу де Монте-Кристо. Живо!
Лошади рванулись под ударом бича, и пять минут спустя они остановились у дома графа.
Морсер сам открыл дверцу и, еще на ходу, как юноша, выпрыгнул на аллею, позвонил и вошел вместе со своим камердинером в широко распахнутую дверь.
Через секунду Батистен докладывал о графе де Морсере господину де Монте-Кристо, и тот, проводив Гайде, велел ввести Морсера в гостиную.
Генерал уже третий раз отмеривал шагами длину гостиной, когда, обернувшись, он увидел на пороге Монте-Кристо.
— А, это господин де Морсер! — спокойно сказал Монте-Кристо. — Мне казалось, я ослышался.
— Да, это я, — сказал граф; губы его судорожно кривились, он с трудом выговаривал слова.
— Мне остается узнать, — сказал Монте-Кристо, — чему я обязан удовольствием видеть графа де Морсера в такой ранний час.
— У вас сегодня утром была дуэль с моим сыном, сударь? — спросил генерал.
— Вам это известно? — спросил граф.
— Да, и мне известно также, что у моего сына были веские причины драться с вами и постараться убить вас.
— Действительно, сударь, у него были на это веские причины. Но все же, как видите, он меня не убил и даже не дрался.
— Однако вы в его глазах виновник бесчестья, постигшего его отца, виновник страшного несчастья, которое обрушилось на мой дом.
— Это верно, сударь, — сказал Монте-Кристо с тем же ужасающим спокойствием, — виновник, впрочем, второстепенный, а не главный.
— Вы, очевидно, извинились перед ним или дали какие-нибудь объяснения?
— Я не дал ему никаких объяснений, и извинился не я, а он.
— Но что же, по-вашему, означает его поведение?
— Скорее всего он убедился, что кто-то другой виновнее меня.
— Кто же?
— Его отец.
— Допустим, — сказал Морсер, бледнея, — но вы должны знать, что виновный не любит, когда ему указывают на его вину.
— Я это знаю… Потому я ждал того, что произошло.
— Вы ждали, что мой сын окажется трусом?! — воскликнул граф.
— Альбер де Морсер далеко не трус, — сказал Монте-Кристо.
— Если человек держит в руке шпагу, если перед ним стоит его смертельный враг и он не дерется — значит, он трус! Будь он здесь, я бы сказал ему это в лицо!
— Сударь, — холодно ответил Монте-Кристо, — я не думаю, чтобы вы явились ко мне обсуждать ваши семейные дела. Скажите все это своему сыну, может быть, он найдет, что вам ответить.
— Нет, нет, — возразил генерал с мимолетной улыбкой, — вы совершенно правы, я приехал не для этого! Я приехал вам сказать, что я тоже считаю вас своим врагом! Я инстинктивно ненавижу вас! У меня такое чувство, будто я вас всегда знал и всегда ненавидел! И раз нынешние молодые люди отказываются драться, то драться надлежит нам… Вы согласны со мной, сударь?
— Вполне; поэтому, когда я сказал вам, что я ждал того, что должно произойти, я имел в виду и ваше посещение.
— Тем лучше… Следовательно, вы готовы?
— Я всегда готов.
— Мы будем биться до тех пор, пока один из нас не умрет, понимаете? — сквозь зубы, с яростью сказал генерал.
— Пока один из нас не умрет, — повторил граф де Монте-Кристо, слегка кивнув головой.
— Так едем, секунданты нам не нужны.
— Разумеется, не нужны, — сказал Монте-Крис-то, — мы слишком хорошо знаем друг друга!
— Напротив, — сказал граф, — мы совершенно друг друга не знаем.
— Полноте, — сказал Монте-Кристо с тем же убийственным хладнокровием, — что вы говорите! Разве вы не тот самый солдат Фернан, который дезертировал накануне сражения при Ватерлоо? Разве вы не тот самый лейтенант Фернан, который служил проводником и шпионом французской армии в Испании? Разве вы не тот самый полковник Фернан, который предал, продал, убил своего благодетеля Али? А разве все эти Фернаны, вместе взятые, не обратились в генерал-лейтенанта графа де Морсера, пэра Франции?
— Негодяй! — воскликнул генерал, которого эти слова жгли, как раскаленное железо. — Ты коришь меня моим позором, быть может, перед тем, как убить меня! Нет, я не хотел сказать, что ты не знаешь меня; я отлично знаю, дьявол, что ты проник в мрак моего прошлого, что ты перечитал — не знаю, при свете какого факела, — каждую страницу моей жизни; но, наверно, в моем позоре все-таки больше чести, чем в твоем показном блеске! Да, ты меня знаешь, не сомневаюсь, но я не знаю тебя, авантюрист, купающийся в золоте и драгоценных камнях! В Париже ты называешь себя графом де Монте-Кристо; в Италии — Синдбадом-Мореходом; на Мальте — еще как-то, уж не помню. Но я требую, я хочу знать твое настоящее имя среди этой сотни имен, чтобы выкрикнуть его в ту минуту, когда я всажу шпагу в твое сердце!
Граф Монте-Кристо смертельно побледнел; его глаза вспыхнули грозным огнем; он стремительно бросился в соседнюю комнату, сорвал с себя галстук, сюртук и жилет, накинул матросскую куртку и надел матросскую шапочку, из-под которой ниспадали его длинные черные волосы.
И он вернулся, страшный, неумолимый, и, скрестив руки, направился к генералу. Морсер, удивленный его внезапным уходом, ждал. Когда он увидел преобразившегося Монте-Кристо, ноги у него подкосились и зубы застучали, он стал медленно отступать и, натолкнувшись на какой-то стол, остановился.
— Фернан, — крикнул ему Монте-Кристо, — из сотни моих имен мне достаточно назвать тебе лишь одно, чтобы сразить тебя; ты отгадал это имя, правда? Ты вспомнил его? Ибо, невзирая на все мои несчастья, на все мои мучения, я стою перед тобой сегодня помолодевший от радости мщения, такой, каким ты, должно быть, не раз видел меня во сне, с тех пор как женился… на Мерседес, моей невесте!
Генерал, запрокинув голову, протянув руки вперед, остановившимся взглядом безмолвно смотрел на это страшное видение, затем, держась за стену, чтобы не упасть, он медленно добрел до двери и вышел, пятясь, испустив один лишь отчаянный, душераздирающий крик:
— Эдмон Дантес!
Затем с нечеловеческими усилиями он дотащился до крыльца, походкой пьяного пересек двор и повалился на руки своему камердинеру, невнятно бормоча:
— Домой, домой!
По дороге свежий воздух и стыд перед слугами помогли ему собраться с мыслями; но расстояние было невелико, и по мере того как граф приближался к дому, отчаяние снова овладевало им.
За несколько шагов от дома граф велел остановиться и вышел из экипажа.
Ворота были раскрыты настежь; кучер фиакра, изумленный, что его позвали к такому богатому особняку, ждал посреди двора; граф испуганно взглянул на фиакр, но не посмел никого расспрашивать и бросился к себе.
По лестнице спускались двое; он едва успел скрыться в боковую комнату, чтобы не столкнуться с ними.
Это была Мерседес, опиравшаяся на руку сына; они вместе покидали дом.
Они прошли совсем близко от несчастного, который, спрятавшись за штофную портьеру, едва не почувствовал прикосновение шелкового платья Мерседес и ощутил на своем лице теплое дыхание сына, говорившего:
— Будьте мужественны, матушка! Идем, идем скорей, мы здесь больше не у себя.
Слова замерли, шаги удалились.
Граф выпрямился, вцепившись руками в штофную занавесь; он старался подавить самое отчаянное рыдание, когда-либо вырывавшееся из груди отца, которого одновременно покинули жена и сын…
Вскоре он услышал, как хлопнула дверца фиакра, затем крикнул кучер, задрожали стекла от грохота тяжелого экипажа; тогда он бросился к себе в спальню, чтобы еще раз взглянуть на все, что он любил в этом мире; но фиакр уехал, и ни Мерседес, ни Альбер не выглянули из него, чтобы послать опустелому дому, покидаемому отцу и мужу последний взгляд прощания и сожаления, а стало быть, и прощения.
И вот, в ту самую минуту когда колеса наемного экипажа застучали по камням мостовой, раздался выстрел, и темный дымок вырвался из разлетевшегося от сотрясения окна спальни.
Назад: V КРАЖА СО ВЗЛОМОМ
Дальше: XVI ВАЛЕНТИНА

